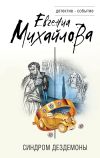Текст книги "Альпийский синдром"
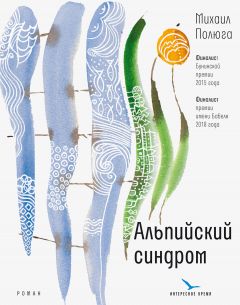
Автор книги: Михаил Полюга
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
9. И Аз воздам!
Все решилось в одни сутки. Все-таки пришлось идти в травмпункт и там врать, что свалился с лестницы, потом меня быстро и вполне цинично, как загнанного коня, осмотрел хирург (хирургу пришлось соврать о том же), сообщил, что порваны связки, и назавтра велел явиться для госпитализации.
– Если боитесь операции, – хирург ухмыльнулся мне в лицо и хрустнул суставами пальцев с рыжими жесткими волосками, – можете отказаться: так или иначе, заживет. Но одно плечо будет ниже другого. Будет болтаться, вот как сейчас – вверх-вниз…
«Не отвертеться, – уныло подумал я, тотчас проникаясь неприязнью к этому самодовольному типу, так мерзко, так нагло похрустывающему передо мной пальцами. – «И Аз воздам!» – в обличье рыжего коновала. Зарежет – и глазом не моргнет».
– Нет-нет, не боимся! – почуяв, что я скажу сейчас нечто резкое и злое, чего не стоило говорить, опередила меня Даша. – А операция… – Она, по всей видимости, хотела спросить, не опасна ли операция, но увидела на моем лице злые желваки и спросила об ином: – …когда?
– Скоро, – отрезал рыжий, но все-таки снизошел и смягчил тон. – Вы не волнуйтесь: разрезали, сшили, зашили – всего делов-то.
«Попадись ты мне, уж я бы тебе разрезал, сшил и зашил! – возмутился я, еще и потому злобясь, что хирург оказался прав: я боялся операции, даже самой пустячной, – и, не в силах совладать с этим унизительным, подкожным страхом, ощущал себя не лучше побитой собаки. – Что с него взять? Рыжий он есть рыжий!»
– Посмотрите, – продолжал хирург, обращаясь исключительно к Даше и вертя меня точно манекен. – Здесь делаем небольшой разрез, – чиркнул он по моему плечу пальцем с крупным, коротко подстриженным ногтем, как будто орудовал скальпелем, – затем сшиваем связки, схватываем шурупом кости, чтобы связки спокойно срастались. Ведь любое усилие, двинул плечом или еще что – и связки опять того… А месяцев через шесть срастутся – снова на стол: разрезали, шуруп вывернули, – и будет вам счастье.
«Как, еще раз?! – меня даже передернуло от слов коновала. – Неужели это только начало? За один неверный шаг? Или таких шагов сделано у меня не счесть и все они вели на обочину под Сокольцом?..»
Когда мы наконец выбрались из пыточной на свободу, и брызнуло в глаза яркое летнее солнце, а теплый ветерок освежил наши лица, Даша взяла меня под локоть и сказала:
– Ничего страшного, и это переживем. Сегодня же откажусь от поездки – думаю, еще успеют найти замену – и… все будет хорошо.
Какой поездки? Ах поездки! На днях она подрядилась везти на отдых к морю группу детей-сирот и вот теперь надумала отказаться. Великодушно, но неумно: чем она могла помочь мне? Особенно теперь, когда видеть ее и говорить с ней было для меня и неловко, и в чем-то тягостно. Ведь куда ни глянь, о чем ни подумай, я выглядел слабаком, который по самонадеянности угодил в погибельную ситуацию, в трясину, в которой барахтается, бьется, а выбраться невредимым не может. Тогда уж лучше, как ослабевшему зверю, укрыться от всех и вся (и от Даши, и от Даши!), забиться в потайную нору (то есть уйти в себя) и переждать в одиночестве.
Я на мгновение закрыл глаза и представил забившегося в нору зверя – почему-то тощего лиса, решившего обмануть охотника, угодившего в капкан и скрывшегося со сломанной лапой, – и зверь этот не понравился мне. Чтобы отогнать навязчивое видение, я встряхнулся, взъерепенился и стал возражать Даше:
– Ни в коем случае, езжай! Эти десять дней я проваляюсь в больнице – что тебе здесь делать? Станешь варить мне суп? Суп и мать сварит. Езжай, все равно ремонт накрылся, отпуск – тоже. А так хоть море увидишь. Кстати, у тебя там помощник захворал – так возьми с собой Игорька: он и подсобит, если что, и мне спокойней, и проветрится после… нашей с ним истории…
Но Дашенька упиралась, я настаивал, затем даже прикрикнул – и она сдалась, подавленно, со слезами в голосе сказала:
– Если настаиваешь, я поеду. Но это нехорошо, это неправильно…
На следующий день я лег в больницу, а еще через два дня Даша увезла группу к морю. Поехал и Игорек – с вытянутым лицом, остро выступавшими скулами и неспокойными глазами. Прощаясь, он точно хотел спросить: «Что же будет?» – но не решался и все заглядывал в глаза, будто ожидал какого-то последнего уверения-слова. Но такого слова не было у меня, и я только и всего, что бодро улыбнулся, пожал парню руку и пожелал хорошо отдохнуть, ни о чем не думая и понапрасну не тревожась. Хотя в душе понимал: какой там отдых, одна неопределенность и маета…
– Уехала? – на другой день ехидно поинтересовалась мать, явившаяся в больницу с приготовленным для меня обедом: куриным бульоном, отбивной котлетой, гречневой кашей и сырниками в сметане. – Хорошо устроилась: пока ты здесь, она – там…
– Мама! – вздохнул я с укоризной.
– Что – мама? Мама бы тебя не оставила. Ма-а-ма! Еще смеешь на меня рот разевать. Я, между прочим, была сегодня у окулиста. Катаракты нет, но это пока нет. Окулист обеспокоен. Тебе ясно? – обеспокоен. Прописал капли, покой. Категорически запретил нервничать, волноваться, а ты – мама! Попал под влияние жены? Не думала, что у меня сын – подкаблучник.
– Вот и отдохни. Полежи на диване, послушай концерт, на худой конец разгадай кроссворд. Врач велел – выполняй. А здесь неплохо кормят, и не надо, не заморачивайся с этими бульонами. Завтра не приходи, а лучше – дня через два-три. У тебя вид усталый.
– У меня? У меня катаракта, а вид вполне здоровый, что ты мне голову морочишь! Сегодня в поликлинике один тип из очереди так и сказал: во всех отношениях здоровая женщина. Думал без очереди проскочить – и нарвался: как наскочил, так и отскочил.
Она состроила довольную гримасу и захохотала.
А назавтра с утра в палату явилась медсестра, вколола мне в мышцу какой-то дряни – как она сказала с усмешкой, успокоительного – я взобрался на кровать-каталку, и меня, точно ребенка малого, повезли в операционную. Надо ли говорить, что накануне ночью я плохо спал и, то проваливаясь во мрак кромешный, то выныривая к свету, видел нечто, ни на что не похожее и на первый взгляд бессмысленное. Промелькивали какие-то лица, неузнанные, но явно – не моего нынешнего мучителя, рыжего хирурга, собравшегося меня потрошить, какие-то неясные фрагменты живых картинок, какое-то упорное и неуловимое движение, – и все это, едва придя в чувство, я тотчас забыл. Но ощущение неопределенности и тяжести на душе, какое бывает после дурного сна, не уходило. И вот теперь, под скрип кроватных колесиков проплывая по коридорам, выложенным плиткой и ведущим, как подумалось мимоходом, в преисподнюю, я скашивал глаза и зачем-то пытался запоминать обратный путь – выход из лабиринта, – а еще каждую секунду ожидал успокоения под воздействием лекарства, а не того отупения чувств, в каком пребывал. В этом отупении даже стыд, что молоденькая медсестра, почти девочка, катит на каталке здорового мужика и что встречные-поперечные разглядывают меня с сочувственной ухмылкой, в какой-то миг стал никчемным и безразличным: ее дело катить, их – смотреть и ухмыляться, мое – наплевать на все и плыть в неизвестность.
Но вот приплыли…
Операционная – не больше комнаты с высокими потолками, посреди – крытый клеенкой стол, горка белоснежных простыней, стрекозьи глаза ламп над изголовьем. Несколько медсестер, молодых и не очень, возятся у столика с лекарствами и пыточным инструментом: скальпелями, шприцами, пилками и еще чем-то, не менее отталкивающим и жутким.
«Хорошо, что я в плавках, – мелькает неповоротливая мысль. – Не буду сверкать перед девицами голым задом».
Медсестры берутся перекладывать меня с каталки на стол, но не тут-то было: плавно перетекая в пространстве, я сползаю на ноги и укладываюсь на прокрустово ложе, ощущая лопатками и икрами прохладу клеенки. Кто-то из медсестер заглядывает мне в лицо, потом крепко прихватывает скрученным бинтом запястье и привязывает к боковине стола.
«Это еще зачем? – возмущаюсь я, едва ворочая языком. – Не стану вас обнимать, и не просите».
Медсестра сдержанно хихикает, но руку не отпускает.
«Другую вязать не будут, – догадываюсь я, – другую будут резать и держать одновременно. Интересно, что за гадость они мне вкололи? Точно обкурился или в нирване…»
Тут знакомая физиономия наклонилась надо мной, и рыжий хирург, чтоб ему пусто было, с кривой ухмылкой справился о моем самочувствии.
Не дождешься! – едва не выпалил я, но эти негодяи что-то вкололи, – и я против воли растянул губы и прошепелявил, вяло и невнятно, что чувствую себя хорошо.
– Ну, вот и славно! А поскольку вы отказались от общего наркоза, то сейчас сделаем местный. Будет немного неприятно, укол в шею. Готовы?
Я закрыл глаза, и тотчас ощутил укол где-то выше ключицы. Но то ли рука у рыжего сплоховала, то ли он на самом деле решил поиздеваться, но попасть в нужное место с первого раза не сумел. Наполовину вытянув из шеи иглу, он воткнул ее снова, и снова не попал – и так шпынял несколько раз, пока удовлетворенно не крякнул:
– Ну вот, порядок! Приступим.
– И аз воздам!.. – отозвался я, едва шевеля губами и ощущая онемение во всем теле.
10. Альпийский синдром
Несколько дней я лежал в палате с закованным в гипс предплечьем и то смотрел в окно, на продолжавшуюся без моего участия заоконную жизнь, то с особым тщанием перечитывал «Войну и мир» Толстого – где еще постигать эту глыбищу, как не в полном одиночестве на больничной койке?! Палата у меня была двухместная, предоставленная, как я понял, с учетом служебного положения пациента, то есть меня, напарник уже два дня как выписался, и я очень рассчитывал, что новый появится не скоро.
Плечо постепенно заживало, – по крайней мере, рыжий хирург уверял меня в этом, даже позволил незначительные нагрузки, и я то и дело пытался шевелить пальцами руки и приподнимать локоть. Но непривычное, тягучее ощущение чужести плеча, засевшее глубоко в подсознании, не отпускало. Я гнал от себя это ощущение, бывало даже – забывал о нем, когда злоключения Наташи Ростовой, вверившейся Анатолю Курагину, достигали своего апогея, – тогда я откладывал книгу и думал о Даше. Каково ей там, на море, – одной, с ватагой сорванцов? Не липнет ли к ней, пока пролеживаю казенную койку в больнице, какой-нибудь современный наглый Анатоль? От природы я всегда был ревнив, но утаивал это чувство глубоко в себе, – и тем не менее оно, это чувство, как червь в яблоке, исподволь грызло меня изнутри.
«Не прощу! – злобился я, представляя, одну за другой, немыслимые скользкие ситуации, в которых оказывалась моя Даша, и тут же прибавлял, понимая, что подобные домыслы гроша ломаного не стоят: – Если узнаю… если только узнаю!..»
Следом приходило раскаяние: «Как не совестно?! Она не может, она не такая…»
Но червь в яблоке продолжал грызть: «Не такая? А какая? Ты-то сам какой?»
В самом деле, какой? Ранее я старался не касаться этого естественного, жизненно важного вопроса о себе, гнал подобные размышления, опасался их, потому что чувствовал: что-то за ними кроется такое, чего лучше не знать и не понимать, куда безопаснее не соваться, как в неведомую захламленную темную комнату – со спичечным коробком. Но теперь, на больничной койке, когда с наступлением очередной ночи начинало ныть плечо, и выползали на стены и потолок смутные тени, и заглядывала в окно тревожная, мертвенная, зеленовато-болотного оттенка луна, мысли эти стали необходимы. Почему со мной, не с кем-то другим случилось то, что случилось? В чем я виноват, и виноват ли вообще? А может, я самый невинный из виноватых?
Однажды я набрел на интересное высказывание женщины-психолога, имя которой запамятовал: «Портрет поколения – это признак травмы». Далее она развила свою мысль: общество – альпийский луг с разнотравьем, но если по этому лугу прошлась газонокосилка, остается стерня. Портрета поколения быть не должно – люди разные. Но если портрет есть, узнаваемый, внятный, четкий, то это уже как подстриженный луг, где вместо разнотравья колючая стерня, – а значит, поколение носит признак исторической травмы.
Интересный взгляд, если не сказать – глубокий. Но альпийский луг – не обязательно общество, речь может идти об отдельно взятой семье. Если по этой семье, по этому разнотравью, прокатила газонокосилка истории, каким может быть портрет в третьем поколении? То-то и оно, что стерня! Один мой дед, человек честный и порядочный, был расстрелян в 1938 году по нелепому приговору «тройки». Другой, не шибко грамотный, с детских лет учился изворачиваться, хитрить, выживать: в Гражданскую войну – под красными и белыми, в Отечественную – под немцами, в голодные тридцатые и сороковые – под мудрым руководством партии и правительства. Мой отец, нервный, несдержанный, импульсивный, накануне войны с кем-то повздорил, был в два дня осужден по Указу о борьбе с хулиганством и оказался на Урале, на военном заводе. И то, что произошло с ними, никуда не делось, не исчезло, а, думается, передалось по наследству мне.
И вот он, мой портрет, скрытый от чужих, посторонних глаз за ширмой легкого нрава, добродушия и порядочности – колючая неприглядная стерня, оставшаяся от лугового разнотравья после покоса. Вот оно, мое второе я! Газонокосилка поработала на славу: внешне беззаботный, веселый малый, я ношу в своей корневой системе потаенный страх, я в себе не уверен, робок и скрытен, а чтобы утаить эти стерневые срезы, бываю агрессивен, нетерпим и упрям, но в то же время, при необходимости, лжив, увертлив и гибок – не то чтобы пролаза, но себе на уме. При этом редкая для меня удача – профессия, которую избрал по воле случая, и мое прокурорское кресло: в нем, в кресле, легче скрывать комплексы и страхи. Но в этом сочетании (или несочетании) характера и кресла, скорее всего, и сокрыта истинная причина случившегося со мной под Сокольцом.
При воспоминании о Сокольце снова навалилась тоска – неизбывная, тягучая, злая. Я гнал ее прочь, но она, точно гвоздь в башмаке, не исчезала, и все мои недобрые предчувствия и страхи пробуждались вместе с ней. Какой-то альпийский синдром, черт его дери! – и в нем, в этом синдроме, заключена скрытая сила и слабость моего характера.
С детства я боялся высоты, но, преодолевая страх, лазил по деревьям и крышам, а однажды, в тринадцать лет, прыгнул с вышки в парке культуры и отдыха. С земли вышка казалась не так чтобы высока, и веселый праздный люд, мужчины, женщины и подростки, красиво и величественно слетали на пристегнутом к тросу парашюте, как пушинки огромного одуванчика. Мы с матерью стояли внизу и, задрав головы, смотрели на очередную «пушинку», и тут мать спросила: «Прыгнешь?» – и с хитрым прищуром поглядела на меня, как если бы не сомневалась в моем отказе. Душа тотчас затрепетала у меня, как у зайца, мышцы ног обмякли, а под ложечкой стало легко и пусто и до тошноты засосало. Но другая черта характера – строптивость – взяла свое: как же, стану я на глазах у матери праздновать труса! И я молча, наперекор страху, на негнущихся ногах потянулся к проклятой вышке. Металлическая, ажурная, четырехугольная, со сквозными пролетами, вышка вблизи ужаснула головокружительной крутизной, и чем выше поднимался я на эту Голгофу, тем более медлил, останавливаясь и с опаской, краем глаза взглядывая вниз. Там были деревья – не выше декоративного кустарника, крыши игрушечных павильонов и муравьиные кучки людей, среди которых я не узнал матери. А поднявшись по гулким ступеням, я и вовсе потерялся, ухватившись за перила и не смея ступить дальше, на огороженную заборчиком и насквозь продутую сильным упругим ветром площадку для прыжков. Не знаю, как долго я стоял там, борясь с мыслью завернуть обратно, но в какой-то миг меня подхватил за плечи дюжий молодец с шальными насмешливыми глазами, спросил: «Ты зачем здесь? Прыгать? Тогда давай!» – мгновенно опоясал меня ремнями, отпер в заборчике калитку и пихнул в спину. «О-о-ох!» – провалился я в преисподнюю, хлестнуло ветром, сознание остановилось – и тотчас случился за спиной рывок, падение замедлилось, и, пробудившись, я уловил плавное скольжение книзу.
И другие страхи вспомнились, и преодоление этих страхов. Всякий раз перед экзаменами или спортивными соревнованиями у меня были проблемы с желудком, но я сдавал экзамены и, бывало, приходил на дистанции первым. И оказывалось, что страхи были пустячными: я опасался неверного ответа и второго места на финише. Теперь-то, с возрастом, пришло разумение, что это не страхи вовсе, а гордыня. Как и с женщинами, которые мне нравились, но с которыми опасался сблизиться, – вдруг буду отвергнут? Как и с женщинами, которым нравился я, – пришлось бы при расставании назваться лжецом. Что, собственно, одно и то же: страх стыда оказаться отвергнутым, униженным и осмеянным, и страх выглядеть не тем, кем мнил себя втайне от других.
До сих пор помню женщин, которые глядели многообещающе и даже шептали о своей любви, краснея, запинаясь, перебарывая себя (как часто они, женщины, бывали бесстрашнее меня в сердечных делах, как загоняли в тупик своими полными надежд и стыда взглядами!), припоминаю и свои жалкие глаза, постыдно уведенные после таких признаний в сторону…
Одна такая, небольшого росточка, плотно сбитая шатенка с темными трогательными усиками над верхней губой, помнится, вымолвила на втором году учебы в институте, посреди учебной пары, склонив голову и заглядывая в меня, как в пропасть: «Я люблю тебя, Женя». Струсив, я втянул голову в плечи и оглянулся по сторонам – не услышал ли кто-либо, не догадался ли? – а потом сделал вид, что слов этих не было произнесено вовсе. Она поняла и погасла, а я после того случая старался не бывать рядом с нею, сторонился ее – вдруг снова заговорит о любви. А на последнем курсе она вышла замуж, и, выпивая на ее свадьбе, я с легким сердцем кричал «горько!».
«Итак, она звалась… Оксана, – не без доли самодовольства улыбнулся я трогательному воспоминанию. – Интересно, как она живет, что с ней?»
Были и еще страхи. Я опасался встречи с хулиганами – из-за неумения драться не смог бы постоять за себя. Дрожал перед призывом на военную службу – тяготы не страшили, но возможные неуставные отношения, да еще при моем характере, могли быть погибельны для меня. Пугала женитьба, и я, как мог, оттягивал свадьбу с Дашей, – а все потому, что не был уверен, смогу ли привязаться к дому, взвалить на себя ответственность за семью. Но и здесь рано или поздно наступало преодоление…
Но было еще кое-что, непреодолимое. При поступлении в институт и после, при зачислении в прокуратуру я утаил в автобиографии сведения о расстреле деда и судимости отца. Какая дрожь охватила меня после этой лжи умолчанием, какой трепет в ожидании неминуемого разоблачения! Вот уж где портрет в третьем поколении проявился в полную силу: стерня стерней…
И я закрывал глаза и пенял судьбе, но тотчас спохватывался и повторял увещевание пророка Иеремии: «Зачем сетует человек живущий?»
Памятник на дороге под Сокольцом был тому увещеванию порукой…
А на пятый день случилось нечто из ряда вон выходящее. Я шел по коридору отделения с подвязанной рукой, – и вдруг резкая боль в плече перегнула меня пополам. Постояв так секунду-другую и вслушиваясь в себя, ощущая неимоверную слабость и головокружение, я на полусогнутых ногах вернулся в палату и нажал кнопку вызова. Явилась сестра, следом за ней – рыжий хирург, несколько пристыженный, с вытянувшимся лицом в пигментных подпалинах на сухой нездоровой коже и с насупленным видом, за которым крылось если не осознание вины, то, по крайней мере, некоторая неловкость из-за плачевного результата операции. Но его кислая физиономия не порадовала меня – не до того теперь было. Плечо у меня снова провисло, и боль возвращалась приступами, и слабость была такая, что хоть ляг и умри.
Но лечь не дали, а снова потащили меня в рентгеновский кабинет.
– Кусочек кости отломился, – разглядывая снимок, пояснил рыжий и покосился на меня с недоумением и упреком, точно винил меня в чем-то. – В том месте, куда ввинчен шуруп. Как это вы ухитрились? Переусердствовали с нагрузкой? (Это, оказывается, не он, это я ухитрился и переусердствовал!) Придется снова на стол…
Все у меня похолодело внутри: как, еще раз?!.
Несмотря на то что повторную операцию делал другой хирург (рыжий отбыл в отпуск, но мне почему-то подумалось – благоразумно устранился) и этот другой вместо шурупа ловко и быстро закрепил плечо спицей, мне это не доставило большой радости. В полном упадке сил лежал я в палате и не то чтобы не хотел – не мог принять более удобную позу, пошевелить рукой или ногой или посмотреть, что происходит там, за окном. Только кнопка вызова, желтый плафон под потолком и потерянное, плывущее, перетекающее сквозь палату, как ленивая вода, время наполняли мое сознание зыбкостью бытия. И в зыбкости этой не было места размышлениям и воспоминаниям: куда там, зачем, быть бы живу…
И вот однажды я проснулся среди ночи, но не от жажды, как прежде, а от легкого чувства голода, почти забытого за эти последние больничные дни. Ущербная луна глядела во все окно, и сизо-голубое сияние расползалось по стенам и потолку, так что нужды включать свет, чтобы отыскать на тумбочке что-либо съестное, не было у меня. Не вставая с постели, я достал из кулька овсяное печенье и стал жевать. Печенье показалось вкусным как никогда. Я достал еще одно, – и тут сообразил, что чувствую себя лучше, чем накануне. Чтобы убедиться в этом, я спустил ноги с кровати, нашарил на полу тапочки и прошелся по палате – сначала осторожно, маленькими шажками, шаркая по паркету подошвами и для верности балансируя левой рукой, потом тверже, увереннее, ровнее. Так и есть, немощь отступила! От ощущения внезапного счастья я ничего другого не придумал, как вполголоса воскликнуть строками из Фета: «Сияла ночь. Луной был полон сад…» И как бы отвечая Фету и мне, луна тепло и ласково воссияла во все окошко.
Я негромко засмеялся, подмигнул плешивому лунному диску, забрался на кровать, уселся и поджал под себя ноги.
«Вот и через это переступил», – подумал о последних своих страхах – перед операцией и рыжим коновалом, даже перед ненадежным шурупом, подло вывернувшимся из плечевой кости. Но что упустил я за эти зыбкие дни, от чего не по своей воле отстранился? Да, машина! Спрятанная в гараже на маслозаводе машина… Официально – я в отпуске, машина на ремонте, – чего зря беспокоиться? Но возможно ли утаить, возможно ли так спрятать, чтобы никто не пронюхал, не проболтался, не прошумел, где надо и где не надо? И снова холодок скользнул ко мне за ворот. Но возможно ли утаить? – мучительно думал я и сам себе отвечал: нет, невозможно! Где угодно, только не у Мирошника – сдаст и глазом не моргнет. Но тогда какой из создавшейся ситуации выход? И есть ли он вообще?
И я размышлял, прикидывал так и эдак, но не находил выхода. Ведь если мне все-таки улыбнется счастье и о происшествии под Сокольцом никто не узнает, то с машиной никакие ухищрения не помогут: денег на ремонт у меня нет, да и весьма сомнительно, что эта мятая консервная банка подлежит ремонту. А раз так, придется предъявить машину руководству и попытаться объяснить необъяснимое…
И мимолетное мое счастье мигом улетучилось, как и не было его вовсе.
Луна сияла, сна не было ни в одном глазу, и чтобы прогнать проклятые мысли о невозможности для меня благоприятного исхода, я стал вспоминать, как на следующее утро после моего представления в Приозерске, застолья в занюханной колхозной столовой и заключительного аккорда того памятного дня – зайчатины в сметане – отправился руководить прокуратурой района.