Текст книги "Альпийский синдром"
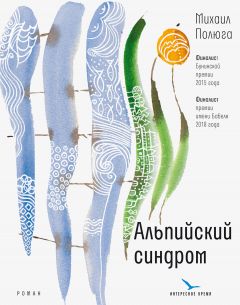
Автор книги: Михаил Полюга
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
19. Любимая моя
Меня передернуло, едва вспомнил ту утреннюю сцену, презрительный, полный сожаления взгляд и слово, которым Даша припечатала меня впервые за нашу недолгую совместную жизнь: мерзавец. В тот день и еще несколько дней подряд я пытался объяснить ей то, что объяснить было невозможно. И в самом деле, явись в подобном виде домой она, поверил бы я хоть одному ее слову? Простил бы или сразу указал от ворот поворот?
Наконец в субботу мы купили на рынке котенка, черного, мохнатого, с упрямым, своенравным характером, – жена была в восторге, назвала котенка Абрамом Моисеевичем, целый день нянчилась и играла с ним, – и незаметно мы помирились. А чтобы перемирие переросло в прочный мир, в воскресенье утром я сел за руль «семерки», и мы с Дашенькой отправились в небольшое кругосветное путешествие.
Она спросила: куда мы едем? Я молча пожал плечами и улыбнулся: там увидишь. Тут она вскинула на меня глаза, всмотрелась, подумала, помолчала, затем забралась на пассажирское сиденье и стала смотреть на дорогу.
День выдался пасмурный. Невидимая летучая влага лепилась к стеклу, дворники изредка, как бы нехотя, помахивали из стороны в сторону, асфальт темнел бутылочным стеклом, был у обочин скользок и тем опасен для лысой разномерной резины, которую мне все не удавалось заменить. Поэтому я вел осторожно, стараясь держаться середины дороги, – благо было воскресенье и машины почти не попадались нам на пути.
Едва выучившись водить, я полюбил автомобиль и дорогу. Когда было тоскливо и одиноко, дорога утихомиривала тоску и скрадывала одиночество. А уж если рядом сидела любимая женщина и, притихнув, не сводила глаз с ломких водяных струек на стекле, такое умиротворенное, благостное счастье нисходило в душу, что хотелось воскликнуть вслед за Фаустом: «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!»
В тот день ее пепельно-русые волосы не были схвачены узлом, лежали свободно на плечах, – и она изредка поправляла длинную воздушную прядь, прикрывавшую часть лица, когда вскидывала на меня вопрошающие глаза: скажешь ты наконец, куда едем, за какой надобностью? Но я делал вид, что сосредоточен на дороге, и тогда она мило морщила вертикальную морщинку на переносье и снова отворачивалась к стеклу.
«Интересно, за что она меня полюбила? – думал я, поглядывая на жену краем глаза. – И любит ли, любит? Что такое любовь, если, бывало, душу из Дашки готов вытрясти, но только представлю жизнь без нее – видится нечто никчемное, пустое?! «Тайна сия велика есть…» Да, велика тайна…»
И снова она поглядела, и снова я изобразил, что все внимание уделяю ближайшему перекрестку…
Так мы проехали километров тридцать, проскочили окраину Козельска, миновали то место, где две недели спустя лежал вверх тормашками в мокром кювете, рядом с городским кладбищем, в разбитой «семерке»… Как же умеет пошутить жизнь! Проезжая с Дашей то место, я был полон совершенно иных чувств: любви, благодарности, упоения дорогой. И даже памятник у обочины – какому-то несчастному, погибшему на этом месте в дорожной аварии, – не развеял моих счастливых мыслей. Ведь беды и несчастья, которые случаются с другими, по определению не могут случиться со мной…
– Можно включить магнитофон? – прервала мои размышления Даша. – Что ты слушаешь без меня? Игорек на днях хвастал новыми записями…
Кассетник достался нам по наследству, вместе с «семеркой», и, как и следовало ожидать, оказался убитым и хрипучим. Но меломан Игорек привел «старика» в чувство, приволок из дому несколько кассет и развлекал меня по пути на работу и обратно. И вот теперь, роясь в бардачке, я прикидывал, что поставить. Игорек увлекался попсой: «Нэнси» – «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист»… А мне хотелось чего-то нового, особенного, для Дашеньки. И я выбрал хит года – песню какого-то Вячеслава Бутусова «Любимая моя».
Едва Бутусов вполголоса затянул: «День молча сменит ночь за твоим окном, любимая моя» – Даша недоуменно и подозрительно подняла на меня глаза. «Что это? – уловил я во взгляде. – Это о ком?»
– «Ты у меня одна, и не нужно слов», – несколько опешив, козлиным голосом подтянул я, а сам подумал: неужели она все теперь будет увязывать с тем вечером, когда явился в непотребном виде после купания на Горке?..
Ревность – порок и большая глупость, вертелось на языке, но я вовремя одумался, разглядев, что лицо у нее сделалось болезненно-несчастным, губы задрожали, будто хотела заплакать, да гордость не позволяла. Музыка, черт бы ее побрал, не всегда бывает уместной и благотворной, – увы мне, увы! Оставалось одно верное, веками проверенное средство – или веление сердца, кто как понимает, – я резко выжал тормоз, остановился на обочине, обнял ее за плечи, отыскал губы… Сперва она упиралась, отталкивала меня ладонями, затем поддалась, прильнула, ответила…
При воспоминании о поцелуе у меня перехватило дыхание. Странное дело: чем дольше мы с Дашей были вместе, тем чаще приходили на память лучшие наши мгновения – от прикосновения до первой близости – и таких мгновений было не счесть. Но когда пытался воссоздать в воображении всю нашу с ней жизнь, прожитое сжималось, спрессовывалось в одно непрерывно длящееся мгновение. Чтобы наполнить его, я разбирал старые фотографии – вот она до меня, юная, далекая, навсегда потерянная в неизвестности, вот в непростое время знакомства, близости, неуверенности, когда отстраненность сменялись надеждой и робким чувством, еще не названным, но уже живым, как зарождающийся в лоне матери человечек.
Что жизнь? Мгновенье! А светлое оно, черное или бесцветное, каждый решает для себя сам.
– Неужели все-таки любишь? – спросила она, слегка запыхавшись, и из чувства противоречия, а может быть, по причине застарелого комплекса, мне самому не вполне ясного, я немедля заслонился забралом, изобразив на лице: вот еще! ты это о чем?
Глаза ее, и без того близорукие, сделались почти слепыми. «Только не плачь, только не плачь!» – взмолился я, обозвал себя ослом и, лихорадочно придумывая, чем бы отвлечь жену, залопотал:
– А вот погляди, Дашенька, село. Называется – Соколец. На холме над дорогой – ты увидишь – строится храм. Возвели только стены, но, проезжая, я каждый раз почему-то надеюсь увидеть купола…
Даша и не хотела – вытянула шею, всмотрелась, поправляя очки и щуря глаза, но с этой части дороги храм не был виден, – и тогда она едва слышно вздохнула, словно обиженный ребенок, отвернулась к окну и стала смотреть куда-то в сторону, на полосу кустарника, протянувшуюся вдоль обочины.
Поехали дальше. Пытаясь сгладить случившееся, я говорил без умолку – что вот он, Приозерский район, что село направо от дороги – Белиловка, а налево – Вольнополье. Название-то какое: Вольнополье! – от слов «воля» и «поле»… Но Даша молчала, только изредка взглядывала на меня, неохотно и как бы поневоле, и снова отворачивалась к окну. Но когда замелькали первые дома Приозерска, за ними – водная гладь Раставицы, перегороженной хитрой дамбой с заставками-запорами для рыбы и оттого широкой и просторной, она заметно оживилась и начала вертеть по сторонам головой. А когда я отворял ворота прокуратуры и загонял машину во двор, опустила боковое стекло и не без любопытства оглядела двор, крыльцо черного хода, гараж и невзрачное отхожее место за гаражом.
– Вот, значит, где… – неопределенно сказала она, поднимаясь вслед за мной на крыльцо. – И ведро в предбаннике…
– Это колодезная вода. Чтобы пить. И еще для чая, кофе…
– Надеюсь, кофе завариваешь сам? Или из чужих рук?..
– Разумеется, сам, Дашенька! – поспешил заверить я с невинностью прожженного лжеца. – Кто же еще заваривает, если не я?
В кабинете она стала на пороге, сковырнула ногтем пластинку краски на дверной коробке, засохшую и покоробившуюся, будто столярная стружка, прижала носком ноги задравшийся край линолеума, который Игорек вот уже месяц как собирался приколотить к полу. Потом подняла недоуменные глаза: что это? Око государево?
– А чего ты ожидала? – пожал я плечами с глубоким вздохом. – Район как район. Прокуратура в шевченковской хатке. А это, моя милая, кабинет провинциального чиновника. Водопровода нет. Денег на ремонт нет. Нужник во дворе. Видишь розетку? Не болтается? Укрепил – и уже счастлив: могла долбануть током…
– Я не об этом. Бог с ним, с кабинетом. Я о том, что часть твоей жизни теперь здесь. Без меня…
Тут я обнял ее и закрыл рот поцелуем. Что значит «без меня», если ты всегда и везде со мной рядом?! Вот и теперь, вот и теперь…
– Я будто брошенка, – пыталась высвободиться из моих объятий она. – А здесь… Твоя вода, твой кофе, твой письменный стол, твоя розетка… Твой нужник во дворе… Тебе не страшно, что я во всем этом потеряюсь? Или уже потерялась. Вчера приехал домой под утро, полуголый, может, завтра вообще не явишься?
– Дашенька!..
Она наконец высвободилась, отодвинулась, пошла к выходу. И уже из канцелярии на мгновение обернулась и смерила меня не то насмешливым, не то укоризненным взглядом:
– А кофе тебе заваривает секретарша. Кофеварка – у нее на полке, и две чашки рядышком стоят…
20. Дворянское гнездо
Когда мы подъезжали к Верховне, погода переменилась. Сначала серые облака истончились, стали полупрозрачными, как застиранная ветхая марля, затем пошли на разрыв – и уже посверкивало сквозь прорехи августовское, слепящее солнце.
У въезда в село асфальтовое покрытие сменилось брусчаткой, и чтобы не греметь убитыми амортизаторами, я свернул на разъезженную обочину и на первой передаче скатился под гору. Спуск был крутым, я принужден был то и дело выжимать тормозную педаль, и стертые колодки тотчас отзывались визгом, гнусавым и истошным.
– Ах! – воскликнула Даша, дергая меня за рукав. – Озеро! И два лебедя! Погляди, два лебедя! Ну вот же, вот!..
И точно – под горой, по левую сторону от дороги, посреди серебристо-стальной водной глади виднелись две белые птицы, важные и невозмутимые. «Как любовь и смерть, – почему-то подумал я. – Те тоже во всем белом…»
– Это, милая моя, все та же Раставица, – сказал я, направляя машину по узкой дороге, после крутого спуска снова забиравшей в гору между рекой и каменным забором, за которым воздымались вековые кряжистые дубы. – Лет двести тому назад где-то здесь была оборудована купальня. Дно выстелено дубовыми колодами, чтобы господа, купаясь, ног не грязнили. А от дворца в купальню вел подземный ход, обложенный кирпичом. Зачем ход? Говорят, у Вацлава Ганского была манечка: любил подземные ходы.
– Из дворца? Какого дворца? – завертела головой Даша. – Подземный ход? Где-то здесь? И Ганский – это тот самый?..
– Тот самый. Подземного хода, положим, давно нет. И купальни нет. А дворец сейчас увидишь.
Через распахнутые ворота я завернул на территорию усадьбы, проехал по асфальтовой дорожке между деревьями на выстеленный плитами двор и остановился у входа в большое величественное здание, оштукатуренное и выкрашенное охрой, с широким крыльцом и сдвоенными белыми колоннами, увенчанными треугольным фронтоном.
– Это изюминка Приозерского района, – сказал я, распахивая дверцу и подавая Даше руку. – Дворец графов Ганских, или, как некоторые злословят, любовное гнездышко Эвелины Ганской и Оноре де Бальзака. Сегодня у нас бальзаковское воскресенье…
Даша вышла из машины, вопросительно на меня поглядела, и я тотчас присовокупил к сказанному, что теперь в имении агротехнический колледж. Есть еще музей и старинный парк, правда, несколько одичавший, – но чем черт не шутит, вдруг понравится. Вдруг?! Глаза ее засияли, и по тому, как мгновенно она преобразилась – расправила плечи и вскинула подбородок, словно потомственная аристократка или гимнастка, – как пошла к особняку, не отпуская моей руки, я понял, что угодил.
Несколько человек высаживали цветы на клумбе у крыльца. Здесь же стоял директор колледжа Владимир Игнатьевич Черных, мужчина средних лет с крупным, мясистым лицом, на котором выделялись живые карие глаза и нос картофелиной. Вглядевшись, он приязненно раскинул руки и заспешил нам навстречу.
– Вот так так, Евгений Николаевич! Вот так так!
Он бежал вперевалку, но двигался удивительно легко и проворно для своего большого, плотно сбитого тела, и я внезапно подумал о нем: тюлень с выразительными печальными глазами! Подбежав, «тюлень» ухватил обеими руками мою ладонь и встряхнул, почтительно и вместе с тем не без показной бравады, за которой (я знал это со слов Савенко) крылось воспоминание о нескольких днях, проведенных в изоляторе временного содержания в связи с уголовным делом о недостаче, впоследствии благополучно закрытом после проведения повторной ревизии. Пожимая руку, Черных то и дело ускользал взглядом на Дашу, вскидывал брови, переминался с ноги на ногу, вздыхал, и грусть-печаль в его глазах становилась еще глубже и неизбывней.
– Жена давно хотела полюбоваться вашими красотами, – пояснил я, сообразив, что тот мучительно думает, как обращаться к женщине, которую я привез: мало ли кого сюда втихомолку возят на рандеву…
– О! Наши красоты – это, скажу вам, что-то невероятное! – воскликнул Черных и вдруг, изловчившись, поцеловал Даше руку. – Наши красоты, наши красоты… Все покажем, все увидите… Оксана Васильевна! – позвал он, и от группы людей, возившихся на клумбе, отделилась и подошла к нам женщина с простым грубоватым лицом и вымазанными в земле руками навскидку. – Оксана Васильевна, познакомьтесь: наш прокурор, Евгений Николаевич. А это его супруга… Как вы сказали? Дарья Михайловна? Очень приятно, Дарья Михайловна! Оксана Васильевна вымоет руки и все вам покажет, она у нас не только педагог со стажем, но по совместительству еще и экскурсовод. А я, с вашего разрешения, займусь одним неотложным делом и через полчаса к вам присоединюсь.
Черных еще раз попытался поймать Дашину руку, но та, предвосхитив попытку, спрятала руку за спину и с преувеличенным вниманием принялась разглядывать горельеф фронтона – музу с лавровым венком в руке, зачем-то взобравшуюся на круп лошади.
– Это центральный фронтон, – подала голос наблюдательная Оксана Васильевна, все так же удерживая на весу грязные руки. – Есть еще парковый – по ту сторону здания. Изображает торжество дочери Зевса над земными страстями.
– Что изображает? – переспросил я с видом наивным и простоватым – и Черных тотчас раскланялся и заковылял к дому, а Даша ухватила мой локоть и, за спиной у Оксаны Васильевны, смешливо двинула меня в бок.
Затем экскурсия началась.
Уже в первые минуты, несмотря на начало августа, мне стало казаться, что угодил в пору глубокого увядания и тлена – осень всего сущего в этом забытом Богом уголке.
Первым делом бросилось в глаза, что дом оштукатурен кое-как, грубо и неумело, – не графский дворец, а глинобитная селянская хатка. Рыжевато-желтая краска, нанесенная поверх штукатурки, ко второму этажу вылиняла, приобрела бледно-лимонный оттенок. При этом от фундамента и до карниза крыши видны были размашистые мазки и разводы.
– Все сами… Силами студентов и преподавателей… – высмотрев следы недоумения на моем лице, вздохнула Оксана Васильевна. – Вот если бы нам статус памятника культуры … А так числимся по другому ведомству: какой-то агротехнический колледж… Пойдемте лучше в парк…
Минуя один из двух боковых флигелей, где при графах была кухня, мы обогнули здание, прошли вдоль ризалита с шестиколонным портиком – здесь штукатурка местами потрескалась и просела, а давно некрашеные колонны казались серыми и унылыми, – и направились в парк.
В тени парковых деревьев было сумеречно, прохладно, тихо и не менее заброшенно, чем возле дворца. По левую сторону от тропинки, которой шли, показался ров, заросший по скатам травой; через ров был перекинут арочный мостик, сложенный из подернутого мхом серого камня. По правую сторону, в некотором отдалении, стояла унылая церквушка с похилившимся от времени куполом и заколоченными досками арочными окнами.
– Семейная церковь Ганских – Ржевуских, – повела рукой вправо Оксана Васильевна. – Под ней – усыпальница, в революцию была разграблена. Все было разграблено. Устроили спортзал: в часовне – баскетбол, в усыпальнице – останки… Теперь пытаемся восстановить: купол там починить, перекрыть крышу, расчистить вход в усыпальницу. Денег нет, но Владимир Игнатьевич хлопочет…
– Замечательно! – восхитился я, и Даша снова саданула меня локтем. – Я к тому, что идущий обрящет…
– Ищущий, – поправила меня Даша. – Ищущий да обрящет.
Ступили на арочный мостик: угрюмые камни, седой мох, пыль веков – все впечатлило, навеяло на романтический лад. Особенно когда Оксана Васильевна поведала, что при Вацлаве Ганском ров был заполнен водой и по нему плавали экзотические черные лебеди, привезенные из далеких краев.
Даша стала у перил, прикрыла глаза, задышала часто и глубоко. И мне, каюсь, нечто этакое привиделось…
За мостиком тропинка повернула влево и побежала вдоль высохшего рва. Деревья по сторонам были огромны, не деревья – исполины, но многие подточены временем и старостью; особо дряхлые сбрасывали сухие ветки, а умершие зияли жуткими дуплами, шелушились облезлыми стволами, качали в вышине безлистыми хрупкими ветками. Но и здесь жизнь продолжалась: в кустах, сиреневых и жасминных, копошились и пели птицы, высовывались из травы какие-то желтые, фиолетовые, розовые цветы, а на дикой яблоньке, самочинно пробравшейся в заветный парк, наливались кислые бело-розовые плоды.
– А вот пробковое дерево, – сказала Оксана Васильевна, указывая на стройный ствол с ободранной с одной стороны корой. – Полюбуйтесь, вчера были посетители. С виду приличные люди… Каждый раз просим: если так уж хочется – отломите кусочек пробки на память… А они вот как…
Подошли ближе: у корней несчастного дерева валялся огромный пласт содранной коры. Нагнувшись, я отщипнул кусочек – кора была легкой, почти невесомой и на удивление теплой, как будто оставалась живым деревом, а не умершей его частью.
– А эти цветы занесены в Красную книгу, – указала на невзрачный стебелек с крохотными бордовыми соцветиями Оксана Васильевна. – Так уж и быть, один можете подарить жене. Только он нестойкий, сразу вянет. А вот если в гербарий, как память…
Тут кто-то окликнул ее с противоположной стороны рва, из-за мостка, сваренного из металлических листов-пластин, и она с улыбкой заторопилась:
– Мне дальше не надо. Дальше пойдете вот по этой тропинке и метров через пятьдесят увидите… Там Аллея любви… Ну, где Бальзак встречался с Эвелиной… Потом они возвращались по этому мостику – он был деревянный и не гремел железом, как гремит нынешний. Мы его называем Мостиком поцелуев – они как бы целовались на нем… Или Мостиком вздохов, если она почему-то прийти не могла… Идите, туда надо вдвоем… А я сбегаю домой, за ключами от музея…
Она пошла, и когда ступила на мостик, тот на самом деле загремел, да так, что я невольно улыбнулся: какие при таком грохоте поцелуи!..
Затем сорвал заповедный цветок и с шутовским поклоном подал Даше.
– Не пахнет. Он совсем не пахнет! – поднеся стебелек с соцветиями к лицу, засмеялась она – как заливается переливчатым, дробящимся смехом счастливый ребенок. – Но такой нежный, бархатный! Вот и у меня, вот и у меня аленький…
Тут в груди у меня стало тепло и горестно, и сразу расхотелось шутить. Как ей удается, и как всегда удавалось простые обыденные вещи превращать в то, что не выговорить словами, – в чувство? Аленький цветочек… Вот и у нее – аленький… От меня…
А потом была Аллея любви – обыкновенная тропинка в обыкновенном не то парке, не то диком лесу. Но уже что-то переменилось, и Даша шла, едва слышно ступая и низко опустив голову, и в этой ее походке, и в хрупкой, как бы надломившейся шее мне внезапно открылось, что безмерно люблю – и ее походку, и склоненную голову, и детскую шею с трогательно выступавшими позвонками, и всю ее, Дашу, Дашеньку. Остановившись, я секунду-другую смотрел жене вслед, пока не замедлила шаг и не повернула ко мне любимое вопрошающее лицо. Но я уже не различал черт ее лица – только глаза, только глаза…
– Ну вот, и мы на этом месте поцеловались, – сказала она, запрокинув голову и не отрывая от меня взгляда. – Эта аллея теперь наша. Как думаешь, они не будут протестовать? Тогда… Может, здесь все-таки скажешь?..
И я наконец произнес слова, о которых Даша просила, – немо шевеля губами, но она все равно услышала, просияла и прижалась ко мне, нежно и благодарно.
21. Кузница милицейских кадров
Черных дожидался нас у бокового входа в особняк.
– Ну, как вам наш ампир? – живо поинтересовался он, глядя печально и томно, – и я вдруг подумал, что смуглостью и восточными глазами Владимир Игнатьевич напоминает индуса – факира или заклинателя ядовитых змей. – А вам, Дарья Михайловна, как вам?
– Замечательно! Слов нет, – с искренней горячностью отозвалась Даша. – Вот только запущено как-то…
– Деньги… Были бы деньги, – сожалеюще развел руками «индус». – А желание есть: порушенное воссоздать. Если не в первоначальном виде, то хотя бы приблизительно. Например, музей… Прошу за мной, сейчас своими глазами увидите… Оксана Васильевна принесла ключи, ждет… Вход с торца, чтобы студентов от занятий не отвлекать, а то бывает – приезжает группа за группой…
Мы вошли в полутемный коридор и стали подниматься по массивной дубовой лестнице на второй этаж. Рассохшиеся от времени ступени негромко поскрипывали, толстые балясины и широкие перила сужали и без того тесное пространство, но мы с Дашей ухитрялись не разжимать рук. Перед глазами у нас мелькали темно-зеленые «индусские» брюки, и, следуя за синтетическим шарканьем штанин, я мысленно восклицал: «Какой музей? Какой, к черту, музей?! Скорее отсюда – домой, с Дашей, к ее объятиям и теплым губам!..» В какой-то миг я придержал жену за руку, жарко поцеловал в уголок рта, и она вдруг зарделась, как школьница от первого прикосновения, летуче ответила и застучала каблучками по дубовым ступеням.
– Пожалуйте, Дарья Михайловна! – откуда-то сверху донесся сладкий и певучий баритон Черныха. – Музей у нас в трех комнатах: вот гостиная, а там рабочий кабинет и спальня. Ольга Васильевна покажет экспозицию… А где же?.. Евгений Николаевич, ау!
«Уа!» – едва не огрызнулся я, но Дашенькины губы на время превратили меня в котенка, и я только и всего, что глупо улыбнулся и пошел на зовущий голос.
Происходившее дальше припоминалось смутно и как-то отдаленно; так в зрелости пытаются припомнить собственное, не осознанное младенчество. Круглый картежный стол под зеленым сукном, резной сервант, украшенный чем-то наподобие короны или вензеля, книжный шкаф и стопка книг в нем, камин с голыми женскими торсами по сторонам фасада, якобы доставленный для Бальзака из Франции…
– Хотите, подарю такой торс? – с готовностью предложил Черных, не спускавший с меня и Даши прилипчивого взгляда. – Один скульптор, когда восстанавливали камин, сделал на всякий случай копию…
Я отмахнулся. Тогда он взял стоявшую в углу толстую дубовую палку со сдвоенной, отполированной до блеска рукояткой и подал мне со словами:
– Для прогулок. Раскладывается: раз – и одноногий стульчик. Он всегда ходил с этой палкой, и когда уставал – раскладывал и садился. Вот так…
Черных с треском раздвинул сдвоенную рукоятку, и она превратилась в подобие сиденья, напоминавшего два дубовых лепестка. Но испытать хитрое приспособление пятой точкой я не пожелал: еще, чего доброго, усядусь – и потянет писать романы!..
Даша тем временем не на шутку увлеклась: разглядывала, спрашивала, трепетно касалась каждого экспоната, хотя, по большому счету, разевать рот было не на что: ну, спальня, ну, карточный стол для именитых бездельников, ну, камин с голыми бабами!.. Я с нетерпением подгонял часы: все не шел из памяти «аленький цветочек», сорванный для Дашеньки на Аллее любви…
Но вот в кабинете, грубо выбеленном желтовато-серой известкой, Даша внезапно заинтересовалась розоватым пятном на стенке, сковырнула кусочек отслоившейся штукатурки, всмотрелась, негромко сказала: ах! Мы вытянули шеи, по очереди потрогали пятно, похожее на лишай, – под слоем штукатурки крылась облицовочная плитка, мягкая и теплая, с мраморными разводами.
– Неужели?! – воскликнула Оксана Васильевна. – А ведь Оноре писал в Париж о роскошных апартаментах в Верховне: кабинет из розового мрамора, камин, чудесные ковры… Я еще думала: о чем он, какой мрамор? А мрамор – вот он, мрамор, бледно-розовый… А, Владимир Игнатьевич? Вот бы нам…
– Да-да, Оксана Васильевна, – засуетился «индус», еще раз ковырнул стенку и закивал головой. – Обязательно, непременно! Если под штукатуркой искусственный мрамор – очистим, отмоем, чтобы как при Оноре… Дело, так сказать, чести… И какой дурак оштукатурил, если там красота?..
Пользуясь моментом, я тронул жену за локоть:
– Дашенька, может – домой?..
– Нет-нет, Евгений Николаевич, а зал? – немедля подскочил проворный Черных и, втиснувшись животом между мной и Дашей, принялся соблазнять: – А подземный ход? Вы флигель видели? Там была кухня, а между кухней и дворцом прорыли подземный ход: удобно и быстро – от плиты к столу… Мы расчистили, что могли, вам непременно надо посмотреть. Дарье Михайловне будет интересно. А еще напоследок такое вам покажу!..
Я глянул на Дашу и по глазам понял: вошла во вкус. Стану противиться – порушу то хрупкое, что между нами связалось в парке. Она ведь упрямая и обидчивая, моя жена…
И точно: в бальном зале с хорами – нынче актовом, с рядами стульев и лекторской тумбой из крашеной фанеры – Даша высмотрела под штукатуркой, залепившей стены и карниз, нечто этакое…
– Барельефы? А я что говорила! – с плохо скрытым упреком глянула на директора Оксана Васильевна.
– Очистим! – с готовностью отозвался «индус», глядя неотрывно и пристально, будто факир – на кобру, воздымающуюся из корзины под звуки дудки. – Будьте спокойны, завтра же распоряжусь. Одно слово, вандалы!..
«И этот вошел в раж, – с невольной ухмылкой подумал я. – И что за день сегодня такой? О чем еще она говорит? На хорах музыка играла?..»
На выходе из зала Оксана Васильевна простилась с нами, и я вздохнул с облегчением. Но не тут-то было: неотвязчивый Черных принялся зазывать в свой кабинет, обращая масличные глаза к Даше (нащупал, черт пучеглазый, мое слабое место!) и намекая на сюрприз, который ожидает нас там.
В кабинете, на приставном столе, как я и предполагал, обнаружилось блюдо, накрытое вышитой салфеткой, граненые стопки и десертная тарелка, на которой подплывал соком лимон, нарезанный неровными дольками.
– Владимир Игнатьевич!.. – хотел было предостеречь я.
– А как же без этого, Евгений Николаевич, дорогой! – опередил меня прохиндей, ловко запустил руку в сейф, достал бутылку коньяка и встряхнул ею с таким торжеством на лице, как если бы добыл не обыкновенный коньяк, а по меньшей мере эликсир бессмертия. – Как же без этого? Всенепременно – за знакомство! По маленькой, а, Дарья Михайловна?
– Я за рулем, а Дарья Михайловна не пьет, – отрезал я, но вышло не так жестко и убедительно, как хотелось, – лукавая Дашина улыбка помешала.
Уловив слабину в моем голосе, «индус» пробормотал нечто невнятное: «Не питие, а для расширения сосудов…» – шустро сковырнул пробку, разлил коньяк по стопкам, затем сдернул салфетку с блюда.
«Бутерброды с вареной колбасой, что ж еще! – и не хотел – покривился я. – Как и положено в графском замке. Еще бы баночку кабачковой икры для затравки…»
Выпили, и Даша потянулась за бутербродами: один подала мне, другой принялась жевать сама.
– Ах какая у вас жена, Евгений Николаевич! Какая жена! – начал было Черных, но тотчас осекся, натолкнувшись на мой встречный, ничего доброго не обещающий взгляд, и ловко переменил тему. – Все правильно: пребываем в запустении и невежестве. Вот отскребем, очистим от штукатурки красоту – и милости прошу с визитом! Хотя что мы? Агротехнический колледж! Но не поверите, а пользуемся спросом. Вот хотя бы милиция… Треть райотдела с нашим дипломом. А среднеспециальное образование, между прочим, не что-нибудь: дает право на получение офицерского звания, вплоть до майора. Взять хотя бы начальника следственного отдела Германчука…
– Спасибо, нам пора, – не очень вежливо перебил я говоруна.
– Евгений Николаевич, на дорожку?.. И вот что еще покажу…
Расплескивая коньяк, Черных наполнил стопки. Затем юркнул в нишу за сейфом и сразу вернулся с продолговатым предметом, обвернутым в кусок плотной байковой ткани.
– Вот, чинили крышу, – торжественно сказал он, укладывая предмет на стол и неспешно освобождая от ткани. – А там, между балкой и кровельной жестью…
Ткань соскользнула, открылись черные с позолотой ножны и тусклого золота эфес, – и я с невольным восхищением воскликнул:
– Сабля!
– Именная! На клинке гравировка: «Адаму Адамовичу Ржевускому за храбрость», – сказал Черных, на вытянутых руках подавая мне саблю, словно храбрецом был я, а не один из последних владельцев Верховни.
– Но как же?..
– Видимо, кто-то из наследников в революцию спрятал на крыше. Вот и пролежала, пока крыша не протекла. А ребята нашли. – И, углядев жадный, сияющий блеск моих глаз, тяжко вздохнул. – Я ее в областной музей отдам – от греха… Уже пытались один раз украсть, сейф взломали. Еще посадят, если узнают… Или не посадят? Может, повременить? А, Николаевич? Говорят, ей цена – сто двадцать тысяч долларов… Поляки хоть сейчас купят…
Ох уж этот змей-искуситель!..
– В музей! – вздохнул я, не без сожаления возвращая саблю Черныху. – Только под расписку. А то ведь всякое может статься…
Под конец, когда коньяк был выпит, а бутерброды съедены, проклятый «индус» стал заманивать нас в подземный ход. Даша вскинула на меня глаза, я махнул рукой: делайте, что хотите!
День почему-то потускнел, наваливалась усталость, хотелось забраться в машину – и домой. Может быть, поэтому возбужденное сияние Дашиных глаз ничего, кроме раздражения, уже у меня не вызывало: с чего бы ей так сиять? Какая надобность лезть в крысиную нору, узкую, затхлую, с грязными космами паутины и просевшей кирпичной кладкой? Здесь и двум человекам не разминуться, да еще торчит на пути брюхо с прилипчивыми индусскими глазами… Пусть Дашка только попробует протискиваться мимо этого брюха, пусть только попытается к нему прикоснуться!..
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































