Текст книги "Кладовая солнца"
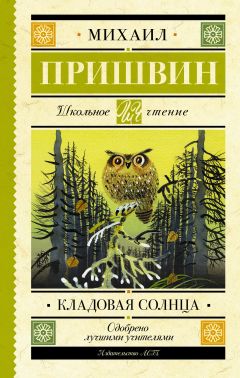
Автор книги: Михаил Пришвин
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 41 страниц)
– По-моему, – сказал он, – с этой теорией творческой личности можно себе историю представить как угодно и как у Иловайского – борьба добрых и злых индивидуальностей. Теория субъективистов совершенно несостоятельна.
Услыхав эти слова, Салопова оторвалась от микроскопа и с вызовом сказала:
– Значит, вы марксист?
– А что же из этого, если и марксист, – ответил Алпатов, – я ищу закона в истории, а не борьбы духов; понимаете: за-ко-на.
Миша говорил и дивился себе, как будто он спускал с крючка в себе самом совершенно нового человека и тот говорил отдельным голосом.
Одна учительница, длинная, сухая, с бородавкой на щеке, глаза мутные, навыкате, вдруг бросила разглядывать на стене диаграмму, быстро подошла к Алпатову и представилась:
– Экземплярова. Вы ищете социологического закона? – сказала она спокойно и наставительно, как старшая. – А разве формула прогресса и роли личности в нем недостаточно вам говорят о законе? Вы ведь, конечно, знаете социологическую формулу Михайловского?
Миша не имел понятия о формуле Михайловского, но тому его новому, боевому человеку невозможно было сказать «не знаю» и отдаться в руки врагов. Он ответил на счастье:
– В этой формуле слишком много места отведено личности и очень мало закону. Мы не можем противопоставить себя силе экономической необходимости.
– Значит, по-вашему, нам остается только сидеть сложа руки?
– Нет, – сказал в Мише новый человек, – история, как беременная женщина, несет в себе новую жизнь, мы призваны облегчить эти роды, мы – акушеры.
Салопова вспыхнула, стала совсем похожа на помидорку и ответила:
– Вы пятиалтынные, а не акушеры, вас чеканят по одной форме, и все вы говорите одними словами, по Марксу.
Новый человек в Мише тоже рассердился:
– А вы говорите по Михайловскому и сушите цветы. Зачем вы их сушите? Любовались бы их живыми личностями! Су´шите растения, жуков, бабочек и сами вместе с ними засыхаете все…
Это было уж и неловко. Все замолчали. Но стенные часы ударили, выговаривая: «Что правда, то правда».
– Мне надо спешить, – сказал Алпатов, подавая Жукову руку.
А Жуков смотрел на него глазами, полными любви и участия. Ему говорить было нечего. Спор ушел куда-то совсем не в его сторону.
За спиной у себя Миша услыхал голос Салоповой:
– Какой пламенный прозелит!
Но сам Миша чувствовал себя первый раз в жизни как победитель и дивился: раньше думал о себе, что совсем не способен к спорам, а тут вдруг сразу взялось откуда-то и как будто совсем из ничего.
Смутно чувствовал он себя виноватым в чем-то перед Жуковым, и от этого немного где-то щемило. Но он и это погасил в себе думой: «Если у меня взялось из ничего, то, наверно, то же и у них, я не знаю формулы Михайловского, а они, наверно, не понимают Бельтова. Куда им!»
Клавесины
Давно, еще в четвертом классе гимназии, когда Мише Алпатову с помощью Несговорова приходилось расставаться с детской верой в Бога, один только раз Миша, провожая Ефима, дошел до самой калитки его дома в Ямской слободе, на берегу реки. С тех далеких времен у Миши осталось воспоминание, что Ефиму почему-то нельзя было позвать приятеля к себе в дом, а сестры его, гимназистки, выглядывали из-за цветов. Приходилось не раз видеть Ефима на улице с одной из его сестер, но, когда подходил к ним, сестра Несговорова отступала и сторонкой шла сама по себе. Раз, прощаясь с Ефимом, он вздумал и ей поклониться, но она, вспыхнув, отвернулась и на поклон не ответила. Другой раз он ее встретил одну лицом к лицу и кланяться не стал, но хорошо заметил, что она поклона ожидала и потому опять вспыхнула. С этого времени Миша про себя стал звать эту высокую тонкую девочку Спичкой.
«И так это удивительно, – думал Миша теперь, разыскивая в слободе дом Несговоровых, – что пропадет совсем из памяти и вдруг зачем-то встает опять, и с такой ясностью?»
Но где был этот дом, деревянный, покошенный и в два этажа, он никак не мог вспомнить, а путаница переулков все увеличивалась. Это была каша лачуг, серых заборов, завалинок, лавочек, а иногда вдруг ни с того ни с сего, как видение, показывалась и радовала цветущая яблоня. Далеко внизу, у самой воды, кто-то пел прекрасным тенором «Ваньку Ключника». Алпатов спросил у одного старика на завалинке про дом Несговоровых, и он сразу его указал: дом был тут, рядом.
– А кто это там поет у реки?
– Бурыга, – ответил старик.
– Что за Бурыга?
– Ну, известно кто: вор Бурыга, он и поет, больше тут петь некому, в нашей жизни только вор и поет.
В калитке дома Несговоровых, как обыкновенно, висела веревочка с узелком. Как только Миша потянул за веревочку, калитка сама побежала во двор. Тогда перед глазами Миши все побежало: пожилая женщина, прикрыв ладонью грудь, мальчик, две девушки, а третья, в черной юбке и белой кофте навыпуск, уходила, делая вид, что не спешит. На дворе лежали старинные клавесины с отвинченными ножками. Все, видимо, и хлопотали около этих клавесин, и, когда калитка открылась, вдруг разбежались.
Однако та стройная девушка свой шаг все сбавляла; видно, ей противно уходить и она с собой борется. На крыльце она останавливается, обертывается, высокая, гордая, и будто собирается в случае чего броситься и укусить. Миша сразу узнал в ней Спичку, но сделал вид – не узнал, и спросил, это ли дом Несговоровых. Недружелюбно ответила девушка, что Ефима нет дома.
– Он скоро придет, – сказал Алпатов, – можно мне у вас его подождать?
– Как хотите.
Но не на улице же ему ждать.
– Мне нужно к нему по делу.
– По какому делу?
Миша почти рассердился. Ведь он теперь смелый. Не за пустяками, как обыватели, идет он к Ефиму.
– По какому делу? – говорит. – По кон-спи-ра-тив-но-му.
Спичка вспыхнула и, опустив глаза, сказала:
– Идите.
В это самое время через незакрытую калитку входит Ефим, глядит на клавесины, на Мишу, на сестру, и в глазах его смущение и неудовольствие, как будто Миша не должен был проникать сюда. Но это быстро прошло. В маленькой комнате с покривленным полом и множеством книг Ефим передает Алпатову и «Капитал» Маркса, первый том, и «Эрфуртскую программу», и Бебеля, и Меринга, и Каутского. Немецкие книги были в обложках с французскими титулами муниципальных отчетов. Ефим рассказал, что такие книги можно выписывать от Жерара из Парижа и даже наложенным платежом, только в письме надо упомянуть условные слова: «Прислать в сброшюрованном виде».
И еще много всего конспиративного рассказал Ефим, не догадываясь, что каждое слово его ложится в Мишину душу камнем нового храма, в котором долго он будет молиться по-новому. Когда они потом вышли на двор, Миша спросил, глядя на разобранные клавесины:
– Ведь эта сердитая девушка, с которой я разговаривал, твоя сестра? Да, я помню ее. Почему же она такая сердитая?
Ефим опять насторожился, – поморщился, как будто Миша не должен был спрашивать про сестру, и, кажется, если бы он позволил себе ответить, то сказалось бы: «Оставь, пожалуйста, мою семью в покое, это тебя не касается». Миша быстро понял и, чтобы предупредить, может быть, резкий ответ, сказал шутливо:
– В этих клавесинах, мне кажется, скрывается какая-то мне враждебная сила.
Ефим сконфузился и вдруг, как бы смахнув с себя неловкость, сказал:
– Я купил это сестрам вместо рояля у одного купца за четырнадцать рублей… У нас это маленькое семейное событие: мы стали вроде как бы порядочные люди, а в щелки забора всюду глаза и разговор. Мы этого глазу тут боимся, как дикари. Я не уверен, что сейчас в нас не полетит камень. Они называются мещане, но по существу своему это люмпен-пролетариат. Тут в каждой лачуге злоба шипит. У нас тут всего только два-три человека сознательных.
Совсем недалеко, где-то в сплетении заборов, откашлянулась пропитая и промахренная женская глотка. Услыхав это, Миша сказал:
– Вот Чертова Ступа откашлянулась.
Ефим даже вздрогнул.
– Как же успел ты узнать про Чертову Ступу?
– А вот, слышишь, это вор Бурыга поет. Но я тебя еще больше удивлю сейчас: скажи мне, Ефим, кто такой Данилыч?
Ефим внимательно и странно посмотрел на него.
– Не удивляйся же, Ефим, это – моя особенность, я давно это заметил, что когда попадаю в новое место, то вдруг все без всяких усилий с своей стороны узнаю, как-то по звукам, по запахам. Вот запахло пряниками, это значит – табатерки идут с фабрики. А там коровы ревут, значит, стадо вступает в город, я люблю, что коровы сами расходятся по своим улицам, и когда наконец добредет какая-нибудь к своему дому и нет хозяйки, то ревет она не простым коровьим, а каким-то музыкальным голосом, и если хозяйка это услышит, то выходит из дому и разговаривает с коровой тоже особенным, музыкальным голосом. Почему ты, Ефим, все злобу видишь вокруг? Есть везде какая-то музыка любви…
– Да, – сказал Ефим, – недаром я тебя шалуном назвал, только у нас тут, в Ямской слободе, мало коров, хорошо еще, если кто козу имеет, да и ту мальчишки камнями забивают, тут, я тебе скажу, такая музыка… Но все-таки скажи мне, как же ты узнал про Данилыча?
– Это мне Голофеев нечаянно проговорился, только ты не смущай его. Ты мне скажешь?
– Нет, – ответил Ефим, – не обижайся только: ты должен сам все узнать на деле, болтать не будем. И потом тут надо больше догадываться, вот как ты по звукам… Понимаешь?
Алпатов махнул головой. Он теперь понимал хорошо, почему на него рассердилась та гордая девушка: за то, что из-за него все бежали, и что она сама пробовала – за это, и что ей пришлось остановиться и обернуться, а кофта была выпущена, и ворот пришлось рукой придерживать: пуговка-то, верно, оторвалась.
Одумка
Хорошо ли сделала Мария Ивановна Алпатова, что, задумав выделить сыновей и освободить себя от мелочей хозяйства, выпавших ей после смерти няни, она вдруг им объявила свободу? Не лучше ли было бы ей еще из последних сил поработать два-три года, пока сыновья не кончат, не станут на ноги, а потом бы и начать устраивать себе покойную старость?
Мысль эта однажды ее поразила и остановила ее вечное движение в хозяйстве. Она присела на балконе, глядела в одумке на многими годами пробитую няней очень извилистую тропинку от крыльца дома и до ледника.
Да, что бы ни говорили о свободе живой воды, размывающей даже каменные утесы, но повороты реки и весь ход ее определяются встречными препятствиями, и все это вместе у реки называется берега, а у людей – судьба. Но если бы все шло по судьбе, так и не виляла бы жизнь, как тропинка, река. Конечно, и Мария Ивановна вильнула с прямого пути. Но что же теперь делать? Не вернуться ли назад? Нет, теперь уже невозможно назад, так уж, верно, и остаться этой излучине.
Уже расчетливый и холодный Сергей все обделал в губернии, получено разрешение на раздел от опеки, и от банка, и от лесоохранительного комитета, и уже Николай повалил половину дубков, ошкурил, и дубовая кора запродана кожевнику по хорошей цене. Но самое главное, что сыновья, почуяв свободу, совершенно переменились и решительно вступили на самостоятельный путь.
Вначале только Александр порадовал было Марию Ивановну решением жениться на Мане Отлетаевой. Против раннего брака она ничего не имела и так говорила об этом Калисе Никаноровне:
– Я не против раннего брака, а то ведь какая у нас несправедливость: от девушки требуют, чтобы непременно была чистая и пахла яблоками, а сами женятся, когда от них уже запахнет козлом.
– Эх, Мария Ивановна, – отвечала купчиха Калиса Никаноровна, – до седых волос ты дожила, а все продолжаешь либеральничать. Саше ведь только год остается учиться – кончил бы, а потом доктором уже и женился.
– Он и так кончит: на это у нас есть средства. А Маня на редкость славная девушка. Я считаю, что из среднего дворянства выходят самые лучшие жены; если жаждешь денег, женись на купчихе, но если хочешь обеспечить в семье любовь и долг, то надо жениться на бедной дворянке.
Дворяне – нож вострый в сердце Калисы Никаноровны, но против женитьбы купеческих сыновей на дворянках она ничего не имела: это облагораживает, часто спасает купца от пьянства. И когда сын одного знатного елецкого купца взял себе институтку, и еще смольную институтку, и с шифром даже, то Калиса Никаноровна первая сказала: «У этого мальчишки губа не дура».
– Только вот что, Мария Ивановна, – сказала Калиса Никаноровна, – Отлетаевы – самые легкомысленные люди, вспомните, про кого только можно сказать хорошее, кого назвать?
И правда ее: у Отлетаевых мужчины были все незначительные и часто попадались феномены: один вмиг промотал имение, поступил контролером на железную дорогу и так по легкомыслию своему поставил там дело, что только чудак берет билет, большинство по железной дороге ездит зайцами; другой, когда банк отобрал имение, переселился к мужику и даже мужика испортил, пьянствует с ним, спит с его женой и охотится с единственной уцелевшей борзой.
Подумав, Мария Ивановна сказала:
– Я согласна, да, мужчина у дворян вырождается несомненно, а женщины – я не думаю: и у Отлетаевых, и у их родственников Дудениных есть прекраснейшие женщины и девушки. Почему так, не знаю, но факт несомненный: женщины значительней мужчин.
– А потому это, Мария Ивановна, что на женщину все ложится трудное в жизни, мужчины у них – охотники, корнеты, игроки, а женщины хозяйство ведут, одни слабнут, а другие крепнут; не будь этого, наши купцы и мужики давно бы всех этих дворняжек выгнали метлой из уезда.
– Не очень рассчитывай, Калиса Никаноровна, и на купцов, – говорила Мария Ивановна раздумчиво. – Дворяне все-таки долго существовали и вырождаются постепенно: видишь часто неверный глаз, дубоватость в мозгах, а манеры все-таки дворянские. Не смейся, манеры очень поддерживают строй жизни и особенно, когда к манерам и образование. А купцы наши сразу пропадают от обжорства и пьянства. Не надейся и на крепкого мужика, на арендатора: на каждого такого мужика приходится двадцать голоштанников, а то теперь еще разные шахтеры пошли, посадчики. Ведь ни один годовой праздник в деревне без ножа не обходится; как праздник, так уже непременно следователь скачет в деревню. Наш чернозем страшный, судьба его темная, и это недаром пишут: оскудение центра.
– И-и… брось, Мария Ивановна, пророчить, вот подойдет война, – доживем, и людей опять проредят.
– Разве вот только война, да ведь на это как-то все-таки совестно рассчитывать, Калиса Никаноровна, мы же ведь все-таки люди…
– А разве в этом мы виноваты, Мария Ивановна, это уж такая судьба. Вот и ты, разве хотела раздела, а умерла няня, и стало невмоготу. Ты вот гляди, как бы сыновья-то при разделе не подрались.
– Ну, это глупости, – оборвала Мария Ивановна разговор с ретроградной Калисой Никаноровной.
Нет, ее не то мучило, что Саша рано женится – это даже очень хорошо, – а что Саша совершенно переменился к ней и стал как чужой. Он появляется только, чтобы всем видом своим, всеми жестами и словами выразить презрение к ее мещанской жизни. С каким глупым восторгом, например, он рассказывает, что один из дядей его невесты, охотник Александр Дмитриевич Отлетаев, никогда не умывается.
– Что же тут хорошего, значит, он всегда грязный?
– Он росой умывается.
– Без мыла?
– Он говорит, что роса чище мыла моет.
И уже явно в пику матери рассказывает, как Отлетаевы умеют ладить с мужиками, что у них даже никакой воркотни не услышишь, отлично живут.
– Саша, – спрашивает мать, – но как же так это может быть? Вот у нас в эту зиму мужики страшно голодали, я раздавала им деньги и муку, но под залог: ты видел сам, у меня вся зала была завалена полушубками и всяким хламом. Теперь они все выкупили, отработали. А думаешь, пошли бы они на работу, если бы я не брала полушубки? Я не знаю, какая может быть у помещика с мужиком идиллия. Расскажи мне подробней, мне это очень интересно, ведь нечего глаза на жизнь закрывать, мы все живем, выколачивая копейку из мужика.
– Да вот как, – отвечает Саша, – прошлый год после обеда Александр Дмитрич, по своему обыкновению, лег в сарай на сеновал отдыхать. Стучится мужик. «Ты что?» – «Должок принес». – «Ну, воткни в бревнушко тут, направо от тебя, в щелку, а я посплю и возьму». Через год приходит тот же мужик и опять просит денег. «Рад бы, – говорит Александр Дмитрич, – да у самого только двугривенный. И потом же ты все равно мне не отдашь, прошлый год я дал тебе, а ты не отдал и еще просишь». – «Как не отдал? – изумился мужик. – Да вы же сами мне велели в щелку сунуть: „Посплю, – сказали, – и возьму“». – «А и правда, – вспомнил Александр Дмитрич, – неужели же ты туда сунул?» – «Перед Истинным…» – «Не божись… коли там, возьми». Пошли, посмотрели: там.
– Высшая безалаберность, – с раздражением сказала Мария Ивановна, – настоящий Обломов. А кто же у них хозяйство ведет?
– Все ведет Екатерина Семеновна, но никто не слышит и не видит, как она его ведет.
– А ты бы, Саша, присмотрелся, это бы тебе пригодилось потом. Я теперь совершенно уверена, что вся эта милая жизнь, как ты рассказываешь, ложится на спину Екатерины Семеновны: на одной стороне легкомыслие, на другой долг, вот так и сводят концы с концами. Бедная Екатерина Семеновна, я знаю этот тип: это Долли из «Анны Карениной», мы все такие, и Маня твоя тоже станет такая, если ты будешь продолжать так легко смотреть на жизнь.
Саша после того дуется. Он дома стал совсем как чужой. Но это все бы ничего, это пройдет, Саша поумнеет: будет доктором, сама жизнь поведет к лучшему. А вот с Колей беда настоящая: Коля сходится открыто с Аннушкой. Все бы это, конечно, пустяки, если бы Коля отнесся обыкновенно, как все, но он берет эту почти публичную женщину и живет с ней открыто, как с женой, может быть, и женится, всего можно ожидать, и тоже уж не без расчета на деньги от раздела.
А что с Мишей творится… Миша был для нее из сыновей единственный светлый, кого она видела насквозь, и если он даже чуть что-нибудь утаить хочет, сейчас же покраснеет. В голове у него, конечно, сумбур и порывы разные, но и в этом во всем раньше она хоть что-нибудь понимала, теперь Миша совершенно закрылся, и такая страшная, необъяснимая перемена с ним произошла буквально в одно мгновенье ока.
Но это, конечно, не просто. Тут какая-то затея, и побольше той, когда он хотел убежать в Азию открывать забытую страну.
Думая о Мишиной перемене, Мария Ивановна отложила «Русские ведомости», откинулась к спинке кресла и ушла глубоко в себя, отыскивая решение вопроса по разным подобным случаям в своем роду. Вспомнилось, приезжал по ночам тайный староверский поп и служил перед старинными иконами: как крепко тогда бабушка связывала астаховский дом. После смерти бабушки все эти молебствия кончились, женщины стали ходить мало-помалу в православную церковь, а молодые люди смеяться над религией и попами. Зато начались всякие неожиданности: брат Ваня маслом торговал на базаре и вдруг исчез в Сибирь и является оттуда богатейшим пароходчиком. Другой брат, Николай Иванович, такой был мягкий сердцем, все ходил в сады соловьев слушать, зато сын его становится революционером и беспощадным, и Дунечка тоже с ним уходит…
«Вот оно что, – догадалась Мария Ивановна, – конечно, это есть в нашем роду: Миша в Астаховых, и теперь в нем готовится тоже какой-нибудь необыкновенный переворот, – от Миши можно всего ожидать».
Был такой чуткий к природе, теперь лето, а он весь день читает и пишет, ночью бормочет во сне. Раньше газету, бывало, в руки не возьмет, теперь не только читает, а вырезает, и газета после него как решето. Обо всем говорил неуверенно, робко, теперь он знает все и всех считает дураками. Тут Марию Ивановну стало подмывать, и вспомнился последний досадный разговор о военных кредитах. Можно понять, как в «Русских ведомостях» пишут часто тоже против излишнего увлечения армией и флотом, имея в виду, конечно, не полный отказ от армии, а только чтобы привлечь большее внимание к народному образованию, и опять и в этом образовании практический расчет: в армии выгоднее развитой солдат. А по Мишиным рассуждениям выходит, что совсем не надо армии и государство защищать вовсе не надо. Понятно и у Толстого: там и вообще род человеческий не надо особенно отстаивать, пусть себе прекращается, там, у Толстого, это просто мечта какая-то, в нравственности больше. А тут ведь как: для государства армии не нужно, а пролетариат пусть вооружается.
Это что такое?
«Тут-то, наверно, и есть вся затея», – подумала Мария Ивановна.
И решила сейчас же идти к Мише и продолжать с ним этот разговор до конца.
«Буду снисходительна, – заговаривала себя Мария Ивановна, – буду больше соглашаться, а потом как-нибудь он и проговорится, что они там затевают».
– Миша, поди сюда! – крикнула она в его комнату.
Из комнаты никто не ответил.
«Как он стал в книги погружаться, – думает Мария Ивановна, – ничего и не слышит, и не видит возле себя».
Она сама идет к его комнате, постучала. Нет ответа. Входит. Миши в комнате нет.
Что же это значит? Сейчас тут был, и вот уже нет. Подходит к окну, открывает, спрашивает Павла, не видал ли он Мишу. Павел видел: вышел за ворота и по своей дорожке скоро пошел.
– Не в город ли?
– Верно, туда: по этой дорожке больше идти некуда.
Вот оно как стало! Утром за чаем она ему с такой радостью объявила, что сегодня к обеду будут телячьи почки. А вот обед на носу, и он, ничего не сказав, в город уходит. Это уже стало ни на что не похоже.
Мария Ивановна садится на стул и в раздумье начинает пересматривать его книги. Нельзя ничего понять: книги немецкие. Но вот тут лежит перевод. Она долго читает, стараясь понять спор какого-то Энгельса с Дюрингом о скачке в неизвестное. Понять как следует ей невозможно, русское, выходит, труднее немецкого…
«Конечно, – думает она, бросая чтение и откидываясь к спинке, – я так и знала: Миша задумал какой-то новый скачок в неизвестное».
И опять она, такая хлопотунья, погружается в одумку. Так бывает – птица прилетает с поля к птенцам, а они, пока она хлопотала, разлетелись. И долго сидит мать на краю гнезда, не зная, что делать с добытым для птенца червячком.
Цвет и крест
Нет, блудные дети не виноваты в измене родному гнезду, нет измены, а в перемене чувства нельзя винить никого: не от своей же воли переменяются снега весны света на разливы, и, когда воды спадут, сами собой зеленеют луга, и потом начинается весна человека. Так и Мише Алпатову на большаке теперь не показывается Одиссей в облаках на своем корабле, на ясном небе от пения и кукования птиц не остаются золотые ямки, он не разглядывает с любовью мураву, оплетающую край пробитой ногами человека тропы. Вон там в сторонке живет хозяин и ходит на один двор с животными делать удобрение земле, а сын его почему-то строит светлее дом, чище и место для своего удобрения готовит почему-то в сторонке от скотного двора, как будто стыдится делать это вместе с животными. Но старик, наверно, ворчит на сына, и его усилие жить почище кажется ему недобрым усилием.
Да, нужно какое-то недоброе усилие, чтобы сжать свое сердце и заключить его в оковы разума. Верней всего, это самое недоброе усилие Миша и называет материализмом, а милое прошлое остается назади, как идеализм. Все это прошлое он переводит на материальное и, читая даже легкие книги, всегда находит в них свое объяснение, уничтожает героев, ставя их на место причины и все причины соединяя в закон развития человеческой жизни.
Материализм понимает Миша Алпатов как сильный упор в самую жизнь. Если так упереться в действительность, то старые идеалы становятся такими же далекими от жизни, как далека от Голгофы рождественская елка, украшенная церковными свечками, мишурой, канителью и ватой, осыпанной кристаллами бертолетовой соли. Если так упереться в действительность, то все начинают вилять и напускать туману. Тогда стоит только сказать презрительно какое-нибудь слово вроде «метафизика» – и человек растерянно смотрит и не знает, что ему ответить. Думалось раньше, что старшие что-то знают свое, что-то особенное таят. Теперь все тайны сброшены: старшие – жалкие люди, как животные с двойным взглядом, когда не знают, будет их сегодня хозяин бить или ласкать.
Все эти прежние его старшие, оказывается, потому виляют и путаются, что служат буржуазии, и эти старшие вполне соответствуют тем, кого в далекие времена называли книжниками и фарисеями. Ум и сердце Алпатова теперь обращены к простым людям, которые встречаются везде и сразу понимают его. И редко бывает, чтобы он дошел до города и не присоединил еще кого-нибудь к школе пролетарских вождей.
Идет впереди человек с узелком за плечами. Миша по виду знает, что это посадчик, побывал в деревне и возвращается в город работать на кожевенный завод. Миша догоняет его и через несколько минут, обменявшись обыкновенными фразами, сразу же начинает разговор от Адама, что был сотворен человек Адам и поставлен на землю обрабатывать ее в поте лица, но потом является как будто другой человек, второй Адам, для которого земли не хватило, земля вся была занята уже первым, счастливым Адамом. Вот первый Адам начал пользоваться работой второго, безземельного. Первый Адам – буржуазия, второй Адам – пролетарий. Буржуазия выплачивает пролетариям в заработной плате не все, неоплаченный труд переходит в цену товара и потом в карман капиталиста: это – прибавочная стоимость.
Но понимает ли посадчик о прибавочной стоимости?
– Тут и понимать нечего, – отвечает посадчик, – каждому известно, что богатые живут трудом бедных.
А когда Миша рассказал, как даже и мать-земля обращается в золотую куколку, то посадчик, оказывается, даже знает и как надо ее освободить.
– Нужно, – говорит он, – чтобы земля стала ничья, а за то, что ей пользуются, ввести акциз: земля ведь сама рождает, вот за это акциз.
Больше всего изумляет Алпатова, что у этих людей, никогда не читавших политической экономии, дается самой жизнью какое-то простое и достаточное знание, что там все обыкновенно и просто, а необыкновенным представляется только интеллигенту.
Все очень похоже становится на силу земли: человек сеет, пашет, а рождает-то земля сама, и эта сила превращается в ренту, или, как говорил посадчик, в акциз. Точно так же и у простых рабочих людей есть такая саморождающая сила, которой, все равно как рентой капиталисты, интеллигенты пользуются для своих личных целей.
Сколько затрачивается золотого времени на пустые споры с народниками и между собой! Явно спорят потому, что каждому хочется быть умнее другого, а со стороны кажется, будто они никак не могут поделить чужого добра. Это искушение Алпатов сразу устранил от себя твердым решением считать себя не вождем, а рядовым, в этом, думал он, и есть отличие пролетарского вождя от феодального и буржуазного: пролетарий сам себя вождем не считает и эту честь ни во что не ставит.
Из всех этих диалектиков Алпатова больше всех смущает разученейший Осип. Откуда он вдруг явился к ним, этот тучный человек, и сразу занял положение, первое после Данилыча? Вот уже немало сделал черной работы Алпатов для школы пролетарских вождей, а Ефим все как-то уклоняется познакомить его с Данилычем. Осип удивляет интеллигенцию своей диалектикой, он читал Гегеля и Канта в подлинниках и это приспособляет для разговоров о марксизме. Ему это легко дается, он семинарист, там этим вздором набивают головы, и это оказывается, странным образом, пригодным для революционного движения. Как это происходит? Конечно, Осип отлично отделывает народников, и многие под его влиянием становятся марксистами, но только что в этих марксистах, не умеющих даже подойти к рабочему! Главное же, эти две холодные зеленые точки злых Осиповых глаз, высматривающих из мясистого лица, – что они значат? Он рассказывает о Марксе совершенно так же, как поп о Боге, которого нет, но необходимо выдумать. Проповедует, что экономическая необходимость сама собой приводит капитал к концентрации рабочих – к союзу, и делать тут нечего: ничего не нужно делать, все само собой сделается.
Почему при этих словах никто не хочет заглянуть в зеленые точки его глаз и понять, что все это он говорит не для других, а для себя?
– Как же так ничего не делать? – отвечает Алпатов. – У Маркса наше дело точно определено: мы должны облегчить роды истории. Разве это маленькое дело?
– Акушеров зовут, – отвечает Осип, – когда роды начинаются. Не беспокойтесь: когда начнутся, за нами приедут.
Эти слова всегда ужасно возмущают народников, и при них спорить с Осипом невозможно по тактическим соображениям.
Вот бы только добраться до Данилыча, при нем он сумеет раскрыть весь вред, приносимый Осипом школе пролетарских вождей.
Алпатов много думает о Данилыче и, хотя никогда его не видел, как будто хорошо его знает из себя самого. С тех пор как только Миша помнит себя, он все ждет человека Старшего, которому бы можно было все рассказать о себе и во всем посоветоваться. Вот Ефим знает больше его, и на него можно во всем положиться. Но Ефим просто товарищ, а тот, ожидаемый Старший, больше товарища. Ефим знает много, а тот все знает. Ефимова правда – в его вечном труде, но тот за правду пострадал, и от него ничего не укроется, и он очень сильный, он решительно сильный… он – Старший.
Ефиму легче во всем разбираться и быть таким хорошим, потому что, оказывается теперь, у Ефима отец был тоже политический и он все получил это от отца даром. И Ефиму не понять его чувства к Данилычу, ведь это совершенно другое, если у одного был ученый и добрый отец, а другой не знает отца.
Так идет Миша по большаку и не любуется переменой цветов на земле и на небе, далью бескрайных полей, заволоченных фиолетовой дымкой. Только иногда отрывается от своих дум, чтобы удивиться огромному красноглиняному оврагу на черной земле и что там на дне его все еще зеленеет, лежа с обнаженными корнями, поврежденная весенней водой лозинка. Тогда вместе с жалостью к несчастному дереву и к этой прекрасной земле, изуродованной непереходимыми оврагами, является и еще такое сиротливое чувство конца, и потом щемящая серая дума о невозможности все так оставить, как есть, и на этом устраивать свою жизнь. После того вдруг обрывается всякая связь с этой землей, и перекидывается мост в общее дело и в этот такой волнующий спор Энгельса с Дюрингом о скачке в неизвестное. Он перебирает в памяти все возражения Энгельса против скачка не потому, что ему не хочется его, напротив, ожидаемая мировая катастрофа и есть этот самый желанный скачок, но, по Энгельсу, он будет уже непременно, законно, а у Дюринга скачок субъективный, вроде того как он сам в детстве тоже хотел ускакать в забытую страну и потом пришлось учиться в гимназии. Мало ли есть на свете забытых стран! Мечта была верная, подход неправильный, субъективный. Вот и надо теперь помнить, чтобы на этот раз уж не ускользнула золотым сновидением желанная страна.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































