Текст книги "Кладовая солнца"
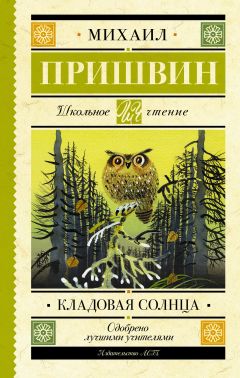
Автор книги: Михаил Пришвин
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 41 страниц)
…Но, мой друг, в любви к женщине, вероятно, бессильна молитва.
Неизбежно каждый раз, когда письмо бывает отправлено Инне, похожей на античную вазу с гением, является Инна Петровна и обнажает все эгоистические претензии маленького торфмейстера. А потом, после ночной работы, утром непременно показывается самая ужасная, третья, деловая, как астрономическая Луна, и тут бы конец всему, но в последний конец опять непонятная сила дает оружие в новой борьбе.
Вот теперь ранним утром он спешит снова к себе и очень боится швейцара: разбуженный швейцар обыкновенно ворчит, и не это ли в конце концов отнимает у него силу написать настоящее письмо? Сегодня он приготовился сунуть в руку швейцару целый рубль. Но когда он с Невского свертывает на Пушкинскую, швейцар, оказывается, в этот ранний час стоит на улице около входа в гостиницу, с ним рядом стоит какой-то мизерный человечек с большим кульком и, запуская туда время от времени руку, достает кедровые орешки и щелкает.
Вероятно, и швейцара это он угостил, швейцар тоже грызет. В этом щелканье орешков, как все равно и подсолнухов, Алпатов с детства в родной стороне видел самое ему ненавистное: люди совершенно ничего не думают, и глаза у них в это время бывают такие, как будто ждут всякого повода, чтобы над чем-нибудь по-обезьяньему захохотать. Не захотелось и на чай давать. Он прошел было мимо зевак, как вдруг швейцар вернул его одной лениво сказанной коротенькой фразой:
– Поглядите, тут, кажется, есть вам письмо.
Нечего было ему разглядывать: среди нескольких десятков писем он сразу видит это свое. Наконец он дождался!
И швейцар получает свой рубль.
Трудно читать!
Письмо лежит на столе, а он в «Новом времени» читает бюллетень природы профессора Кайгородова: «Началась массовая перекочевка всех придорожных маленьких птиц, все синицы в Лесном поют брачным голосом».
В этот раз беду он предчувствовал, и малодушно даже хотел бежать от письма, и вскрывал его, как яд себе в стакан наливал…
Потом залпом вдруг выпил свой яд:
«Слишком уважаю, чтобы отдаваться жалости. Прошу, не пишите больше. Я теперь все разглядела, все поняла: мы говорим на разных языках, нам не по пути. В этот раз твердо и решительно говорю: нет».
Нет! И все переменилось. Вдруг оказалось, что мира этого взамен совсем не существует, все было обман. В особенности удивительно стало с тем большим делом в болотах, куда он в конце концов должен был увезти свою невесту. Болота оказались не заманчивой девственной природой, а просто дикими кочками с чахлыми деревцами, холодные, пустые.
Но как же революция, борьба за освобождение людей от Кащеевой цепи? Это все оставалось, но только не больше как факт: от его участия в этом деле ничего не переменится. Все равно как и та бледная астрономическая Луна не устанет вертеться, будет он или не будет встречать ее вечерами и провожать по утрам. Мать его у себя на хуторе тоже будет доживать свой век, брат любимый, Николай, будет собирать деньги от винной монополии и ловить раков, сестра останется с кошками. Все пойдет по своим неизменным законам, и мира взамен Инны не существует. Но почему-то ему все-таки оставались синицы в Лесном: все до одной поют теперь брачным голосом, – вот бы послушать! На тонких неодетых веточках берез, раскинутых по голубому небу, ему представилось в лучах весеннего солнца великое множество синиц, раскрывающих тонкие носики.
Он быстро схватывается и выходит только затем, чтобы увидать синиц на березах. Идет быстро пешком по Невскому. За ним, отступая, но не выпуская из виду, идет небольшой человечек с кульком кедровых орешков и неустанно пощелкивает.
Был на пути мост с гигантскими конями, но Алпатов не только этих коней, но и Казанский собор не заметил. Не видел Дворцовую площадь с опушенной снегом колоннадой. Все сверкало искрами на солнце, и везде переливалась всеми цветами капель. На Неве вырубали для ледников красивый лед. На небе был свой небесный ледоход весны света, и сам тяжелый Исаакий поднялся. Но Алпатов ничего не видал, и спокойная линия дворцов ушла вдаль без него… Он видел где-то впереди только паутинки сплетающихся веток берез и множество маленьких птиц, раскрывающих носики.
Мало-помалу людей на улицах становится меньше, среди каменных домов все чаще и чаще попадаются деревянные, крашенные охрой постройки, и белый каменный город становится желтым. Он еще прибавляет шагу и скоро пересекает все кольцо деревянного желтого города. Начинается настоящая деревенская дорога с раскатами от розвальней и скоро уводит в лес, еще совершенно по-зимнему засыпанный снегом. Вокруг только березы, и среди них изредка темные елки. Тут Алпатов остановился, прислушался, и ему показалось – не синица пела, а где-то щелкнула белочка, разгрызая орех. Он оглянулся туда, где щелкнуло: то не белка, а человечек с бумажным кульком в руке догонял его и пощелкивал. Алпатов хотел пропустить. Но человек, вероятно, тоже заинтересовался синицами, остановился и слушает. Алпатов идет вперед. Тот идет сзади в пяту и мерно щелкает. Вместо синиц Алпатов теперь представляет, будто Петр Петрович взял себе в рот орех и силится разгрызть и его умное и доброе лицо становится тупым. Вместо синиц он видел лучшие лица разных людей с орехами во рту в обезьяньем лесу. Он прибавляет шагу, а тот сзади себе прибавляет и щелкает. Перешел на тропинку по другой стороне дороги. Человек-обезьяна переходит за ним и все щелкает. Явилась вырубка при дороге и с ней, казалось, такая счастливая мысль: сесть на пень, будто бы отдохнуть, и человек-обезьяна мимо пройдет. Садится на пень, а человек-обезьяна тоже рядом садится и щелкает. С чудовищной злобой Алпатов наводит свои глаза в маленькие серые щелки и вдруг все понимает: за ним послали филера, и самого глупого. А тот спокойно, отставляя орех, поднесенный ко рту, спрашивает:
– Сами-то чем занимаетесь?
– Чем занимаюсь? – ответил Алпатов, не сводя с него глаз. – Я учу обезьян.
И, протянув руку, с наслаждением сжал ему шею. Человек-обезьяна высунул язык, уронил кулек с орехами, но успел схватиться за нож. Алпатов схватил его за руки. Нож упал в снег.
Подтолкнув его сзади коленкой, Алпатов велит ему скоро бежать. И тот убегает.
Alter ego
Певчие птицы негусто распределены в лесах, и такие все они маленькие. Нужно сделаться властелином молчания, чтобы в лесах наслаждаться пением птиц. А у Алпатова кровь звенела, время скакало: в Лесном не мог он слышать брачным голосом поющих синиц. Шесть дней он колол лед на Неве и на Выборгской стороне набивал ледники военно-медицинской академии. На седьмой день он ушел на Галерную гавань и там у водоразбора сел на бревно. Пришли две пожилые женщины с ведрами. Одна была слабая, шла с ведрами и задыхалась. Другая, помоложе, сказала:
– Вам бы отдохнуть: к зятю поехать.
– И-и-и… милая, – ответила больная, – к зятю поехать, так ведь надо подольше пожить, а на кого же я брошу своих?
Женщина помоложе больше ничего не могла сказать, и ее тропа уходила в сторону, могла она сказать только слова:
– До свидания, родная!
– Спасибо же, милая, спасибо на добром слове, – пропела больная женщина.
Серебряная волна голоса слабой женщины достигла слуха Алпатова, он встал, взял как игрушку в одну руку ведро, другой поддержал женщину, проводил…
После того ему пришло в голову: почему не понимает Инна, что в любви его есть и такое, вот как у этих женщин между собой, и он мог бы от всего отказаться, только сохранить бы ему непомраченную память о ней…
Почему?
Тогда собственная его светлая точка совершенного спокойствия показалась где-то вдали, и он идет к прежнему месту на Невском, входит в магазин, покупает маленькую античную вазу с гением, уносит ее к себе в номер, ставит на столе, смотрит и на вопрос свой: почему Инна не находит в себе для него простого, любовного слова, какое нашлось у этих чужих друг другу женщин у водоразбора, – получает ответ. Вазочка, теперь такая близкая, такая спокойная, своя вазочка отвечала ему: «С Инной, как со мной, надо, чтобы она была тут возле, надо помочь ей нести свое ведро, как женщине у водоразбора, и отбросить в сторону всякий свой интерес».
Светлая точка спокойствия находилась теперь в зените. Оставалось теперь только ставить вопросы, и ответ ему там где-то готов: в эти минуты весь мир – магазин для ответов, успевай только ставить вопросы. Прежде всего, конечно, ему нужна близость: невозможно так сгустить слова на бумаге, говорить здесь с ней, как с живой. Он просто пойдет сейчас к Петру Петровичу, к ее отцу, к его другу, все расскажет ему, объяснит причину колебаний своих между работой и положением. Петр Петрович, конечно, устроит ему командировку за гидроторфными машинами, сам поедет в Карлсбад, вызовет Инну к себе из Парижа…
Друг мой, вот теперь я понимаю, что рано было мне говорить о бледной звездочке, показавшейся когда-то мне после многих мучений на рыжем от электричества петербургском небе: надо, чтобы она показалась, когда все лишнее совершенно сгорит в груди, и с этой молитвой «Ветка Палестины» чтоб уж не было связано затаенное желание приблизить к себе женщину: «Детей от Прекрасной Дамы рождать никому не дано». Бесполезны молитвы в любви к ускользающей женщине… тут нет выхода… каждый поступок разоблачает обман и обнажает свое ничтожество до страстного и последнего желания истребить себя самого. Я бы не стал и рассказывать, конечно, эту интимную историю, если бы не взял на себя долг летописца. Не смейтесь, мой друг, эта история не случайного человека, подлежащего клиническому лечению холодными душами или теплыми ваннами в двадцать семь градусов. Это было время такое, вспомните, с чего началось, когда безумный Евгений грозил: «Ужо тебе!» И после того сколько людей предсказывали конец ему, и как страшно потом перед концом все у нас разделилось в стране на Петербург и Россию.
Нет, мой друг, молитва не может приблизить к себе женщину живую, от которой хотелось бы иметь детей в неудержимом стремлении продолжения в детях собственной жизни. Так хорошо было придумано у Алпатова после семидневного скитания в окрестностях Петербурга – открыться во всем полюбившему его отцу Инны и ехать вместе с ним за границу. Все было ясно теперь, и он, уверенный, пошел в департамент. Случилось, в приемной отсутствовал лаборант и не мог ни о чем предупредить Алпатова. Он сам подошел к двери его превосходительства и, как делают все чиновники, бесшумно открыл себе щелку и посмотрел в кабинет. Все было в комнате, как и раньше: за письменным столом из груды бумаг виднелись пепельные волосы Петра Петровича и возвышался его желтеющий ученый лоб. Алпатов входит. По своему обыкновению, увлеченный работой Петр Петрович не поднимает головы, с молчаливой просьбой дожидаться.
Так немало времени прошло, и много хорошего пробежало в голове Алпатова. Он чувствовал себя как мастер, совершенно овладевший формой, в которую после долгих усилий наконец входят его непокорные материалы. Как теперь обрадуется Петр Петрович, когда, подняв голову, увидит его, пропадавшего где-то семь дней! И как легко теперь будет все ему объяснить.
Но когда наконец его превосходительство поднял голову, то холод пробежал по жилам и волосы шевельнулись: его превосходительство, поднявший голову, был не Петр Петрович! Ужас, однако, был не в том, что вместо Петра Петровича сидел кто-то другой, а что сходство этого нового человека со старым было так велико, что вслед за первою мыслью «не тот!» явилась другая: «А может быть, я сошел с ума и в действительности сидит настоящий, прежний Петр Петрович?»
Человек, подобный Петру Петровичу, спросил:
– Что вам угодно?
«Другой!» – поверил себе Алпатов и ответил:
– Я к Петру Петровичу.
– Как, – сказал другой Петр Петрович, – разве не знаете вы, что Петр Петрович шесть дней тому назад скончался?
Алпатов попятился и закрыл свое лицо ладонями.
– Вы что же, – ласковым голосом спросил другой Петр Петрович, – приехали откуда-нибудь из провинции, наверно родственник покойному?
– Нет, я так… мы работали вместе над лесной энциклопедией, сдружились.
– Так вы инженер Алпатов, alter ego Петра Петровича! Как я вас ждал! Садитесь, пожалуйста, садитесь вот тут: мы с вами закончим его дело.
И Алпатов сел на тот самый стул, где привык сидеть рядом с настоящим Петром Петровичем. Теперь ему невыносимо стало видеть такого же человека, с теми же синими и красными карандашами, но не отца Инны.
– Извините, – сказал он, – я сейчас не могу…
– Вполне понимаю, – сказал другой Петр Петрович, – вы ко мне на дом приходите вечером, как у вас было: все пойдет по-старому.
Алпатов спросил:
– Мы с Петром Петровичем все ожидали одну бумагу из департамента полиции; быть может, она за эти дни получилась?
– В этом отношении не все благополучно. – Подумал немного и махнул рукой. – Хотя бумага и секретная, да уж куда ни шло, ведь покойный Петр Петрович, наверно бы, ее вам показал.
И живой Петр Петрович из ящика достает отношение директора департамента полиции. Алпатов читает справку о себе самом, что в таком-то году он был одним из основателей школы пролетарских вождей, что он был судим и приговорен к тюремному заключению на год с последующей ссылкой в места, не столь отдаленные; год предварительного заключения, однако, ему был зачтен, а ссылка по особому ходатайству заменена пребыванием за границей. В настоящее время выясняется самая возможность пребывания названного Алпатова в столице. Директор департамента полиции в заключение писал:
«Свидетельствуя совершенное почтение Вашему превосходительству, настоящим имею честь запросить: после всего вышеизложенного находите ли возможным причислить названного инженера Алпатова к министерству?»
Алпатов равнодушно положил бумагу на стол и спросил нового Петра Петровича, на каком кладбище похоронили покойника.
– Среди литераторов, – ответил новый Петр Петрович, – его энциклопедию признали за великий труд. Хорошо похоронили Петра Петровича, на Волковом кладбище.
Любовь по воздуху
Теперь на Октябрьской железной дороге в каждом пассажирском поезде, в каждом вагоне непременно кто-нибудь из москвичей назовет Ленинград мертвым городом. А тот, кто пережил его запустение, когда иные мостовые зарастали травой, начинает доказывать, будто Октябрьский проспект стал теперь таким же оживленным, каким был Невский при Гоголе.
– Тот, да не тот, – отвечает москвич.
И он прав, я там был: около четырех часов вечера на бывшем Невском проспекте движение, пожалуй, не меньше прежнего, да вот нет чего-то, назовем это, как Гоголь, мечтой, из-за чего у него маленький задумчивый чиновник попадает под лошадей. Нынешний гражданин, хотя и не богаче гоголевского чиновника, да зато осмотрительней, и у него уже нет в голове прежних мыслей о Медном всаднике.
Не знаю верно, сколько погибло бумаг в революцию, пусть все цело и хранится в архивах. Но с этим никто уж спорить не будет: бумаги в архивах сами по себе мертвые существа, и нужен особый творческий человек, чтобы они показались нам интересными. А тогда были такие живые бумаги, что в своем самопроизводстве собирали людей часто мертвых и они нам казались живыми.
Белые ночи такие же и теперь прозрачные, но линия дворцов иначе выглядит теперь нам белою ночью. Бывало, каким-то Евгением из «Медного всадника» проходишь по гранитному берегу и, как на болоте бывает, видишь возле себя белую лилию и не можешь достать, так бывало тогда с плененной красотой в Петербурге, – манит красота, а сам грозишься, как Евгений: ужо тебе, Петра творенье!
Все это теперь кончилось. Я иду гражданином, любой дворец мне открыт: уплатив двадцать копеек за вход, а то вовсе бесплатно, я могу любоваться вещами царей и великих князей. Но я ничего не нахожу себе в этих дворцах и думаю о мертвой скуке их прежних обитателей. Сбылся мой старый сон, много раз мне повторявшийся: будто бы весь город-призрак исчез, а я хожу по болоту наедине с осушительной затеей Петра и слушаю, как уцелевшие где-то куранты свидетельствуют совершенное почтение давно исчезнувшему высокопревосходительству.
Этот сон тогда многие видели, но Алпатову было не ночью, а днем, при полном блеске весны света на Волковом кладбище. Оказалось, что этот город мертвых, из-за того что каждому мертвецу места нужно очень немного, гораздо более населен, чем город живых. В тесных проходах он даже при помощи сторожа не может найти свежую могилу действительного статского советника Петра Петровича Ростовцева.
– А может быть, вам надо могилу не Ростовцева, действительного статского советника, – спросил сторож, – а писателя Ростовцева?
Тогда все и объяснилось: Петра Петровича по его желанию и признанию за ним большой заслуги в деле создания лесной энциклопедии похоронили на Литературных мостках.
Там Алпатов скоро находит могилу Белинского, Тургенева, читает благоговейные надписи молодежи карандашом на чугуне и железе, рассматривает букетики засохших цветов. Наконец внимание его останавливает фигура издателя энциклопедического словаря Павленкова. Ему показалось издали, будто на животе у Павленкова было выбито слово: «энциклопедия». Вблизи он рассмотрел: бюст помещался на книге и слово было выбито на корешке, но не на животе. Все равно – первое впечатление не прошло, и он покачнулся от боли, представляя в будущем и себя самого с такою же надписью на животе стоящим среди настоящих творцов.
Вот когда и явилось ему это, как многим, колеблющееся видение города-призрака, и захотелось, как безумному Евгению, скорее бежать куда-то к своему домику. Чудом могло, конечно, случиться, что Инна там ожидает его. Но и без чуда возможно: она приехала, узнав о смерти отца, она раскаялась в своем жестоком письме и теперь дожидает его в номере, как уже было тогда с ней в Париже. Но самое главное, кажется ему, что он верит: ведь нужно только горчичное зерно веры, чтобы гора сдвинулась и подошла…
Что это, неужели он молится о чуде у свежей могилы?
Друг мой, в любви к женщине бессильна молитва, нельзя читать утром, вечером, ночью и достигать мало-помалу сближения: никаким трудом, никаким талантом не возьмешь свою возлюбленную, если только нет решения в природе, в этом от нас не зависимой. Впустую все молитвы в любви, самые усердные, даже до кровавого пота и такие, что с ними можно бы каменную гору обнажить со всеми драгоценными недрами. Волоска не шевельнут эти молитвы на голове желанной женщины, никогда не дойдут до нее даже во сне: в любви нет усердной молитвы, все напрасно, если сойтись, как говорят, не судьба.
Я вспоминаю Гришу, когда он приходил играть к нашему балкону на своих тростниковых жалейках (с рожком). Был я такой маленький, что совсем не понимал ничего не только в любви, но даже в движении стрелки обыкновенных стенных часов. Боюсь сказать, было ли мне два года, но знаю наверно, не более трех. Мы жили в небольшом каменном доме с железным ажурным балконом. На этой тихой улице в каждом домике плела кружевница, и через открытые окна к нашему балкону постоянно неслись особенные мелодичные звуки кленовых коклюшек. Только теперь, через десятки лет, я угадываю все значение этих звуков нашей улицы. Как настоящая тишина бывает много сильнее, если в ней слышится неустанный сверчок, так и затаенный человек, исполненный трепетной силы, показывается мне на нашей скромной улице, когда я представляю себе звуки кленовых коклюшек, перебираемых пальцами девушек, и я говорю себе: человек везде человек.
Каждое утро к нашему балкону приходил Гриша и начинал играть на жалейках. Было хорошо его слушать, но я не понимал тогда всего значения этой музыки. Нам давали по медной монете. Мы бросали ему с балкона в шапку. Он кланялся и уходил за угол, дальше и дальше, играл, и мы все слушали, пока не оставались у нас на улице только звуки осиротелых кленовых коклюшек.
Не знаю, может быть, я никогда бы и не догадался о молитве любви в этих звуках, если бы вдруг мелодию не оборвали грубой силой: однажды во время игры подошел городовой, взял Гришу за ворот и увел его от нас навсегда. Я очень хорошо помню это предчувствие, что Гришу увели навсегда.
Мы несколько дней все-таки выходили на балкон, все-таки ждали, но предчувствие конца не обмануло нас: музыка исчезла навсегда, и даже так странно сошлось, что потом я, бродя много по всей стране, никогда не слыхал больше нигде игры на жалейках.
Когда Гришу увели навсегда и музыка его перестала, я понял ее. Никто из старших, однако, не догадывался, почему я плачу по ночам: мне было жалко Гришу, и я о нем проплакал много ночей.
После, когда я стал все понимать, не раз мне передавали историю любви этого Гриши, десятки лет потом эта маленькая история повертывалась ко мне своей то грустной, то смешной стороной. Только никто не разделял мои чувства, я это очень таил, все смеялись, не было ни одной души со мной, и даже брат, с кем вместе мы слушали музыку и вместе горевали, потом все совершенно забыл. Старушка-няня, всегда выходившая тогда с нами на балкон слушать Гришу, не могла вспомнить, как городовой тогда на ее глазах увел Гришу, и на вопрос мой:
– За какую вину увел городовой Гришу? – отвечала равнодушно:
– Что-нибудь сбондил.
Я остался на всю жизнь наедине с этим для всех ничтожным событием, и оно так затронуло мое маленькое трехлетнее сердце, что чужой рассказ о смешной любви, мне кажется, я могу передать, как будто сам был кровным свидетелем и почти участником для всех потешного романа по воздуху.
Он пел тенором на правом клиросе собора. На левом пели приютские девочки и с ними взрослая дочь соборного протоиерея, отца Потамия Махова. В городе постоянно смеялись, пересказывая как местный курьез, что соборный протопоп, отец гиппо-Потамий, назвал свою дочь Музою. Гриша, уличный оборванец, влюбился в эту совершенно недоступную ему дочь протоиерея и сделал ее своей музой. Он был так прост, что о любви своей кому-то рассказал, и это дошло до ужасно смешливых наших купцов. Смеялись над ним: за такого оборвыша не пойдет даже последняя постирушка Феша Ламская, а не то что дочь соборного протопопа Махова. Гриша широко открыл удивленные глаза и говорил купцам:
– Мне этого и не надо.
– Врешь, – говорили купцы, – подсолнухи ты любишь?
Гриша отвечал простодушно:
– Подсолнухи я люблю.
Купцы ему:
– А ежели ты их любишь, то и грызешь.
Но Гриша возмущался и однажды сказал:
– Я люблю по воздуху.
Вот с этого разу и пошло по всему городу: Гриша влюблен по воздуху в дочь соборного Гиппопотама Музу. Гимназисты и гимназистки переменили обычное условное название любви платонической и называли это коротко по воздуху. Мальчишки толпами бегали за Гришей и совсем задразнили.
Но самое главное началось, когда Гриша надумал своей Музе писать и в своих письмах переменял свою фамилию Отрезкова на Отрепьева. Верней всего, он взял это как украшение себе, из любви самозванца Григория Отрепьева к Марине Мнишек. Все свои письма вначале он подписывал:
Известный Вам
Григорий Отрепьев.
Вскоре Муза вышла за дьякона Фортификантова в Лебедянь.
Гриша писал в Лебедянь матушке Музе Потамьевне Фортификантовой, но в этих письмах подписывался уже не как известный, а как бывший:
Ваш бывший
Григорий Отрепьев.
Все эти письма, обежав Лебедянь, возвращались к соборному протопопу и у нас в городе переходили из рук в руки. Все покатывались со смеху, и гимназист гимназистке в то время писал или «Ваш известный», или «Ваш бывший».
Последнее письмо Гриши не дошло по адресу и хранилось у швейцара орловской гостиницы, и он часто потешал им всех, кто хорошо давал ему на чай. Последнее письмо из романа по воздуху было адресовано не Музе Потамьевне Фортификантовой, а пресвятой пречистой деве Марии и подписано: не известный, не бывший, а совсем по-новому:
Будущий
Григорий.
Друг мой, звуки жалейки с рожком были прекрасны, я не могу их забыть. Это была великая молитва любви, хотя я знаю: в любви к женщине все молитвы бессильны.
«Верю, верю, верю!» – заговаривал себя Алпатов. И уверился: Инна дожидается его. Он без колебания спросил швейцара:
– Меня дожидаются?
Швейцар открыл ему дверь широко и сказал:
– Да, вас дожидаются.
Двери комнаты Алпатова были открыты. По одну сторону стола сидел жандарм, по другую маленький человек в штатском. Алпатов сразу узнал маленького с серыми щелками вместо глаз. Не хватало, видно, ему кулечка с орехами, и вместо этого он вертел в руке вазочку с гением.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































