Текст книги "Кладовая солнца"
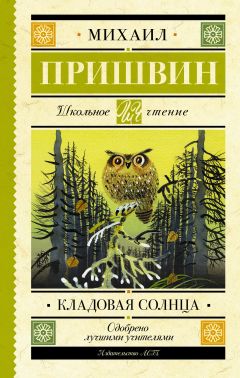
Автор книги: Михаил Пришвин
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 41 страниц)
III
Сфинкс
Приходили, случалось, с глазами открытыми, чисто ястребиными, с едва уловимою мелькающею тенью, как у ястреба, если повернуть его к солнцу: эти перебегающие тени – ястребиные воровства и убийства.
За чистыми глазами Алпатов с большой опаской следит: или сворует, или вынет мандат на заранее присмотренную вещь, реквизирует, и тоже будто бы для какого-нибудь полезного учреждения. Не доверяя себе, Алпатов в первой комнате на видном месте поставил пустую бутыль с надписью: спирт; если посетитель сразу бросается к бутылке понюхать, правда, не спирт ли, Алпатов готовится к борьбе, если не обратит внимания – спирт и спирт, – Алпатов начинает просто рассказывать о музее.
Раз налетел вдруг на музей самый страшный из всех комиссаров Персюк, Фомкин брат: в сумерках на выжженных лядах из пней и коряг складываются иногда такие рожи, а тут еще фуражка матросская, из-под нее казацкий чуб – знак русской вольности, а на френче все карманы – знак европейского порядка, и в каждом кармане, кажется, сидит по эсеру, меньшевику, кооператору, купцу, схваченных где-нибудь на ходу под пьяную руку, давно забытых, еле живых там в махорке, с оторванными пуговицами, окурками и всякой дрянью.
Персюк налетел по доносу, может быть на старуху при павлиньем хвосте, но захватил музей и заревел:
– А кто тут у нас идет против?
Налетал прежде грозный барин на мужика, как лавина обрушивался, а мужик стоит так себе, теребит худенькую бородку и глядит тройным глазом: один глаз улыбается, другой глаз рассчитывает, третий метится в сердце. Чик, чик, чик! – разлетелся мужик на три части, а и опять сложился, стоит как ни в чем не бывало, рыженькую бородку подергивает, и верхний глаз улыбается. Смотришь, уговорил, и графу стыдно себя самого, ласковый, болтает, как малый ребенок, и потом думает: «Русский народ сфинкс». И во сне и наяву потом чудится графу этот неумирающий, ничтожный и чем-то страшный мужик.
Но не так ли просто загадка разгадывается: раб всегда кажется сфинксом господину своему, если господину угодно об этом задуматься.
Вот он стоит, распаленный властитель, глаза, как у Петра Великого при казни стрельцов, раздуваются ноздри, а сфинкс в пиджаке улыбается: там где-то, в невидимом третьем глазу, он готовит последний суд и ему, и себе.
Человек в пиджаке улыбается: он собирает фольклор, удостоверено печатью и подписью знаменитых революционеров.
– Партийный?
– Собиратель фольклора находится всегда вне партий, и все партии нас почитают за своих, а сам я определяюсь как раб господина своего.
– Товарищ, у нас нет рабов!
– Ну как нет, и почему же нельзя мне самому определиться рабом, мне так нравится: у раба всегда будущее, а господин всегда в прошлом, в своем роде я футурист.
– А что это «фольклор»?
– Продукт ненормированный, вот комната русских поэтов, тут есть Пушкин, картины хороших мастеров, и я с ними, дитя своего народа, все мы питаемся народным духом. Фольклор – продукт ненормированный.
У страшных людей, как у лютых собак, переход от бешенства к тишине с ушей начинается, и это мило у них выходит, будто «ку-ку» на березе после грома и молнии. В ушах что-то дрогнуло, и Персюк говорит:
– А вы, должно быть, с образованием?
– Мы все учились понемногу.
– Лектор, может быть?
– Кто теперь не лектор.
– Знаете, у нас в партии есть и князья.
– Знаю.
– И графы есть.
– Знаю, а у нас есть, смотрите, Сервантес – испанец, Гёте – немец, Шекспир – англичанин, Достоевский – русский, и мне приятно, что русский тоже состоит в интернационале.
– А нет ли у вас происхождения человека от обезьяны, вот что, по-моему, удивительно.
– Дарвин? Есть.
– И доказано окончательно?
– Пока мир не кончился, ничего не может быть окончательного, а все-таки этим долго интересовались, именно что обезьяна доходит до человека; теперь, кажется, повернули обратно, интересуются, как человек, падая, доходит до обезьяны.
– Каким способом?
– Приходилось вам, выпивая стакан за стаканом, чувствовать себя хуже обезьяны, зато наверху кто-то остается светлый, как ангел, и удивляешься, откуда при всем своем и окружающем безобразии он явился и существует в душе?
Персюк присел в мягкое кресло и вдруг как бы остановился в себе и вспомнил:
– Да, бывало, на море заберешься в канат от офицера, высадишь бутылку враз и ну Маркса читать.
– Маркса?
– И думаешь при этом, как бы достигнуть…
– Чего достигнуть? Стоп! – Запрокинув голову, постучал себя пальцем по горлу. – Есть?
– Только в лампах денатурат.
– Давай лампу.
– Не отравиться бы: медная лампа.
– Давай!
И вливает все четыре лампы в себя трехлетнего настоя меди в спирту. Теперь вон с этого кладбища в парк. Пошатнулся, поправился, шагнул поскорее, опять пошатнулся и еще ходу прибавил, перешел в рысь, как будто нераскрытая в одиночестве мысль сама толкала его тело вперед, остановился на мгновение, посмотрел, не глядит ли кто на него в двери, окна, и – нет никого! – во весь дух мчится по парку через пни, через могилки господских рысистых коней и отличных собак, гигантским скачком взлетел над забором, мелькнули в воздухе две матросские ленты и скрылись.
Куда он бежит, неужели так мчится от светлого видения, промелькнувшего в пьяной его голове? Такого бы непременно надо в музей в скифскую комнату.
Алпатов спускается вниз, долго возится в дровах, тащит наверх большой липовый чурбан и топориком начинает обделывать себе из него комиссара: стук, стук!
IV
Раб обезьяний
Стук-стук – синица в окно капельно-мокрое, и звин-звин! – там в парке, над преющей осенней листвой. С высоких деревьев на малые, с малых на кусты и с кустов на листву падают капли – шепоток по всему лесу идет и гонит зайца из леса в поля, за ним след в след выходит лисица, и волк подается к дорогам собак ловить. Сам леший теперь мох дерет, обкладывается под корягой и засыпает на долгую зиму, редко открывая свои лесные глаза. Куда же синичке деваться? Стук-стук! – носом в капельно-мокрое стекло.
Круглой стамеской у окна Алпатов работает по липе, и мало-помалу означаются на дереве страшные глаза Петра Великого, стиснутые губы и бритый подбородок увлекает стремительно вперед, беспокойно, неудержимо все вперед и вперед, как будто при остановке он скоро пачкает землю и надо спешить на новые места, – не такое ли движение по шири земной было всего русского народа и не это ли значит его неумолкаемый крик «земли, земли!»?
Сколько мыслей так проходит зачем-то, пока стамеска выделывает бугорки и ямки на липе, – зачем? Одни приходятся к делу, и, может быть, согласная душа в путях стамески отгадает мысль, тут закрепленную? Но другие так проходят потоком, и не узнать в них хозяина, и ввериться им и резнуть по дереву опасно – не свое, поток просто переходит через него куда-то к другому.
Вспоминается ему жаркий полдень в траве у водосточной трубы, не хочется встать, и неловко смотреть, как его упрямый приятель мучится над большим самоваром и, раздувая, хочет поставить его без трубы. Ленивый, протягивает к желобу руку, колено трубы повертывается, самовар к ней приходится и сразу гудит, как завод. Так не труд, а лень, как избыток отдыха, освободила от работы, и оба приятеля могут теперь лежать в траве и болтать. Но почему же говорят теперь: «Кто не работает, тот не ест», – как в детстве говорили, что лень мать всех пороков. Видно, не всякая работа ценна и не всякая лень порочна. Бывает, одно таинственное мгновение, как промелькнувшее воспоминание о светлом, всемогущем существе человека, – и раб в один миг освобождается и других освобождает от подневольной работы. Но тут же этот освобожденный и обогатевший презрительно говорит своему бедному соседу: «Дураков работа любит». И тот, соединяясь с другими в числе, отвечает со злобой: «Кто не работает, тот не ест». Человекоподобная обезьяна, хитрая, понимает, что все дело тут в светлой и редкой минуте воспоминания человека о себе самом. «Дайте мне время, – говорит обезьяна, – и я со ступеньки на ступеньку доберусь до человека и буду как человек, время и труд все перетрут». Проходит век за веком, и вот уже пишут историю происхождения человека от обезьяны, и маленький мальчик с восторгом прибегает из школы – великую радостную новость узнал: человек происходит от обезьяны. И так человек стал рабом умственно численному существу обезьяны.
– И я раб обезьяний, раб, ожидающий воскресения себя из числа.
V
Казенный сундук
Стук-стук! – опять синичка в окно, просит тепла и уюта маленькое изящное существо, ей бы плюшу зеленого на юбочку, черный бантик на шею, два-три танца выучить на клавесинах и несколько необходимых слов по-французски.
Стук-стук! – по-настоящему.
Входит Ариша учить французский язык. Трудно заставить дикую девушку спрягать в прошедшем времени неприлично звучащий по-русски французский глагол потерять.
Ариша шалью покрывается и там умирает.
Выкажет нос из-под шали.
– Я потеряла.
– Это по-русски, а по-французски?
– По-французски – не знаю.
– Ну так будем заниматься по-русски.
Начинается охота за именами. Есть и теперь перекрестки дорог, где Ариша скажет, не понимая почему, чур меня, ей нужно объяснить, что так она вспоминает своего далекого родоначальника щура, или пращура, что она и теперь живет интересами своего рода, раскиданного по разным деревням, имена деревень ее рода таят в себе миф, быль и сказ: в Яриловке почитали бога Ярилу, Волочок был когда-то местом, где славяне волоком тащили свои суда, Кудеяровка была станом Кудеяра-разбойника. Не просто даются имена и животным, и растениям, все обживается и очеловечивается, даже всякий камень обжитый имеет свое отдельное имя. Скажешь имя, и животное выходит из стада, а что из стада пришло, то имеет лицо отдельное, оттого что его вызвала из стада человеческая сила любви раз-личающей, заложенная в имени. Будем же записывать имена деревень, животных, ручьев, камней, трав и под каждым именем писать миф, быль и сказ, песенку, и над всеми земными именами поставим святое имя Богородицы: это она прядет пряжу на всех зайцев, лисиц и куниц. Все это нужно нам, чтобы не стать обезьянами и вызвать в себе силу на борьбу с ней. Эта сила у солнца называется светом, и свет солнца в душе человека есть любовь раз-личающая. В согласии с солнцем, с любовью и светом мы можем войти так в природу, что возле муравейника скажем имя знакомого, и тот муравей отложит дела и на минуточку выбежит поздороваться.
– Ну что, Ариша, разве это не лучше «хранцузского»?
Но трудно в одиночестве бороться с силой французского, и, видно, так уже заложено в душу, что нужно оторваться и поблудить во французском, чтобы вернуться на свою святую родину.
В классе, на миру, дело идет много успешнее. Там пишется одно сочинение: «Чистик – мать великой русской реки», каждый избрал свое любимое имя и пишет о нем свой сказ, после все эти свободные капли сольются и река побежит.
И тогда весной, когда высоко поднимутся травы, украшенные изображением солнца, мы встретим мир природы новым и прекрасным и, как первые люди в раю, будем давать любимым животным, растениям, камням свои имена.
Есть ли на свете дело лучше учителя в школе?
Глаза, как звезды, горят в ожидании слова. Есть застенчивые, любопытные и от слова, ширясь, выходят, светят и чуть-чуть дрожат. Есть твердые, ничем не собьешь, стоят на своем и светят почтительно. И такие, что чуть что – отскочат и светят с задней скамейки лукаво, а то и вовсе потухнут. Но учителю не за ними надо следить, а за своими словами: сила слова убыла, значит где-то потухла звезда, скорей туда, ищи – где? – вон там! – и туда, в эти глаза лукавые, говори, смеши, удивляй, пока там снова не вспыхнет звезда.
Да, если бы у нас мало-мальски было согласие, то каждый за великое счастие считал бы добровольно пробыть хоть один год учителем, на всю жизнь в черной беде это дело будет гореть ему святой путеводной звездой.
Так думает Алпатов, возвращаясь к себе наверх из школы по лестнице с огромной вязанкой дров на спине. А дома, беседуя с бабушкой, его дожидается богатая баба: слышала, здесь продается ротонда. Увидела учителя с вязанкой дров и – ах! – тужить, кого-то бранить, что вот до чего довели, учитель, и сам носит дрова. Неискренняя богатая баба: хорошо еще, если ей все равно, а скорее всего, ей приятно, что она, богатая, так сидит, а образованный носит дрова. Но самому учителю даже и в голову не приходило подумать, что дрова носить ему нехорошо. Хлопнув вязанку возле печки, он надевает ротонду своей покойной сестры, хвалит воротник и особенно цвет:
– Бордо.
Предлагает музейный лорнет и усаживает в мягкое зеленое кресло.
Обезьянка, смеясь, смотрит в лорнет на бордо.
– Кровяный цвет, нет ли другого?
– Кровяный в моде.
– Я ищу нёбного цвета ротонду.
– Голубого нет.
Нет! Вот сундук она бы взяла.
– Казенный сундук.
– Пустой стоит, не записан?
– Мало ли что: казенный.
Дает три пуда муки или пуд сала, на прибавку дичь.
– Какую дичь?
– Гуся.
О боже мой, как хочется гуся!
Дрянь сундук, не нужен музею, и сколько он этого хламу выбрасывал в коридор на общее расхищение, а сундук продать нельзя, в него засел принцип казенный. Все крестьяне зарятся на этот сундук, он повсюду известен, и продай его – он, Алпатов, будет в согласии со всей лесной обезьяной. Но нельзя быть согласным с русской лесной обезьяной. Идейная обезьяна, та понимает внешнюю сторону и достигает идеала своей работой, изменяет, подчищает, сортирует, вычисляет и небольшую хотя сумму отпускает на дело истинного творчества жизни, сознавая все-таки, что она – обезьяна, и доходит до жизни, но не она творит жизнь. А лесная психологическая обезьяна так схватывает сущность творческого человека: тот не работает мускульно, а только пишет на белой бумаге, читает, учит, и ей кажется это очень легко и приятно.
Отчего это? Оттого, что она живет стаей в своем лесу и эта стая называется ложно община, мир, как ложно этой же стаей понимается слово «коммуна» не как собор, а как легион. В стае работают все горбом, носят, возят все на себе, тут не признают машины, выдумки, мерой творческого процесса считают пуд муки, добытый обреченностью на бытие, где телушка много дороже ребенка, где праздник, если отелится корова телушкой, и горе, если женщина родит девочку. Тут добывается пуд, страшный, как смерть, оттого что все, кроме этого пуда, считается хитростью.
Во вшивом поезде, несущем заразу и смерть, пуд едет по всей Руси и определяет собой все бытие, и это бытие – зараза и смерть животная. Из-под чугунной тяжести веков вырвался этот пуд на один какой-то миг, и только для того, чтобы опозорить крест человека: пуд обращается в бархат, в ротонду, в шкаф величиной в пол-избы. И этот же пуд обращает коммуну-собор в легион.
Оказывается, что в конце концов психологическая обезьяна презирает работу и, если ей дать волю, человек покроется шерстью. Сознание полное, что психологическая обезьяна учителю страшнее идейной, но почему же так тянет неудержимо, назло идейной, продать родной обезьяне казенный сундук? «Возьму и продам!» – и уже хочет бежать по лестнице догонять обезьяну, и в голове уже план сложился запросить на прибавку второго, хотя бы небольшого гуся, и если гуся не даст, утку или, может быть, курицу. Поймав себя на курице, Алпатов вслух сказал: «Проклятый сундук!» – и топором принялся рубить его, выбирая драгоценные гвозди, и дерево, отлично сухое и березовое, драть на лучину.
И, раздирая лучину, он отпускает грехи всем русским ворам: они не знают, что делают.
Стало вольно, будто поел; в одну минуту из липы, как живой, вышел Фомкин брат, в темя ему три гвоздя, и получается прекрасный подстав для лучины: светец.
Смеркается. Музейные звери погружаются в мрак, голова козочки исчезла над книжной полкой, зевнул, исчезая, волчище, медведь насупился, и живой ежик в ожидании восхода луны – свет лучины ему луной представляется – шевельнулся в углу под газетой.
Время огонь вырубать куском подпилка из яшмовой ручки печати. От искры тлеет фитиль, теперь дуть на угли, разжигать их, пока во рту не запахнет копченым сигом, и последнее – к горящим углям приставить тончайшую лучину, подуть с силой и вздуть огонь. Крошечный огонек из пузырька от карболовой кислоты – по козе канун, называет его бабушка – светит временно, пока не разгорится лучина, воткнутая в голову болвана, Фомкина брата. Остается поставить тарелку с водой для падающих от лучины углей, и вот – бездомный в вечном движении, с горящим факелом на голове из разбитого казенного сундука, неколебимо стоит Персюк-болван, Фомкин брат, освещая жизнь нового Робинзона Крузо на каком-то не обитаемом людьми цивилизованными острове.
Быть может, и он, Робинзон, когда-то бежал неудержимо вперед, как Персюк, но корабль разбился, и на диком острове есть одно только желание: вернуться к берегу святой своей родины.
После немецкого урока за постное масло Коле, комиссарову сыну, Алпатов мечтает, что переживет трудное время на своем острове, выдолбит себе к весне лодочку и на ней пустится к людям, рассказывать о своих необыкновенных приключениях в девятнадцатом году XX века. В это время ежик из-под газеты увидел луну – свет лучины ежику луной представляется, – он бежит к своему озеру напиться воды, а озеро это чайное блюдечко, потом катится, потутукивая и пофыркивая на туман, выходящий из трубки Хозяина, тут, возле от века неподвижных деревьев – ног Хозяина, лежит много сухой листвы для гнезда, и, с трудом приладившись, ежик тащит целую газету в гнездо.
Так вот и Ариша тащит себе в гнездо французский язык, Коля комиссаров – немецкий, богатая баба – ротонду нёбного цвета, и всякий цивилизованный человек творения культурные себе на пользу в гнездо, не воображая себе, что этот собираемый ими человек может зашевелиться и они вмиг разбегутся.
Двинул ногами – деревья пошли! Ежик свернулся, заколючился, страшно фыркая, будто началось светопреставление.
– Батюшки! – всплеснула руками старушка, узнавая в лучине казенный сундук. – Что же ты наделал!
– Сундук не нужен.
– За него бы нам дали три пуда.
– Нельзя же продавать казенный сундук.
– Отчего же нельзя, если не нужен?
– Оттого, что казенный сундук можно разбить, но не продать.
– Совсем ты, батюшка, одурел тут в музее, оглянись, посмотри на себя, до чего ты дошел, ведь хуже маленького стал, сундук на лучину разбил.
– Бабушка, остановитесь.
– Нет, внучек, не остановлюсь, что же ты думаешь, что я машина, взял да остановил, нет, я тебе не машина, у меня тоже душа живая и болит: зарос, как медведь, ну на что ты похож!
«Шерсть как будто правда начинает расти», – думает Алпатов и вспоминает, как он завел себе поросенка и он от голоду весь пошел в шерсть и щетину.
– Нет, батюшка, не остановлюсь, не на такую напал.
– Не нападаю я на вас, вы сами на меня нападаете.
– Зачем же ты разбил сундук, его люди наживали, хранили, а ты – нá вот! – и разбил, что же это, мало тебе березы, взял бы полено, положил на печь, подсушил.
– Ради бога, остановитесь, мне нужно тетрадки поправлять.
– А на что их поправлять, какая от этого польза?
Алпатов молчит и обдумывает, с какой стороны взять бабушку и обмануть. Есть две линии: житейская – сказать, что Кузьма сватается к Тане, или Кузьма женился на Тане, или Таня родила, а другая линия – показать в окошко на месяц, к чему это вышел такой большой месяц, или вот звезда блестит ярко, не к морозу ли? «И пора, – скажет, – пора, слякоть хуже всего». Глядишь, бабушка и обманулась.
Но в этот раз никакой подход и даже молитва бабушку не остановит, у нее от холодной воды пошли нарывы на пальцах, и старуха опасается, не точит ли ее волосатик. Ее точит волосатик, она точит внука, капель точит камень. С высоких деревьев падают капли на малые, с малых на кусты, с кустов на прелую листву, шепоток идет на весь лес, и безумно мчится заяц в поля, за ним след в след выходит лисица, и волк подается к дорогам собак ловить.
VI
Чан
Капля падает с мезонина на крышу и с крыши на камень, каждый раз с уколом выговаривая в душу бессонного: «Я – маленький».
Все, что говорится на уроках, в будущем непременно так и станет, над всем черным хаосом восторжествует имя святое, и я мог бы даже верно начертать этот путь, но никто сейчас не будет меня слушать, время еще не пришло, и оттого остается это я – маленький, и каждая капля, падающая с мезонина на крышу, с крыши на камень, повторяет, мерно прокалывая, как иголкой, душу: «Я – маленький».
– Если бы ты был большой, – говорит капель, – то спас бы весь этот черный, погибающий в обезьянстве люд.
– Если ты большой, сойди с креста, спаси себя и нас.
Вот ведь что выговаривает эта мерная капель, размывая годами камень под желобом.
Да, есть какая-то сила, более страшная, чем обыкновенный голод: тот разлагает тело, а эта капель и самый дух подтачивает, и все бегут с креста, и сам Христос висит на кресте бессильный и маленький.
– Если ты Бог, спаси себя и нас, – говорит уже не разбойник один, а миллионы мертвых в гробах и мертвых в живых, накопившихся за две тысячи лет ожидания.
И все бегут с креста, одни бунтуя и бесчинствуя, другие просто забываясь в хозяйстве: кто заводит свинью, кто корову, кто копается весь день в огороде, лишь бы не думать. И может, хорошо еще, что есть голод, он спасает от думы, усмиряет и оттягивает время. Даже Алпатову голод подсказал эту мысль о волках: теперь всюду развелось много волков, крестьяне ежедневно лишаются много скота, и если заняться этим делом, бить волков, то, наверно, за это хорошо будут платить и не нужно будет заниматься по-немецки за ворованное постное масло. Сразу капель, как болезнь, отошла, и когда он вышел из дому для волчьей разведки, то и дурной погоды не было, она осталась в комнате: дурной погоды не бывает в природе, ее выдумали дачники.
Ночной путь в чистик провешен от одной знакомой березы до другой на угол канав, прямо к зарослям, и тут Алпатов воет по-волчьему. Несмело отзывается матерый, укрепился, завыли переярки, прибылые, и все болото воет осенью под черным небом.
О, Господи, жуть голодная, и как сносит ее человек, и как шерсть не растет у него, как у волка, от голода и не уходят в мягкую шерсть и острые зубы вся мысль его и надежда.
Шарахнулась стреноженная лошадь и запрыгала куда-то – может быть, прямо в зубы волкам. Хозяин ее, Фомка, разведчик армии бандитов барона Кыш, перед этим учуял запах дымка и, зная, в чем тут <дело>, оставил ее попастись, а сам идет все по ручью. Вот огонек показался, и в зареве там люди мелькают, хлопочут о чем-то. Фомка вынимает из-за пояса топор и стучит им о пень, будто рубит жердь. Там услышали самогонщики и говорят тихонечко между собой:
– Кого-то Бог посылает?
В такую-то осеннюю ночь и в зарослях чистика кто станет искать самогонщиков, разве только враг ведет комиссара, но врагов теперь нет у мельника Азара, и враг не подходит со стуком. Тут собрались: Азар с волчьей мельницы – по случаю крестин сготовил завар в три пуда; гонит Чугунок, его вся посуда, и знание дела, и хлопоты, тут же помогают три музыканта: гармонист, балалайка и скрипка; Илюха – солдат императорской гвардии, и австриец Стефан, работник на мельнице, печальный и такой несчастный, что даже собственное имя его Стефан не держится, и все зовут его почему-то из жалости Яшею. Крестины будут веселые, с музыкантами, и поутру, Бог даст, Азар выпьет в лесу и прямо музыку пустит – ему бояться нечего: мельник, все начальники давно куплены.
Кто же это может теперь подходить?
Случай такой был:
– Показался человек на болоте, маячит и маячит во мхах, и там есть одна-единственная сосенка, подходит к ней, наклоняется, копает, взваливает на плечи мешок и опять замаячил, а под сосной яма осталась, ну, что это?
Азар знает, чтó это:
– Барон Кыш, это он за пищей ходил. Там у него есть остров верст на восемьдесят вокруг в болотах, разные ямы, мужики носят пищу в ямы, у него есть лозунг с мужиками на пути демократическом и прогрессивном.
– Так не барон ли и теперь к нам является?
– И очень просто, слышь, опять постукивает.
– Ну, барон так не ходит, тот сразу раздвинет кусты: «Наливайте!» – выпьет стакан, другой – и: «Прощайте, кланяется вам барон Кыш!»
Все спорят между собой: одни – что Кыш настоящий барон, другие – что Кыш из нашего брата, третьи – что Кыш есть звук и притча. Верно знает только Азар:
– Категорически заявляю, барон Кыш – попов сын и ученый человек, семинарию кончил, а в консистории ему отказали. «Ладно, – говорит, – коли вы меня не принимаете, я отцовскую хитрость разовью на пути демократическом и прогрессивном для бедного человека». Вот кто барон Кыш.
– Ежели он на пути демократическом, – спросил гармонист, – то почему же он барон называется?
– Отчего тоже называется Князь Серебряный, какой он князь, такой же мужик, как и мы, жил недалеко на хуторе, захотел воли и стал князь. Так и Кыш, любитель в карты играть, когда выиграет, говорит: «Я теперь барон», – а проиграет: «Кшш…» И стал барон Кыш, значит, страх; «Кшш, вороны!» – крикнет, красные разбегутся, он заберет, что ему нужно, и – кони какие у него! – летит через изгороди, через канавы, как по ровной дороге, у леса остановился, шапку снял – и до свиданья.
Так беседуют между собой самогонщики, а топорик все ближе и ближе постукивает, вот и человек показался, и видит он огонь и людей, а все будто не видит и жерди рубит, так уж всегда полагается подходить к чужому вину.
– Ладно, ладно, иди!
И вдруг это Фомка.
– Ай, ты жив?
– Жив.
И поднимает рубашку, а там против сердца рубец вершок шириной.
– Кто же это тебя так чкнул?
– Персюк, родной брат.
– Ну, Персюк и отца родного чкнет.
– А думаешь, я его не чкну?
– Чкнешь и ты, а мы сидим, все дожидаемся, когда у вас дело кончится.
– Когда кончится? Я отвечу вам: когда у нас не будет статýя.
– Какого статуя?
– Какого?
Вдруг в это время на манку отозвался матерый, прибылые, переярки, завыло болото, и Фомка бежит, улюлюкает, спасает коня.
Все дело испортил Алпатову.
– Стой, куда ты бежишь, чего ты орешь?
– Коня потерял.
– Вот твоя лошадь.
Устроив коня поближе к огню, Алпатов с Фомкой подошли к самогонщикам, и учителю, редкому гостю, там очень обрадовались. Простой на разговоры с лесными своими предками, Алпатов тут же поделился своей затеей добывать себе пропитание волчьим делом, оттого что в школе пайка не дают и противно ему учить комиссарова сына за постное масло.
Азар сказал:
– Категорически вам сочувствую, потому что взять вам нечего, и мысль ваша правильная, волков бить необходимо, дело очень полезное.
Гармонист:
– Волки одолели деревню, через Полом дорога стала вовсе непроезжая.
Скрипач:
– И через Кудеяровку.
Балалайка:
– А в Кудеяровке волки с гривами.
– Будет брехать, – оборвал Чугунок Балалайку, – волки обыкновенные, только вот что я вам скажу, был ли такой, кто от волков разживался?
– Не разжиться, а только бы просуществовать.
– И существовать от волков невозможно, я вам советую бросить учительство и поступить писарем в совхоз или колхоз.
Азар плюнул:
– Бросьте и совхозы, и колхозы, иди, брат, в темную.
– Куда же еще темнее, весь во тьме сижу.
– В темноте сидите, это я сочувствую вам, а сами смотрите светлыми очами на мир, вы сами идите в темную.
Фомка вмешался:
– Вы охотник, стрелок и учитель, вам самый правильный путь к нам: барон Кыш был тоже учителем.
– На что же вам нужен учитель?
– Образованный человек нужен на каждом месте, нам нужно статуя свалить.
– Красных?
– Ну да, и красных, и белых, бей всякого статуя.
– Другого назначат.
– Вы другого, он третьего.
– Чем же мы кончим?
– Кончим чем? Чтобы нет никого и никаких.
– Сидит же у вас барон Кыш?
– Кыш это звук, и я Кыш, и вы Кыш, это все звук: Кшш – и нет никого и никаких.
Подумав про себя: «Новая Запорожская Сечь возвращается, как вернулась лучина, и при лучине вспомнили старинные песни», Алпатов сказал:
– Это воля, я свое отгулял, мне бы хотелось свободы.
– Самая и есть наша свобода.
– Нет, свободный в законе живет, и ему нельзя убивать.
– Ну, отчего же нельзя, это вас не задевало, а дай-ка вас чкнут, как меня. – Фомка опять приподнял рубашку. – Вот как меня чкнул Персюк, родной брат, что же, мне его так оставить?
– Почему же не оставить, взять да отвернуться в другую сторону.
– Эх, брат, – вмешался снова Азар, – сам я был раньше охотником и светлыми очами глядел на мир, а вот теперь обсеменился и смотрю в темную. Подожди немного, вот только выпьем, и научу. Ну, за работу живее, Яша, тащи воды.
Поставили на огонь котел и налили туда из бочки завар, на котел вверх дном насадили бочонок и примазали глиной. В дырочку дна вставили трубку и тоже примазали, а гнутый конец трубки, змеевик, опустили в бочку с холодной водой, выпустили вниз конец и сюда чайник подставили для собирания жидкого хлеба.
Устроились и сидят в ожидании, тихо между собою о былом беседуют ветераны великой войны: Илюха, гвардеец, и Яша, австрийский солдат.
Илюха говорит:
– Ваши Сан переходят, я за деревом, и как только ваши на мост, я тюк! – в голову, и он брык! – в воду: семь голов насчитал, занятно!
– А помнишь, тут был аэроплан?
– Как же, наш забрал кверху и ну вашего поливать из пулемета, потом ваш забрал и нашего, и наш опять забрал, а ваш заковылял.
– Куда он упал, к нашим или вашим?
– Промеж наших и ваших.
– Вот какие друзья стали, – сказал Фомке Алпатов, – а ведь тоже убивали и были врагами.
– Врагов не было, – ответил Илья, – теперь только и поняли, кто наши враги.
– Кто?
– Известно кто: капиталисты.
Яша вздохнул:
– А какое государство-то было.
Илья:
– И все в прах!
Балалайка:
– Вдрызг!
Гармонист и скрипач:
– Вдрызг, в прах и распрах!
Чугунок задумался и с большим любопытством обернулся к учителю спросить, как все спрашивали друг друга на Руси в это смутное время, загадывая загадку о том, как и когда все это кончится.
– Погадать надо на картах, – ответил Алпатов.
– Что вы гадалкой бросаетесь, – схватился Азар, – вы думаете, гадалки не знают? Под Москвой есть одна Марфуша, так сам Ленин к ней прихода погадать, чем все у нас кончится. Молот и серп вышел у Марфуши. Ленин обрадовался. «Не радуйся, друг, – ответила Марфуша, – придешь домой, напиши слова и с другого конца прочитай». Понимаете? А очень просто, ну-ка, бумажку, учитель, вот серп и молот, читайте: «Толомипрес».
– Что же это такое?
– То-ло-ми-прес.
– Понимаю, – сказал Алпатов.
– Ну, ну!
– Как при Навуходоносоре, рука написала на стене, и никто не мог понять, гадалка намекнула Ленину на конец Навуходоносора.
– Нет, не то, вот как надо писать: «Молот серп», – читай теперь, как кончится.
– Престолом.
– Вот престолом и кончится.
– Значит, царем?
– Зачем царем; может быть, президентом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































