Текст книги "Кладовая солнца"
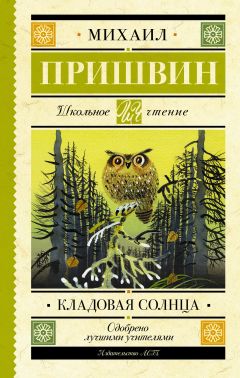
Автор книги: Михаил Пришвин
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 41 страниц)
С Алпатовым было, как с малым птенцом: тоже он почувствовал время свое, силу и вдруг все сказал.
Она молчит. Омнибус останавливается почти напротив ее дома. У калитки она спрашивает:
– Что же делать с этим, как быть?
Он решается на последнее:
– Вы мне об этом писали в тюрьму, я помню, вы писали по-детски: «Мы поедем за границу и будем жениться». Мы теперь за границей и «подросли».
Потом, оказалось, необходимо было разделить между собой розы и опавшие при этом листки крутить дрожащими пальцами.
В это самое время в деревне, где они были, хозяйка возится над скатертью, развязывая узелки, и ворчит:
– Вот накрутили!
А добрый хозяин ее успокаивает:
– Зато как хорошо заплатили. Ты только вспомни, Alte, сколько мы с тобой в наше-то время намяли белья.
Они поцеловались совсем неумело, только чтобы не говорить. И это еще была не волна любви, а только повеяло ветром, от которого рождаются волны.
Рождение волны
Правду ли говорят, что трагические скалы на берегу Черного моря в Симеизе, Монах и Дива, теперь от землетрясения исчезли под водой? Когда-то, помню, влюбленный доктор сидел возле этих скал и мы вели с ним беседу о любви и взволнованном море. Мне всегда было как-то странно думать о врачах, понимающих любовь как абстракцию закона размножения, – что эти люди могут быть тоже влюбленными. Я шутя сказал об этом доктору, а он серьезно стал мне говорить о природе волны, что вода, составляющая волну, не бежит, а только на месте колышется, что нам это кажется только, будто волна бежит: на самом деле бежит только форма волны.
– Половое чувство, – говорил влюбленный доктор, – это вода, а сама любовь – это перебегающая форма. Как врач я имею дело с водой любви, как личность я творец формы своей единственной в мире волны.
Мне тогда рассуждение влюбленного доктора очень понравилось, вдруг стало понятным, почему о любви десятки тысяч лет все думают и никто о ней не может сказать до конца: ведь все волны разные, а каждый поэт говорит только о своей неповторимой волне, и так без конца, и так после гениальных романов у каждого остается возможность сказать новое о своей собственной форме волны.
Я сказал об этом доктору, и он очень удивился моей робости писать о любви:
– Сколько угодно пишите, и все будут читать. Из волн складывается лицо океана, из ваших поэм лицо человека, и этому нет и не будет конца, пока будет жизнь на земле.
Сколько раз в эти годы было: ночами Алпатов вскакивал с постели, обвязывал голову мокрым полотенцем и так до утра ходил по комнате из угла в угол, как в тюрьме. И сколько раз, встречаясь на улице с глазами каких-то женщин, он в этом зеркале узнавал свой ад и, вспыхнув, опускал свои глаза и отходил. Верней всего, бессознательно, как девушка – честь, он берег так неясную силу из этого создать свою единственную в мире волну.
Долго сидит Алпатов в старом кресле профессора и не может перейти спать в другую комнату, где он оставил букет своих почему-то не пахнущих роз.
Проходит новое свое несчитаное время. Звенят в ушах серебряные колокольчики. Нет, он не спал, это ему не во сне приснилось, в другой комнате есть доказательство – большие роскошные непахучие розы. Посмотреть бы на них… Открывает дверь и, не видя роз в темноте, чувствует аромат во всей силе: розы не пахли на холоде…
Друг мой, неповинны розы в их аромате, дурные, испорченные и слабые люди создали из этого грех. Розы в эту ночь преобразили свой грешный запах в чистейший аромат краски новой детской лошадки из папье-маше и перенесли спящего в ту пасхальную ночь, когда маленьких укладывают в постельки с пологом, уходят к заутрене и возвращаются в темноте. Спящий знает о каких-то радостных таинственных приготовлениях. Он просыпается, когда старшие спят, а в комнате солнце, и по удивительному аромату догадывается. Выглянув из-за полога, сразу видит он – не ошибся: это большой новый конь, в седле и с уздечкой, стоит и пахнет возле кроватки. Тогда в великом восторге он тащит коня к себе на кровать.
В первой любви, дорогой мой друг, всегда возрождается детство, и такое прекрасное, каким оно не бывает в действительной жизни. У меня есть подозрение, что и великие мечтатели счастливую жизнь дикарей на лоне природы взяли из нашего первого брачного дня…
В такое утро Алпатов проснулся не обыкновенным капризным ребенком, устремленным к лошадке, а ребенком, готовым обнять весь мир любовью; не лошадка, а человек ему близок и дорог. Нет, едва ли у кого-нибудь в действительном детстве бывает такое звонкое утро. И если бы не каждый порознь, не в разные сроки, а все в один день переживали такое, то давно бы в одном дружном усилии вдребезги разлетелась вся наша Кащеева цепь.
Алпатов взглянул на часы. Оставалось всего только сорок минут до новой встречи у того же самого прекрасного омнибуса. Вместе с кофеем подают ему на подносе маленькое письмо. Он пьет, положив перед собою часы, и не обращает на письмо никакого внимания: это после, как-нибудь на ходу.
Все моряки говорят, будто крысы предчувствуют гибель судна. Я это понимаю; очень может быть, в некоторых случаях крысы как-нибудь по давлению атмосферного воздуха узнают нам непонятное.
В этом маленьком письме была мина Алпатову, и он совсем не предчувствовал взрыва. Мина лежала, смотрела на него, а он пил кофе с сухарями и видел только стрелки часов. Уже в пальто и шляпе на ходу берет он письмо и читает:
«Не думайте только, что я вас обманула вчера. Я искренно увлеклась вашей сказкой. Но я не та, которую вы любите: вы сочинили сами себе невесту и почти ничего не взяли для этого из меня действительной. И я тоже не могу полюбить вас в один день. Прощайте. Ночью я уезжаю».
Алпатов уронил письмо и побежал на улицу, в тот дом, где вчера он с Инной расстался. Не может быть, она не уехала. Но ему ответили в доме: она уехала ночью.
И вот это волна. Да, это родилась и побежала волна.
Микарэм
Был туман в Лейпциге. Звук рожка омнибуса в холодном тумане звал родным голосом к вчерашнему ясному дню. И Алпатов шел по сигналу друга на то самое место, где вчера ему явилось облако-лебедь. Но там не было друга. Он ехал в том же самом вагоне – в нем были только старухи с корзинами. В деревне добрый хозяин спросил, почему с ним сегодня не пришла его милая барышня. Он ответил:
– Барышня боится холодного тумана, сегодня барышня очень больна.
Через несколько дней в солнечное утро, бледный, с темными кругами на лице от бессонницы, он опять в этой деревне, и хозяин опять спрашивает:
– Сегодня солнечное утро, почему с вами опять нет милой барышни?
– Добрый хозяин, не спрашивайте больше меня: барышня умерла, я сегодня уезжаю на родину.
И после того он решительным шагом направляется в город. Там в чертежной ставит циркулем последний кружок на дипломном проекте. Покупает билет в Москву, прощается с профессоршей.
– Ничего плохого – я встретил друга из России, мы с ним покутили и сегодня вместе едем в Москву.
Идет наверх за вещами, а профессорша снизу кричит:
– Не забудьте: там на столе заказное письмо из Парижа.
Так прибежала вторая волна и опять поднимает наверх, и опять форма и тело волны сливаются вместе, и снова кажется – волны быстро бегут, и можно довериться им, и унесут эти волны куда-то к началу и своего собственного, и общего всем, и небывалого, и вечного мира.
Барышня жива!
Она пишет ему неверным почерком с кляксами о каких-то своих учебных Людовиках в книгах, что все они полетели у ней. Но она и пальцем не шевельнет для своего счастья. И кончает письмо: судите меня…
…Видите, друг мой, она просит судить. Сколько лет проходит у нас, пока можно бывает об этом судить, а я и теперь не свободен ранней весной: вместо суда весной света в предрассветный час на морозных узорах окна протеплю себе дырочку и смотрю почему-то в восторге на соседку бабу-ягу, отправляющую ухватом в печь чугуны; везде из труб большими колоннами поднимается дым: мало-помалу бледнеет молоденький месяц и с ним его большая звезда, – я давно знаю эту звезду, и видите, какой я смелый, я говорю: «Это моя звезда».
В этот заутренний час я приветствую не совсем ясно доступную моему уму силу стоящего надо мной всеобщего родства и, не зная, кого благодарить, вспоминаю близких людей и особенно ту маленькую женщину, через посредство которой явилась и эта звезда. Она доверчиво мне отдавалась и тоже шептала: «Судите!» Теперь, в этот заутренний час без суда и раздумья, как исток лучшей творческой силы людей, приветствую глупость влюбленных, когда не только люди, но и растения, и животные, даже каменные планеты являются как родные существа, и совершенно исчезают враги, и все человечество, и паровозы, и аэропланы, и фабрики, и города представляются без враждебных слагаемых, как общее дело.
Мчится, мигом пересекая маленькую Бельгию, экспресс Французской республики. Алпатову не только этот экспресс, но и целые государства, Германия, Бельгия, Франция, – его земля, весь мир – это Я и мои близкие. И как думать о парусе, несущем судно вслед за бегущей формой волны, – разве это не благословенная сила? И пар, несущий экспресс почти с быстротой птицы, – это разве не та же самая невидимая сила любви? И парус, и пар, и челнок, и экспресс, и Россия, и Германия, и Бельгия, и Франция, и весь мир, и все миры соединяются, вселенная плавится, и вся она, вселенная, – это Я сам и мои близкие.
Случайно сошлось, но при этом всегда что-нибудь сходится и кажется чудесным. У Алпатова так сошлось, что влетел он в Париж в тот самый день, когда каждый француз сходит с ума и бросается веселиться со всеми на улицу.
У нас в половине поста одни коты кричат на улицах и лезут на крыши. Французы в середине поста обрывают молитву и труд, все выходят на улицу выбирать себе королеву красоты из прачек, как будто хотят заявить князьям всего мира, что красота больше породы, и попам – что красивая прачка сильнее поста.
У нас в это время в нашей пустыне по утрам царит иней, а потом, позднее, когда иней сойдет, в лучах солнца дрожат, переливаясь всеми цветами, ледяные иголки и сверкают снега. У них уже греет апрельское солнце и вместо ледяных иголок в воздухе носятся радужные тучи конфетти. Синица и овсянка у нас только-только начинают петь брачным голосом, у них на улицах поют, играют на скрипках и многие прямо возле кафе и пускаются в пляс.
Невозможно в этой французской живой толпе продвижение. Русский спускается с верхней площадки тяжелого омнибуса по лесенке. Русский только по горю своей родины не знает таких больших праздников, но зато теперь на чужбине падает цепь, и он бросается в толпу искать свою королеву.
Какая-то роскошная дама, с султаном из белой цапли на шляпе, с двумя кавалерами в цилиндрах, обнажив блестящие зубы, швырнула ему прямо в лицо горсть конфетти. Что же, мало ей двух или, может быть, никого ей не нужно и, как солнце, равнодушно и щедро она всем равно бросает лучи? Вовремя протянулась к Алпатову рука с пакетом, он схватил его и обсыпал красивую женщину с головы и до ног цветными кружками. Она засмеялась, и кавалеры слегка поклонились.
Возле открытого кафе немолодой человек с усталым лицом, но живыми глазами играл на скрипке. Алпатов дает ему мелочи и спрашивает грамматически очень верно построенной фразой, где ему тут можно выпить немного и не желает ли музыкант тоже выпить рюмочку и закусить. По усталому артисту пробежал ток жизни, он весь встрепенулся и, взмахнув смычком, кончиком очертил воздух и заключил весь Париж в магический круг: весь Париж у иностранца в полнейшем распоряжении. Но далеко ходить незачем, они садятся тут в открытом кафе, и француз после рюмки абсента называет Алпатова другом.
Видел ли уже прекраснейший иностранец королеву северных кварталов Парижа?
Нет, он не видел еще. Он приехал сюда искать свою королеву. Это вполне понятно: у каждого молодого человека должна быть своя королева. Знает ли он ее адрес?
Адрес известен.
Музыкант смычком постучал по столу и вызвал курьера.
Алпатов пишет письмо своей королеве, просит ее прийти… но куда же прийти? Он совсем не знает Парижа. Спрашивает музыканта, где самое лучшее место для свиданий в Париже. Друг задумался и переспросил:
– Вы желаете непременно самое лучшее?
Получил ответ и снова задумался. И это правда невозможно трудный вопрос: в Париже такое множество мест для свиданий и все одно лучше другого.
Вдруг ему что-то мелькнуло. Он срывается с места. Поручает свою скрипку попечению друга, извиняется: он сию минуту ответит.
Недалеко он ушел. Тут же против кафе из-под железного цилиндра на ножках вроде огромной конфорки, на которых у нас варят варенье, видны его ноги. Несколько секунд он думает, стоя в этой жаровне, и является оттуда, не помыв даже рук, совершенно счастливым.
– Я нашел, мосье, для вашей королевы самое подходящее место.
Алпатов спросил коньяку. Артист выпил.
– Берите перо, пишите место свидания: Люксембургский сад, фонтан Медичи.
Алпатов отправляет курьера.
– Я всегда замечал, – говорит довольный артист, – самые прекрасные мысли приходят в голову, когда занимаешься этим маленьким и необходимым для каждого делом.
Он указал смычком на жаровню, где уже виднелись ноги другого мыслящего француза.
Расстаются. И нет, Алпатов не ошибается, нет: лицо музыканта стало серьезным и усталым по-прежнему, в глазах музыканта неподдельная грусть, что они должны так скоро расстаться.
Луч Парижа
У них это бывает в феврале, а у нас только в половине апреля, когда почти все растает в полях, на южных опушках лесов солнечный луч как бы впивается в землю, на пути своем сушит листву и мелкая зимующая в листве тварь шевелится, оправляет крылышки. Луч проникает все глубже, лезет сморчок… Тут не бывает, как у нас, долгой весны света с февраля и потом весны половодья до половины апреля, и если приходит любовь, то минута этой любви в Париже отвечает за час. У них, наверно, к этому привыкли и знают, как обойтись, когда вдруг в это время начинается пожар. Наш северный человек в Париже даже от ресторанной любви сходит с ума, принимая кокотку за свою королеву. Но воробьи в Люксембургском саду до смешного такие же, как и у нас. Это с удивлением заметил Алпатов и остановился возле колючей изгороди, за которой среди разбросанных статуй был фонтан Медичи. Пожилая дама в трауре подошла сюда и стала кормить воробьев. Сколько пережитых страданий открывал солнечный луч в чертах этой дамы! Но воробьи так весело прыгали по газону, что дама им улыбнулась. Алпатов легко прочитал в этой улыбке: жизнь этой женщины не удалась, но она вдумчиво все перенесла и у нее много еще осталось чего-то для всех. Дама в трауре заметила интерес Алпатова, просто ему улыбнулась, кивнула в сторону воробьев, сказала: «Что за прелесть!» И как раз в это самое время к изгороди подошла королева в новой шелковой кофточке.
Алпатову явление невесты в первый момент было, как при остановке поезда бывает непременно у всех: все продолжает по-прежнему двигаться, хотя очень хорошо знаешь, что поезд стоит. Потом обратил он внимание на ее новую шелковую кофточку, прежняя была шерстяная, поношенная шотландка и очень к ней шла, эта была не к лицу. Конечно, они улыбнулись друг другу, но сказать не могли даже здравствуйте. Подала ему руку. Он задержал, и рука осталась у него. Так идут они молча к Дворцу. Алпатов первый решается сказать:
– У вас совсем новая кофточка!
Она ответила:
– Я знала, что вы непременно приедете, и купила ее только вчера. Так надо!
После того вдруг объяснилось, почему ей кофточка не к лицу и что это значит: в этом что-то серьезное, гораздо более хорошее, чем если бы шло к лицу, и, конечно, так надо. Но самое главное, что Инна идет против всего, что говорит о лживой природе женщины: он вовсе не просил открываться ему, всякая другая женщина тут непременно бы сделала тайну – эта была единственная не как все. И в то же время все покупают новые кофточки, и, значит, у них с Инной тоже как у всех. Так получилось из всего, что обычное для всех у них происходило по-небывалому и через это раньше отвергнутое и уже непризнаваемое прошлое как бы воскресало в прелести настоящего и становилось так надо.
Все это мелькнуло Алпатову в чувстве родного, и так сильно, что перешло в движение, и он прижал ее руку к себе, и она ему ответила. А потом и началось у них понимание.
– Вот странно, – сказал он, – не кажется ли…
Он замялся, не желая сказать вы и еще не смея на ты. Выдумал пошутить.
– Если бы у нас теперь было как в опере, я бы должен был сказать: ты моя!
Она все поняла и ответила:
– Пусть будет как в опере: я твоя! Продолжай, твои слова были: «не кажется ли».
– Не кажется ли тебе, что сейчас мы живем, думаем, как нас учили, вот ты покупаешь новую кофточку…
– Я вчера, когда покупала, думала точь-в-точь то же самое.
В это время они были уже давно в Дворце и теперь говорили около статуи Родена.
– А еще я думаю сейчас о скульптуре – раньше я смотрел на форму и потом догадывался о плане художника, находил его и идею, теперь, смотря на тело статуи, на самый мрамор, и так все понимаю: какой он белый, какой крупчатый, видишь ты это?
– Я это еще раньше тебя заметила, когда ты начал о кофточке.
– Нет, – заспорил Алпатов.
– Не будем спорить, – засмеялась Инна, – согласимся: мы об этом вместе подумали. Мне кажется, сейчас мы так похожи, мы такими друг для друга родились и вдруг нашлись.
Им стало тесно в Дворце искусства. Вернулись в сад. Шли под руку. Она сказала:
– Подумать только: всю жизнь вместе идти!
Он сказал:
– И хорошо!
На бульваре Сен-Мишель их подхватила толпа. Тут весь воздух дрожал от разноцветных кружков. Все население Латинского квартала провожало свою королеву, победительницу всех местных, королеву всего Парижа. Когда вместе с толпой они вступили на мост, Инна крикнула:
– Сена!
И Алпатов узнал на всю жизнь, какая настоящая Сена. В это время что ни показывалось, то все на всю жизнь оставалось.
– Вот Тюильри!
И стало ему настоящее Тюильри, как природному парижанину.
О Вандомской колонне с маленькой фигурой Наполеона Алпатов сам догадался, и то же с ним было на улице-парке со сверкающими на солнце вечнозелеными растениями, он догадался сам: Елисейские Поля.
И так прошел весь день: узнавал от нее или догадывался по Гюго и Золя. Перед самым закатом солнца очутились опять в Люксембургском саду и сели на лавочку против своего фонтана.
– Что я думаю, – сказал Алпатов, – мне кажется, я этот город видел где-то, очень может быть, что во сне, но все равно знал о нем, и что когда народ наш дождется счастья, то у нас сложится, как здесь.
– Опять мы с тобой думаем вместе.
Тогда Алпатов вспомнил то самое, о чем хотел ей еще сказать утром, когда было у них в разговоре: «Мы такими родились и вдруг нашлись». Теперь он взял обе ее руки и сказал: «Вероятно, все это потому, что мы любим друг друга». Луч Парижа только в эту минуту проник совсем в нее, она вспыхнула, опустила глаза.
Дети
Анютины глазки называлась у нас одна милая девушка, и я сотни раз слышал о ней от взрослых: «Вот эта девушка создана для семейного счастья!» За ней было очень большое приданое, и женихов у нее было множество. На каждое лето она приезжала к нам от матери из Москвы одна, и мало-помалу, из года в год, глазки ее начинали терять свежесть полевого цветка. Наконец один из близких нам людей влюбился в нее и поехал в Москву с твердой решимостью добиться от нее если не любви, то хотя бы уважения и непременно жениться. Через несколько дней он бежал из Москвы, как все женихи, и наконец мы узнали тайну Анютиных глазок. В первый же день появления жениха в доме невесты мать приглашает его к себе в комнату и просит в следующий раз непременно захватить с собой медицинское свидетельство… Так раскрылась тайна выцветающих Анютиных глазок. Но только после смерти ее матери мы узнали все: доктор объяснил странности матери последствием одной страшной болезни. «Но, – сказал доктор, – возможно, сама она ничего о своей болезни не знала, хотя всегда была в смутной тревоге, и это переродило любовь к дочери в эгоистический страх перед ее женихами». После смерти матери было уже поздно добиваться личного счастья, и состоянием девушки постепенно завладели монахи.
И как же хороша она была в своей печали, как ужасно было знать себя маленьким, бесправным, не понимать совершенно тайны медицинского свидетельства, не иметь никакой возможности освободить прекрасную, нежную девушку из ее ужасного плена. Сколько раз потом в жизни своей судьбу ее мысленно я к себе применял и загадывал, бежать мне от этой матери, называемой родиной, или терпеть все ее медицинские свидетельства без всякой надежды на личное счастье…
Была такая ничтожная причина к этому воспоминанию: сегодня на первой проталине я поднял пролежавший зиму под снегом поблеклый цветок анютины глазки. И такая же ничтожная причина была у Алпатова с Инной вернуться мыслью из самого очаровательного города в мире на свою трудную родину. Было это на Вандомской площади, где грязно, почти как у нас, и особенно было грязно после бешеного Микарэма. За много лет выбитые шашки мостовой стали как тарелки, и каждая была наполнена навозной жидкостью.
Влюбленным, конечно, везде хорошо, и они идут, не разбирая пути, но бывают пределы и этому: без калош в новых лакированных башмаках дальше Инна идти не могла и вдруг опомнилась. А он в это неприятное для нее мгновенье сказал:
– В Париже почти такая же славная грязь, как в Москве.
Инна в первый раз ничего не ответила. Это глухое молчание продолжалось и в Тюильри, когда они сели на лавочку.
Алпатов спросил:
– Милая, скажи, что тебя смутило вдруг, и в первый раз мы стали думать о разном. Скажи все, так нам нельзя, дорогая.
– Меня вдруг смутила, – ответила Инна, – эта грязь на Вандомской площади и потом твои слова, я задумалась о завтрашнем дне: не всё же мы будем в Париже. В России есть для меня ничем не прикрытый ужас жизни, и без твоей помощи, мне кажется, я не в силах его выносить. Я помню твое бледное лицо за двумя решетками. Жандарм стоял с часами в руках, и это было наше первое свиданье, от чего все началось.
У нее на глазах были слезы. Алпатов первый раз видел слезы любимой женщины, у него сжалось сердце.
– Инна, – сказал он, – я сам то же, наверно, чувствовал, когда с улицы смотрел на заключенных. Мне кажется теперь, мое сострадание было больше страдания заключенных: я лично был счастлив в тюрьме, и там я тебя полюбил.
– Вот я этого больше всего и боюсь, – ответила Инна, – ты не меня, ты свою мечту полюбил, я знаю: это, может быть, и есть настоящее счастье – слышать над собой зовущий голос, но это счастье только твое. Я не за тебя, я за себя боюсь: я обыкновенная женщина.
– Какая ты женщина! – улыбнулся Алпатов.
Инна удивилась:
– Что хочешь этим сказать?
– Ты ребенок, еще совершенный ребенок, – ответил Алпатов.
– Как раз это я думаю о тебе – какой ты мужчина, ты настоящий ребенок.
Оба смеялись.
Он. Ты думаешь, такое, как у нас вышло с ребенком, у всех бывает?
Она. Да, вероятно, у всех.
Он. Читала где-нибудь об этом?
Она. Нет, сама догадываюсь и, правда, читала у Герцена.
Очень покраснела почему-то. Но скоро справилась с собой и сказала:
– А кроме того, что, наверно, у всех бывает эта мысль о ребенке, сверх всего ты еще и ребенок настоящий. Скажи, например, что мы с тобой будем делать, когда вернемся в Россию?
– Как что! – воскликнул Алпатов. – До встречи с тобой мне, правда, было неловко думать, что придется как-то устраиваться на буржуазный лад, теперь это стало необходимостью, мы устроимся, а потом сама жизнь поведет нас к настоящему делу. Вот твой родной Петербург мне теперь представляется на огромном пространстве болот как водяная лилия, – видишь как! И лебеди, и дикие гуси летят над городом, и этот город своим электричеством бросает на облака рыжую тень. Это им одно мгновенное впечатление, и они дальше летят. Россия – не Петербург, она огромная! Вот как надо смотреть, я так понимаю жизнь, что мы с тобой как птицы. Стоит ли думать о пустяках, как-нибудь же непременно устроимся. Разве ты этого не чувствуешь?
Инна, подумав, печально ответила:
– Я это чувствую, милый, только через тебя.
Она взяла его руку к себе на колени, погладила, улыбнулась и потом новым, и ласковым, и деловитым, голосом совершенно как мать сказала:
– Я сейчас смотрю на тебя, и мне так хорошо, мне кажется – ты мой ребенок. – Она опять покраснела. – Но все-таки давай поговорим совершенно практически.
– Я готов – это надо. К нашему счастью, так вышло, что я тогда тебя утерял, и, казалось мне, навсегда. С отчаяния взялся я за выучку. Теперь я хороший, нужный для нашей страны инженер, ценный работник, буду осушать болота, дело будет! Зачем ты вмешиваешь еще, что я поэт или художник, я тебе об этом не говорил и никакой на это не имею претензии, напротив, я горжусь, что научился работать в Германии и никакой серой действительности не боюсь. Притом ты меня еще ребенком считаешь, разве что я сейчас говорю тебе – не как у всех и непрактично?
Инна изумилась:
– Ты как будто обижаешься, милый мой, за хорошее, за самое лучшее, что я открываю в тебе. Я еще больше скажу: у тебя есть лучшее, чем у поэтов, ты принимаешь к сердцу людей, чувствуешь их – вот что дорого.
– Ты же захотела говорить о практическом, – перебил ее Алпатов, – а теперь сама уходишь в сторону.
– Хорошо, – схватилась Инна, – практическое, милый мой мальчик, не в твоих болотах, а в маме моей… я себе не могу тебя представить возле нее. Сказать ли тебе?
– Все скажи, непременно.
– Трудно все: есть мучительные маленькие тайны – как их высказать? Мама моя – урожденная графиня, а папа из купцов, но ради нее сделался действительным статским советником и служит в лесном департаменте.
– Ну вот, – обрадовался Алпатов, – я очень рад, что отец твой из купцов…
– Погоди, – перебила Инна, – я сейчас тебе расскажу, что перенес он из-за своих купцов. Настоящая фамилия его была Чижиков, ему пришлось поднести государю какую-то особенную просфору на каком-то особенном блюде. После того он получил дворянство и переменил свою фамилию на Ростовцева. И еще он готовился сделаться профессором, но, чтобы мама была генеральшей, он бросил университет и поступил в департамент. И все-таки, помню, раз у них подслушала сцену, мама сказала ему: «Помни, для меня ты вечный Чижиков!»
Инна глядела сейчас далеко и там, в России, нашла лицо своей матери.
– Представляю себе, – сказала она, – как она прищурится, когда ты у ней будешь целовать руку.
– Зачем я ей буду целовать руку? – удивился Алпатов. – И не подумаю, я целую руки только милым дамам, ведь я сам из купцов.
Инна смутилась, но сейчас же, как бы что-то смигнув, сказала:
– Конечно, это все пустяки!
Алпатов, однако, заметил не совсем искренний тон.
– Ты сейчас, я чувствую, сделала прыжок, – сказал он, – так нельзя, слышишь?
Инна молчала. Алпатов строго сказал:
– Другой раз так не делай!
Она вспыхнула и руку его крепко прижала к груди.
Он удивленно смотрит, а она шепчет:
– Ты всегда со мной так, всегда…
– Вот какая ты, – сказал он, смягчая тон, – правда, как ребенок, – ну скажи мне, что же, если я руку не поцелую у твоей страшной графини, неужели она не согласится на брак?
Инна молчит, как виноватая. И у нее слезы в глазах. Но Алпатов на слезы не смотрит. Он требует:
– Инна, ты мне достаешься немалой ценой. Ты должна, понимаешь ты это: ты должна мне все сказать.
Инна всхлипывала.
– Я жду, Инна. Не согласится твоя графиня – ты со мной не пойдешь?
Она вдруг озлилась:
– Чего ты ко мне пристал? Как я могу сказать тебе, пойду я или не пойду: я сама ничего не знаю…
Она вдруг зарыдала у него на плече, и так сильно, так безудержно рыдала. Алпатов потерялся. Что ему делать? Было такое тупое мгновенье. Она жила и мучилась в какой-то своей женской тайне, а он как на пожаре стоит: видит – горит, а под рукой нет ничего… Но вдруг он понял: это ребенок обиженный и надо с ней, как с ребенком. Но когда он двинулся к ней, как к ребенку, вместе с тем двинулось в нем и все его безудержно. Он целовал ее в лоб, в глаза, в слезы и говорил ей:
– Успокойся, Инна, я сейчас понял, как мне надо быть; я правда эгоист и знаю только себя, я буду смотреть на тебя близко, я буду читать твои мысли: я пойму тебя совершенно, ты будешь довольна. Я поцелую руку страшной графине – пусть! – я постараюсь понравиться ей – пусть! Я даже поступлю в департамент на службу к твоему отцу – пусть! А потом, когда мы крепко, по-настоящему полюбим друг друга, то удерем из твоего гнилого Петербурга в настоящую хорошую Россию. Тебе так нравится?
– Милый мой, – шептала она, – я никак не думала, что есть еще такие, как ты, я думала, это в сказках только… Вижу теперь, Петербург – это не вся Россия. И вижу я еще, ты не один.
– Нет, нет, – подхватил радостно Алпатов, – нас очень много, ты к нам переходи, будь с нами…
Только едва ли это она слышала. Она уходила куда-то в себя, все дальше, дальше, и, вдруг вспыхнув, прижалась к нему.
Но он целовал ее, как сестру, как ребенка, и совсем даже не догадывался, не знал, что теперь бы уже ему можно бы целовать как-то иначе.
– Скажи, – говорил он, – скажи, моя маленькая девочка, нравится ли тебе мой план?
Она ему сказала:
– План? Какой план? Милый мой, ты еще совершенно ребенок, и ничего, ничего еще ты не понимаешь.
Арфа из Швеции
Тихое солнечное утро. Предрассветный мороз все прибрал, подсушил, где причесал, где постриг, но солнце очень скоро расстроило все его заутреннее дело, пустило в ход все свои лучи, и на припеке под лужами острия зеленой травы начали из-под воды отделять пузырьки своего дыхания.
Не знаю, не хочу вспомнить, как называется то дерево, на котором я увидел родные хохлатые почки, и в этот миг все пережитые мною весны стали мне как одна весна, и вся природа явилась мне как брачный пир.
Мне долго казалось, что это острое, как иголки травы, пускающей на припеке из ледяной воды пузырьки дыхания, чувство природы мне осталось от первой встречи себя как ребенка с природой. Так я долго был под влиянием великих мечтателей и представлял себе, будто и вправду где-то на лоне природы у дикарей существует прекрасная жизнь. Но теперь я понял ошибку этих великих умных людей, и я теперь знаю, что родники этого чувства не тут…
Мне все стало ясно, когда впервые мелькнуло, что, может быть, необходимо навсегда расстаться с такой любовью, и когда наконец дошло до такой боли, что хоть пальцем потрогай по телу – и душа отзывается, то на другой стороне взамен этого встал великий мир моей радости, и временами оказалось возможным заменить любовь к недоступной невесте любовью к женщине-матери и сладостную боль израсходовать в благословенном труде, где понятно, почему живет красота и радость в цветах, в полете и пении птиц, в гибких движениях зверей и всего бытия. И только тогда, став в ряды живых сил, творящих в настоящем из прошлого в будущее, познал я прелесть человека-ребенка в природе, и родной человек в родной стране мне при всем его горе показался прекрасным.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































