Текст книги "«Опыты» мудреца"
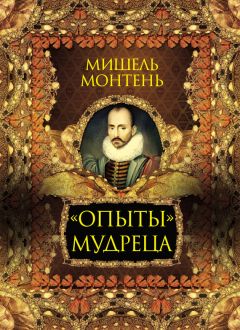
Автор книги: Мишель Монтень
Жанр: Афоризмы и цитаты, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Добродетели и чувства

Когда творишь добро, сам испытываешь некое радостное удовлетворение и законную гордость, сопутствующую чистой совести.
Понятие добродетели предполагает трудность и борьбу, добродетель не может существовать без противодействия.
Истинное достоинство подобно реке: чем она глубже, тем меньше издает шума.
Благоразумию также свойственны крайности, и оно не меньше нуждается в мере, чем легкомыслие.
Подобно тому как огонь, войдя в соприкосновение с холодом, становится ярче, так и наша воля, сталкиваясь с препятствиями, закаляется и оттачивается.
Самый краткий путь к завоеванию славы – это делать по побуждению совести то, что мы делаем ради славы.
Доблесть, которою так жаждут прославиться, может проявиться при случае столь же блистательно, независимо от того, надето ли на нас домашнее платье или боевые доспехи, находитесь ли вы у себя дома или в военном лагере, опущена ли ваша рука или занесена для удара.
Страх ощущается нами с большею остротою, нежели остальные напасти.
Столько имен, столько побед и завоеваний, погребенных в пыли забвения, делают смешною нашу надежду увековечить в истории свое имя захватом какого-нибудь курятника, ставшего сколько-нибудь известным только после своего падения.
Крайняя степень страха выражается в том, что, поддаваясь ему, мы даже проникаемся той самой храбростью, которой он нас лишил в минуту, когда требовалось исполнить свой долг и защитить свою честь.
Многих из тех, кого помяли в какой-нибудь схватке, израненных и еще окровавленных, назавтра можно снова повести в бой, но тех, кто познал, что представляет собой страх перед врагом, тех вы не сможете заставить хотя бы взглянуть на него.
Смелый поступок не должен непременно предполагать доблесть у совершившего его человека, ибо тот, кто по-настоящему доблестен, будет таковым всегда и при всех обстоятельствах.
Страх то придает ногам крылья, то приковывает их к земле.
Ценность и достоинство человека заключены в его сердце и в его воле; именно здесь – основа его подлинной чести.
Кто заражен страхом болезни, тот уже заражен болезнью страха.
Что касается трусости, то, как известно, наиболее распространенный способ ее наказания – это всеобщее презрение и поношение. Есть основание опасаться, что позор не только повергает в отчаяние тех, кто наказан подобным образом, и не только доводит их до полнейшего равнодушия, но и превращает порой во врагов.
Совсем не трудно изображать храбреца, пока не приступишь к выполнению замысла.
Распространять молву о наших деяниях и выставлять их напоказ – это дело голой удачи: судьба дарует нам славу по своему произволу.
Страх – это страсть воистину поразительная, и врачи говорят, что нет другой, которая выбивала бы наш рассудок из положенной ему колеи в большей мере, чем эта.
Молчаливость и скромность – качества, в обществе весьма ценные.
Привычка терпеливо трудиться – это то же, что привычка терпеливо переносить боль.
Вежливость ничего не стоит, но приносит много.
Честный человек предпочтет скорее расстаться со своей честью, чем с чистой совестью.

Пытливости нашей нет конца: конец на том свете.
Существуют вещи, которые только затем и прячут, чтобы их показать.
Чрезмерно сильное горе подавляет полностью нашу душу, стесняя свободу ее проявлений.
Обвинениям в адрес самого себя всегда верят, самовосхвалению – никогда.
У животных есть та благородная особенность, что лев никогда не становится из малодушия рабом другого льва, а конь – рабом другого коня.
Величие победы измеряется степенью ее трудности.
Полное согласие – свойство для беседы весьма скучное.
…Не достигнув желаемого, они сделали вид, будто желали достигнутого.
Взять город приступом, выслать посольство, царствовать над народом – все это блестящие деяния. Смеяться, любить и кротко обращаться со своей семьей, не противоречить самому себе – это нечто более редкое, более сложное и менее заметное для окружающих.
Не все, что колеблется, падает.
Все средства – при условии, что они не бесчестны, – способные оградить нас от бедствий и неприятностей, не только дозволены, но и заслуживают всяческой похвалы.
Сильное воображение порождает событие.
Открывать свое сердце состраданию свойственно людям снисходительным, благодушным и мягким.
Оставаться равнодушным к слезам и мольбам и уступать единственно из благоговения перед святынею доблести есть проявление души сильной и непреклонной.
Скорбь – чувство, всегда приносящее вред, всегда безрассудное, а также всегда малодушное и низменное.
Душа мудреца не способна устоять перед обрушившимися на нее впечатлениями и образами, и этот мудрец отдает законную дань природе, когда бледнеет и съеживается, заслышав, к примеру, раскаты грома или грохот обвала. То же самое происходит, когда его охватывают страсти… Мудрец не свободен от душевных потрясений, но он умеряет их.
Наши намерения являются судьями наших поступков.
Раскаяние требует жертв.
Мы не можем отвечать за то, что сверх наших сил и возможностей.
Превосходная память весьма часто уживается с сомнительными умственными способностями.
Я посоветовал бы человеку, говорящему медлительно, стать проповедником, а человеку, говорящему живо, – адвокатом.
Нашему остроумию, как мне кажется, более свойственны быстрота и внезапность, тогда как уму – основательность и медлительность.
Умение держать себя с людьми – вещь очень полезная. Подобно любезности и красоте, оно облегчает нам доступ в общество и способствует установлению дружеских связей.
Людей… мучают не самые вещи, а представления, которые они себе создали о них.
Всякое убеждение может быть достаточно сильным, чтобы заставить людей отстаивать его ценою жизни.
В чем бы они (добродетели) проявляли себя, если б не существовало страдания, с которым они вступают в борьбу?
Страдание захватывает нас настолько, насколько мы поддаемся ему.

Наше представление о вещах – дерзновенная и безмерная сила.
Как учение – мука для лентяя, а воздержание от вина – пытка для пьяницы, так умеренность является наказанием для привыкшего к роскоши, а телесные упражнения – тяготою для человека изнеженного и праздного и тому подобное.
Храбрости, как и другим добродетелям, положен известный предел, преступив который, начинаешь склоняться к пороку.
Что бы ни говорили, но даже в самой добродетели конечная цель – наслаждение.
Поистине недостоин общения с добродетелью тот, кто кладет на чаши весов жертвы, которые она от нас требует, и приносимые ею плоды, сравнивая их вес; такой человек не представляет себе ни благодеяний добродетели, ни всей ее прелести.
Нравственные законы, о которых принято говорить, что они порождены самой природой, порождаются в действительности тем же обычаем; всякий, почитая в душе общераспространенные и всеми одобряемые воззрения и нравы, не может отказаться от них так, чтобы его не корила совесть, или, следуя им, не воздавать себе похвалы.
Привычка притупляет остроту наших чувств.
Блаженство и счастье, которыми светится добродетель, заливают сиянием всё имеющее к ней отношение, начиная с преддверия и кончая последним ее пределом.
Вера в чудеса, видения, колдовство и иные необыкновенные вещи имеет своим источником главным образом воображение, воздействующее с особой силой на души людей простых и невежественных, поскольку они податливее других.
Нет наставницы более немилосердной и коварной, чем наша привычка. Мало-помалу, украдкой забирает она власть, но, начиная скромно и добродушно, она с течением времени укрепляется и укореняется в нас, пока наконец не сбрасывает покрова со своего деспотического лица.
Я полагаю, что нет такой зародившейся в человеческом воображении выдумки, сколь бы сумасбродною она ни была, которая не встретилась бы где-нибудь как общепринятый обычай и, следовательно, не получила бы одобрения и обоснования со стороны нашего разума.
В самом деле, поскольку мы впитываем предписания привычки с молоком матери и так как мир предстает перед нами с первого же нашего взгляда таким, каким он ими изображается, нам кажется, будто мы самим рождением предназначены идти тем же путем.
Все отклонения от обычая считаются отклонением от разума.
Целомудрие – прекрасная добродетель, и как велика его польза – известно всякому; однако прививать целомудрие и принуждать блюсти его, опираясь на природу, столь же трудно, сколь легко добиться его соблюдения, опираясь на обычаи, законы и предписания.
Кто пожелает отделаться от всесильных предрассудков обычая, тот обнаружит немало вещей, которые как будто и не вызывают сомнений, но вместе с тем и не имеют иной опоры, как только морщины и седина давно укоренившихся представлений. Сорвав же с подобных вещей эту личину и сопоставив их с истиной и разумом, такой человек почувствует, что, хотя его прежние суждения полетели кувырком, все же почва у него под ногами стала тверже.
Всякое благородное дело сопряжено с риском.
Пребывая в неуверенности и тревоге, порождаемых в нас нашею неспособностью видеть и избирать наиболее правильное решение, поскольку всякое дело сопряжено с трудностями из-за всевозможных случайностей и обстоятельств, на мой взгляд, самое надежное – поступать возможно более честно и справедливо; и когда нас одолевают сомнения, какой путь самый короткий, – предпочитать всегда самый прямой.

Мелочное и настороженное благоразумие – смертельный враг великих деяний.
Человек, жизнь которого исполнена честолюбивых стремлений и славных деяний, должен держать подозрительность в крепкой узде и ни в чем не давать ей поблажки: боязливость и недоверие вызывают и навлекают опасность.
Поскольку меры предосторожности, о которых надо постоянно заботиться, требуют бесконечных усилий и не могут считаться надежными, лучше вооружиться благородной твердостью и приготовить себя ко всему, что может случиться, находя утешение в том, что оно, быть может, все-таки не случится.
Ценность и возвышенность истинной добродетели определяются легкостью, пользой и удовольствием ее соблюдения; бремя ее настолько ничтожно, что его могут нести как взрослые, так и дети.
Нужно устремлять наши желания на вещи легко доступные и находящиеся у нас под рукой и нужно уметь останавливаться на этом.
Мир не настолько еще испорчен, чтобы не нашлось человека, который не пожелал бы от всего сердца расходовать унаследованные им от родителей средства… на избавление от нищеты людей редкостных и выдающихся… ибо судьба нередко преследует их, доводя до крайности.
Добродетель – мать-кормилица человеческих наслаждений. Вводя их в законные рамки, она придает им чистоту и устойчивость; умеряя их, она сохраняет их свежесть и привлекательность. Отметая те, которые она считает недостойными, она обостряет в нас влечение к дозволенным ею; таких – великое множество, ибо она доставляет нам с материнскою щедростью все то, что согласно с требованиями природы.
Те, кто утверждает, будто в добродетели не бывает чрезмерного по той причине, что все чрезмерное не есть добродетель, просто играют словами.
Доблесть есть сила не наших рук или ног, но мужества и души; она зависит не от качеств нашего коня или оружия, но только от наших собственных. Тот, кто пал, не изменив своему мужеству, кто пред лицом грозящей ему смерти не утрачивает способности владеть собой, тот, кто испуская последнее дыхание, смотрит на своего врага твердым и презрительным взглядом, – тот сражен, но не побежден.
Самые доблестные бывают порой и самыми несчастливыми.
Добродетель признает своим только то, что творится посредством нее одной и лишь ради нее.
Добро и зло можно творить повсюду.
Пресмыкаясь во прахе земном, я тем не менее не утратил способность замечать где-то высоко в облаках несравненную возвышенность иных героических душ. Иметь хотя бы правильные суждения, раз мне не дано надлежащим образом действовать, и сохранять, по крайней мере неиспорченной, эту главнейшую часть моего существа – по мне, и то уже много.
Обладать доброй волей … это тоже чего-нибудь стоит. Век, в который мы с вами живем… настолько свинцовый, что не только сама добродетель, но даже понятие о ней – вещь неведомая; похоже, что она стала лишь словечком из школьных упражнений в риторике.
Добродетель… довольствуется собой: она не нуждается ни в правилах, ни в воздействии со стороны.
Самая великая вещь на свете – это владеть собой.
Честолюбие несовместимо с уединением. Слава и покой не могут ужиться под одной крышей.
Хорошо иметь доброе имя, то есть пользоваться доверием и доброй славой.
Когда человек, падающий духом от оскорбления, в то же время стойко переносит бедность, или боящийся бритвы цирюльника обнаруживает твердость перед мечом врага, то достойно похвалы деяние, а не сам человек.

Смелый поступок не должен непременно предполагать доблести у совершившего его человека; ибо тот, кто по-настоящему доблестен будет таковым всегда и при всех обстоятельствах. Если бы это было проявлением врожденной добродетели, а не случайным порывом, то человек был бы одинаково решителен во всех случаях: как тогда, когда он один, так и тогда, когда он находится среди людей; как во время поединка, так и в сражении.
Наши поступки – не что иное, как разрозненные, не слаженные между собой действия, и мы хотим, пользуясь ложными названиями, заслужить почет. Добродетель требует, чтобы ее соблюдали ради нее самой; и если иной раз ею прикрываются для иных целей, она тотчас же срывает маску с вашего лица.
Поэты, которые творят со своими героями все, что им заблагорассудится, не решаются лишить их способности плакать.
Какие удивительные вещи способна проделывать с нами совесть! Она заставляет нас изменять себе, предавать себя и самому же себе вредить. Даже когда нет свидетеля, она выдает нас против нашей воли.
Совесть может преисполнять нас страхом так же, как может преисполнять уверенностью и душевным спокойствием.
Многие вещи наше воображение рисует нам более ужасными, чем они есть в действительности.
Говорить о себе уничижительно, хуже, чем ты есть на самом деле, – не скромность, а глупость… Никакая добродетель не улучшается от искажения, а истина никогда не покоится на лжи.
Говорить о себе, превознося себя лучше, чем ты есть на самом деле, не только всегда – тщеславие, но также нередко и глупость.
Если к награде, которая должна быть только почетной, примешиваются другие блага и богатства, то эти сочетания вместо того, чтобы усилить почет, снижают и уменьшают его.
Как бы велика ни была добродетель, но если она вошла в привычку, то не стоит награды. И я даже не уверен, назовем ли мы ее великой, если она стала обычной.
Кто делает добро, совершает прекрасный и благородный поступок, а тот, кто принимает добро, делает только нечто полезное; полезное же гораздо менее достойно любви. Благородное… доставляет тому, кто его сделал, прочное чувство удовлетворения. Полезное… не оставляет по себе столь живого и отрадного воспоминания.
Мы больше ценим те вещи, которые достались нам дорогой ценой, а давать труднее, чем брать.
Добродетель есть нечто иное и более благородное, чем проявляющаяся в нас склонность к добру.
Люди по природе своей добропорядочные и с хорошими задатками… поступают так же, как люди добродетельные. Но добродетель есть нечто большее и более действенное, чем способность тихо и мирно, в силу счастливого нрава, подчиняться велениям разума.
Тот, кто по природной кротости и обходительности простил бы нанесенные ему обиды, поступил бы прекрасно и заслуживал похвалы; но тот, кто задетый за живое и разъяренный сумел бы вооружиться разумом и после долгой борьбы одолеть неистовую жажду мести и выйти победителем, совершил бы, несомненно, нечто большее. Первый поступил бы хорошо, второй же – добродетельно… ибо мне кажется, что понятие добродетели предполагает трудность и борьбу и что добродетель не может существовать без противодействия.
Добродетель требует трудного и тернистого пути, она… должна преодолевать либо внешние трудности, которыми судьба старается отвлечь ее от нелегкого пути, либо трудности внутренние, вызванные нашими необузданными страстями и несовершенством.
Некоторые добродетели, например целомудрие, воздержанность и умеренность, могут быть обусловлены физическими недостатками.

Нет сомнений в том, что лучше по божьему соизволению свыше подавлять искушения в зародыше и так подготовить себя к добродетели, чтобы самые семена искушения были уже вырваны с корнем, чем, поддавшись первым проявлениям дурных страстей, лишь после этого мешать их росту и бороться… Но я не сомневаюсь, что идти по этому второму пути лучше, чем обладать просто цельным и благодушным характером и питать от природы отвращение к пороку и распущенности. Ибо люди, относящиеся к этой третьей разновидности, – люди невинные, но не добродетельные, они не делают зла, но их не хватает на то, чтобы делать добро.
Стойкость в перенесении опасностей, презрение к смерти и терпение в бедствиях часто встречаются у людей, не умеющих разбираться в злоключениях и потому не воспринимающих их как таковые. Поэтому отсутствие достаточного понимания и глупость иногда можно принять за добродетели, и мне нередко приходилось видеть, как людей хвалили за то, за что их следовало бранить.
Существует долг гуманности и известное обязательство щадить не только животных, наделенных жизнью и способностью чувствовать, но даже деревья и растения. Мы обязаны быть справедливыми по отношению к другим людям и проявлять милосердие и доброжелательность ко всем другим созданиям, достойным этого.
Смирение и послушание отличают добродетельного человека.
Бич человека – это воображаемое знание. Вот почему христианская религия так настойчиво проповедует нам неведение, являющееся лучшей основой для веры и покорности.
Неотесанность, необразованность, невежество, простота нередко прикрывают невинность и чистоту, меж тем как любопытство, изощренность, знание порождают влечение ко злу. Смирение, боязнь, покорность, благочестие (являющиеся важнейшим залогом сохранения человеческого общества) требуют души ничем не отягченной, послушной и лишенной самомнения.
Следует помнить, что для всякого существа нет ничего прекраснее и лучше его самого и всякий сравнивает качества всех других существ со своими собственными. Эти качества мы можем усиливать или ослаблять, но мы не можем сделать ничего большего, ибо дальше этого сопоставления и этого принципа наше воображение не способно пойти; оно не в состоянии вообразить ничего иного, оно не может выйти за эти пределы и переступить их.
Тот, кто смог бы заставить меня пойти наперекор чувствам, взял бы меня за горло, и я не смог бы сделать больше ни шагу.
Следует, по крайней мере, учиться на своих ошибках. Если я неоднократно обманывался в этом отношении, если показания моего пробного камня оказывались неверными, а весы неточными и неправильными, то как могу я в данном случае быть более уверен, чем в предыдущих?
Всякое познание пролагает себе путь в нас через чувства – они наши господа. Знание начинается с них и ими же завершается. В конце концов, мы знали бы не больше, чем какой-нибудь камень, если бы не знали, что существует звук, запах, свет, вкус, мера, вес, мягкость, твердость, шероховатость, цвет, гладкость, ширина и глубина.
Чувства являются началом и венцом человеческого познания… Все наше обучение происходит через них и при помощи их.
Чувства обладают тем преимуществом, что являются крайней границей нашего знания, и за их пределами нет ничего, что бы помогло нам открыть их.
На каждом шагу мы можем видеть, что чувства нередко господствуют над рассудком и заставляют его воспринимать такие впечатления, которые он считает ложными и знает, что они таковы.
Чувства обманывают наш разум, но и он в свою очередь обманывает их.

Чтобы судить о роли чувств, надо было бы прежде всего добиться согласия между показаниями наших чувств и чувств животных, а затем также единогласия в показаниях чувств различных людей.
Мы по-разному воспринимаем вещи в зависимости от того, каковы мы сами.
Так как мы приноравливаем вещи к себе и видоизменяем их, сообразуясь с собой, то мы в конце концов не знаем, каковы вещи в действительности, ибо до нас все доходит в измененном и искаженном нашими чувствами виде.
Философы говорили, что слава целого мира не заслуживает того, чтобы мыслящий человек протянул к ней хотя бы один палец.
Если мы не вменим себе в закон поступать праведно, если мы приравняем безнаказанность к справедливости, то каких только злых дел не станем мы каждодневно творить!
Добродетель была бы вещью слишком суетной и легковесной, если бы ценность ее основывалась только на славе.
Распространять молву о наших деяниях и выставлять их напоказ – это дело голой удачи: судьба дарует нам славу по своему произволу.
Вся слава, на которую я притязаю, это слава о том, что я прожил свою жизнь спокойно и… по своему разумению.
Кто порядочен только ради того, чтобы об этом узнали другие и, узнав, стали бы питать к нему большее уважение, кто творит добрые дела лишь при условии, чтобы его добродетели стали известны, – от того нельзя слишком много ожидать.
Нужно быть доблестным ради себя самого и ради того преимущества, которое состоит в душевной твердости, уверенно противостоящей всяким ударам судьбы.
Я не столько забочусь о том, каков я в глазах другого, сколько о том, каков я сам по себе. Я хочу быть богат собственным, а не заемным богатством.
Для живописца или другого художника, или также ритора, или грамматика извинительно стремиться к тому, чтобы завоевать известность своими творениями; но деяния и добродетели слишком благородны по своей сущности, чтобы домогаться другой награды, кроме заключенной в них самих ценности, и в особенности – чтобы домогаться этой награды в тщете людских приговоров.
Подобает, чтобы каждый находил в себе только то, что соответствует истине.
Я завидую счастью тех, кто умеет радоваться делам рук и испытывать от этого приятное удовлетворение. Ведь это весьма легкий способ доставлять себе удовольствие, ибо его извлекаешь из самого себя.
Неплохо родиться в испорченный век, ибо по сравнению с другими вы без больших затрат сможете сойти за воплощение добродетели. Кто не прикончил отца и не грабил церквей, тот уже человек порядочный и отменной честности.
Благородное сердце не должно таить свои побуждения. Оно хочет, чтобы его видели до самых глубин; в нем все хорошо или, по крайней мере, все человечно.
Аристотель считает, что душевное величие заключается в том, чтобы одинаково открыто выказывать и ненависть, и любовь, чтобы судить и говорить о чем бы то ни было с полнейшей искренностью и, ценя истину превыше всего, не обращать внимания на одобрение и порицание, исходящие от других.
Первое и основное правило добродетели: ее нужно любить ради нее самой. Тот, кто говорит правду потому, что в силу каких-то посторонних причин вынужден к этому, или потому, что так для него полезнее, и кто не боится лгать, когда это вполне безопасно, того нельзя назвать человеком правдивым.
Поразительные и бесценные услуги оказывает нам память и без нее наш ум почти бессилен.

Вовсе не требуется всегда говорить полностью то, что ты думаешь, – это было бы глупостью, но все что бы ты ни сказал, должно отвечать твоим мыслям; в противном случае это – злостный обман.
Я считаю свои взгляды правильными и здравыми, но кто же не считает такими и свои собственные?
Люди обычно разглядывают друг друга, я же устремляю мой взгляд внутрь себя.
Если я вижу в других нечто хорошее, я глубоко уважаю это хорошее и очень охотно хвалю его.
Мои чувства могут меняться, но мои суждения – никогда… Я ревниво оберегаю свободу своего ума, и мне не так-то просто пожертвовать ею ради страсти, сколь бы неудержимой она ни была.
Добрые намерения, если их приводят в исполнение не в меру усердно, толкают людей на весьма дурные дела.
Глубокая радость заключает в себе больше суровости, чем веселья, крайнее и полное удовлетворение – больше успокоения, чем удовольствия. Блаженство истощает человека.
Тяготы и удовольствия – вещи крайне различные по природе – каким-то образом соединяются природными узами.
Я с легкостью представляю себе, что можно намеренно, добровольно и с охотой лелеять свою грусть, и настаиваю на том, что кроме честолюбия – а оно также может сюда примешиваться – во всем этом сквозит еще нечто приятное и заманчивое, что тешит нас и льстит нашему самолюбию посреди самой безысходной и тягостной грусти. Разве не существует душ, которые, можно сказать, питаются ею?
Живописцы показывают, что одни и те же движения и морщинки наблюдаются на лице человека и когда он плачет, и когда он смеется.
Всякий отлично знает, что больше храбрости и гордости в том, чтобы разбить своего врага и не прикончить его, чтобы разъярить его, а не умертвить; тем более что жажда мести таким образом утоляется, ибо с нее достаточно – дать себя почувствовать врагу.
Мститель хочет порадоваться, увидев себя отмщенным, необходимо, чтобы налицо был и обидчик, который ощутил бы при этом унижение и раскаяние.
Я знаю по опыту, что следует отличать душевный порыв человека от твердой и постоянной привычки. Знаю я также прекрасно, что для человека нет ничего невозможного вплоть до того, что мы способны иногда превзойти даже божество, – и это потому, что гораздо больше заслуги в том, чтобы, преодолев себя, приобрести свободу от страстей, нежели в том, чтоб быть безмятежным от природы.
Убийство годится тогда, когда ты хочешь избежать предстоящей обиды, но не тогда, когда хочешь отмстить за совершенный уже проступок; это скорее действие, продиктованное страхом, чем храбростью, предосторожностью, а не мужеством, обороной, а не нападением.
Наши предки довольствовались тем, что отвечали на оскорбительные слова обвинением во лжи, на обвинение во лжи – ударом. И так далее, все усиливая оскорбления. Они были достаточно храбры и не боялись встретиться лицом к лицу с оскорбленным ими врагом. Мы же трепещем от страха, пока видим, что враг жив и здоров.
Гнусно для защиты своей чести привлекать кого бы то ни было, кроме самого себя; а кроме того, я еще считаю, что для порядочного человека, целиком полагающегося на себя, недопустимо заставлять другого разделять его судьбу.
Доблесть в сражении состоит в соревновании храбрости, а эта последняя не приобретается путем обучения.
Благородные поступки всегда хороши, где бы они ни совершались.
В стремлении к славе, как и во многом другом, должна соблюдаться какая-то мера, равно как и в утолении жажды.

Я считаю, что даже весьма несовершенный и посредственный человек способен на любой возвышенный поступок; но ему всегда будет недоставать выдержки, умеренности и постоянства. Вот почему мудрецы утверждают, что судить о человеке надо, основываясь главным образом на его обыденных поступках, наблюдая его повседневное существование.
Слово и дело – разные вещи, и надо уметь отличать проповедника от его проповеди.
У добропорядочного человека могут быть ложные убеждения, а заведомо дурной человек может проповедовать истину, сам в нее не веря… Я всегда стараюсь узнать, что за человек был автор, в особенности когда дело касается пишущих о доблести и об обязанностях.
Упорство – родная сестра выдержки, по крайней мере в отношении твердости и настойчивости.
Не следует судить о том, что возможно и что невозможно, на основании того, что представляется вероятным и невероятным нашим чувствам, и грубая ошибка, в которую впадает большинство людей, состоит в том, что они не хотят верить тому, чего не смогли бы сделать сами или не захотели бы сделать.
Мало того, что мне противно обманывать, – мне противно и тогда, когда обманываются во мне, я не хочу подавать к этому ни оснований, ни повода.
Я прекрасно вижу, какой дорогой ценой великие мужи древности платили за свое возвышение, и восхищаюсь их величием; я перенимаю те стремления, которые, на мой взгляд, прекрасны, и если у меня не хватает сил следовать им, то, во всяком случае, мое внимание пристально обращено к ним.
Мне всегда казалось… что в беде нет ничего более высокого, чем стойко держаться среди разбушевавшихся волн, честно выполняя все то, что требует от нас долг.
В бедности можно жить более беззаботно, чем при хорошо распределяемом достатке. Ведь разумное пользование доставляет больше хлопот, чем воздержание.
Я всегда совестился отрекаться от своего слова даже тогда, когда оно неосторожно слетало у меня с уст, опередив мысль, иначе мало-помалу мы сведем на нет права тех, кому мы даем клятвы и обещания.
Чувство диктует нам более повелительно, чем разум.
Непосредственность и правдивость своевременны и уместны в любой век, каким бы он ни был.
Долг справедливости отнюдь не требует от нас гнева и ненависти; это страсти, пригодные для тех, кто не способен придерживаться своего долга, следуя велениям разума.
Нет такой выгоды, ради которой я позволил бы себе обманывать.
Когда творишь добро, сам испытываешь некое радостное удовлетворение и законную гордость, сопутствующие чистой совести.
Умеренность – добродетель более требовательная, чем нужда.
Свидетельства чистой совести чрезвычайно приятны, и эта радость, эта единственная награда, которая никогда не минует нас, – великое благодеяние для души.
Искать опоры в одобрении окружающих, видя в нем воздаяние за добродетельные поступки, – значит опираться на то, что крайне шатко и непрочно.
В наше развращенное, погрязшее в невежестве время добрая слава в народе, можно сказать, даже оскорбительна: ведь кому можно доверить оценку того, что именно заслуживает похвалы?
Всякий может фиглярствовать и изображать на подмостках честного человека, но быть порядочным в глубине души, где все дозволено, куда никому нет доступа, – вот поистине вершина возможного.
Сдержанность – мрачная и угрюмая добродетель.

Бывали люди, казавшиеся миру редкостным чудом, а между тем ни жены их, ни слуги не видели в них ничего замечательного. Лишь немногие вызывали восхищение своих близких.
Я люблю мудрость веселую и любезную и бегу от грубости и суровости нравов; всякая отталкивающая черта в лице вызывает во мне подозрение.
Добродетель – вещь приятная и веселая.
Я ненавижу умы, всегда и всем недовольные и угрюмые, – они проходят мимо радостей жизни и цепляются лишь за несчастья, питаясь ими одними.
Если знатность и впрямь добродетель, то это – добродетель искусственная и чисто внешняя, зависящая от века и удачи.
Образованность, телесная сила, доброта, красота, богатство, все прочие качества общаются между собой и вступают друг с другом в сношения; что же касается знатности, то она печется лишь о себе, не оказывая ни малейших услуг чему-либо другому.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































