Текст книги "«Опыты» мудреца"
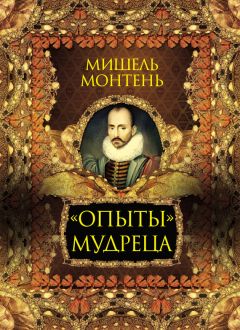
Автор книги: Мишель Монтень
Жанр: Афоризмы и цитаты, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Всякое естественное состояние есть тем самым и справедливое, и наиболее удобное.
Узы, налагаемые на меня честностью, кажутся мне намного стеснительнее и тяжелее, чем судебное принуждение.
Не видя кругом хороших примеров, я пользуюсь дурными, ибо их вокруг сколько угодно. Наблюдая людей докучных, я старался быть тем приятнее; наблюдая слабых, воспитывал в себе большую твердость и у резких учился быть как можно снисходительнее.
Люди обычно обретают честность в несчастье, словно счастье несовместимо с чистой совестью.
Приговор, выносимый мною самому себе, гораздо строже и жестче судебного приговора, ибо судья применят ко мне ту же мерку, что и ко всем, тогда как тиски моей совести крепче и беспощаднее.
Правильно говорят, что порядочный человек – человек разносторонний.
Для того чтобы измерять душевную стойкость, необходимо знать, каково истинное страдание.
Кто творит добро главным образом с тем, чтобы доставить себе удовлетворение, тот не изменит своего образа действий, видя, что люди не ценят его поступков.
Я всегда стараюсь хранить спокойствие и в душе, и в мыслях.
Мы держимся за благо с тем большей цепкостью и ценим его тем выше, чем мы неувереннее в нем и чем сильнее страшимся лишиться его.
Во всем и везде мне достаточно своих собственных глаз, дабы исполнить как подобает мой долг, и нет на свете другой пары глаз, которая следила бы за мной так же пристально и к которой я питал бы большее уважение.
Я вижу, что большинство умов моего времени изощряется в том, чтобы умалить славу прекрасных и благородных деяний древности, давая им какое-нибудь низменное истолкование и подыскивая для их объяснения суетные поводы и причины… Но любители заниматься подобным злословием поражают при этом не столько даже своим ехидством, сколько грубостью и тупоумием.
Одновременно с наслаждением, получаемым от порока, совесть начинает испытывать противоположное чувство, которое и наяву, и во сне терзает нас мучительными видениями.
К чему бежать от придворного рабства, если заводишь его в собственной берлоге?
Наши превосходные философские рассуждения сплошь и рядом не более как заученный урок, и всякие житейские неприятности очень часто, не задевая нас за живое, оставляют нам возможность сохранять на лице полнейшее спокойствие.
Из повиновения и смирения рождаются все другие добродетели, из умствования же – все греховные замыслы.

Пороки, страсти, желания

Раз мы ненавидим что-либо, значит, принимаем это близко к сердцу.
Желание того, чего у нас нет, разрушает пользование тем, что у нас есть. С чем бы мы ни знакомились, чем бы ни наслаждались, мы все время чувствуем, что это нас не удовлетворяет, и жадно стремимся к будущему, к неизведанному, так как настоящее не может нас насытить, не потому, что в нем нет ничего, могущего насытить нас, а потому, что сами способы насыщения у нас нездоровые и беспорядочные.
Мы не столько освобождаемся от наших пороков, сколько меняем их на другие.
От недостатка уважения к себе происходит столько же пороков, сколько и от излишнего к себе уважения.
Нередко сам порок толкает нас на добрые дела.
Ни одна страсть не помрачает в такой мере ясность суждения, как гнев.
Гнев – это страсть, которая любуется и упивается собой. Нередко, будучи выведенными из себя по какому-нибудь ложному поводу, мы, несмотря на предоставленные нам убедительные оправдания и разъяснения, продолжаем упираться вопреки отсутствию вины.
Пытаясь скрыть гнев, его загоняют внутрь… я же рекомендую лучше даже некстати залепить оплеуху своему слуге, чем корчить из себя мудреца, поражающего своей выдержкой; я предпочитаю обнаруживать свои страсти, чем скрывать их в ущерб себе самому: проявившись, они рассеиваются и улетучиваются, и лучше, чтобы их жало вышло наружу, чем отравляло нас изнутри.
Я предупреждаю моих домашних… чтобы они сдерживали свой гнев и не впадали в него по всякому поводу, ибо он не производит впечатления и не оказывает никакого действия, если проявляется слишком часто. К бессмысленному и постоянному крику привыкают и начинают презирать его.
Я предупреждаю моих домашних… чтобы они не гневались на ветер, то есть чтобы их попреки доходили до того, кому они предназначены, ибо обычно они начинают браниться еще до появления виновника и продолжают кричать часами, когда его уже и след простыл.
Аристотель утверждает, что иногда гнев служит оружием для добродетели и доблести. Это правдоподобно, но все же те, кто с этим не согласны, остроумно указывают, что это – необычное оружие: ведь обычно оружием владеем мы, а этот род оружия сам владеет нами; не наша рука направляет его, а оно направляет нашу руку.
Если я поддамся приступам гнева, они могут увлечь меня слишком далеко.
Мало того, что гнев вносит в душу смятение; он, сверх того, сковывает руки карающего.
После тех лиц, которые занимают самые высокие посты, я не знаю более несчастных, чем те, что им завидуют.
Лживость – гнуснейший порок. Только слово делает нас людьми, только слово дает нам возможность общаться между собой. И если бы мы сознавали всю мерзость и тяжесть упомянутого порока, то карали бы его сожжением на костре с большим основанием, чем иное преступление.
Среди других прегрешений пьянство представляется мне пороком особенно грубым и низменным.
Что касается пьянства, то этот порок – насквозь телесный и материальный. Поэтому самый грубый из всех ныне существующих народов – тот, у которого особенно распространен этот порок. Другие пороки притупляют разум, пьянство же разрушает его и поражает тело.
Подобно тому, как при кипячении вся муть со дна поднимается на поверхность, точно так же те, кто хватил лишнего, под влиянием винных паров выбалтывают самые сокровенные тайны.

Пьянство – бессмысленный и низкий порок, однако менее злостный и вредный, чем другие, подтачивающие самые устои человеческого общества. И хотя нет, как полагают, такого удовольствия, которое мы могли бы доставить себе так, чтобы оно нам ничего не стоило, я все же нахожу, что этот порок менее отягчает нашу совесть, чем другие, не говоря уже о том… что его проще всего удовлетворить.
Наихудшее состояние человека – это когда он перестает сознавать себя и владеть собой.
Невозможно предаваться с одинаковой силой и распутству, и страсти к вину. Воздержание от вина, с одной стороны, ослабляет наш желудок, а с другой – делает нас дамскими угодниками, более падкими на любовные утехи.
Кто желает быть настоящим выпивохой, должен отказаться от тонкого вкуса.
На какие только глупости не толкает нас наше высокое мнение о себе!
Трусость – мать жестокости.
Мне приходилось наблюдать на опыте, что чудовищная, бесчеловечная жестокость нередко сочетается с женской чувствительностью. Я встречал необычайно жестоких людей, у которых легко было вызвать слезы и которые плакали по пустякам.
Побоища, следующие за победами, обычно совершаются солдатами и командирами обоза; неслыханные жестокости, чинимые во время народных войн, творятся этой кучкой черни, которая, не ведая никакой другой доблести, жаждет по локоть обагрить свои руки в крови.
Самые выдающиеся дарования губятся праздностью.
Разве мошенничество становится менее гадким оттого, что речь идет о нескольких су, а не о нескольких экю? Оно гадко само по себе.
Те, у кого одинаково злая воля, каково бы ни было различие в их положении, таят в себе одинаковую жестокость, бесчестность, грабительские наклонности, и все это в каждом из них тем отвратительнее, чем он трусливее, чем увереннее в себе и чем ловчее умеет прикрываться законами.
Назовите мне какое-нибудь самое чистое и выдающееся деяние, и я берусь обнаружить в нем, с полным правдоподобием, полсотни порочных намерений.
Высокомерие складывается из чересчур высокого мнения о себе и чересчур низкого о других.
Наши желания презирают и отвергают всё находящееся в нашем распоряжении; они гонятся лишь за тем, чего нет.
Самые грубые и вздорные выдумки возникают большей частью у тех, кто занимается самыми возвышенными и трудными вопросами; любознательность и высокомерие заставляют их погружаться в глубокие бездны.
Душевные страсти, вроде честолюбия, скупости и тому подобных, больше зависят от нашего разума, ибо только он способен справиться с ними; эти желания к тому же неукротимы, ибо, утоляя, только усиливаешь и обостряешь их.
По мере того, как мы лишаемся естественных удовольствий, мы возмещаем их удовольствиями искусственными.
Всякая страсть, которая оставляет место для смакования и размышления, не есть сильная страсть.
Душа, теснимая страстями, предпочитает обольщать себя вымыслом, создавая себе ложные и нелепые представления, в которые и сама порой не верит.
Праздность порождает в душе неуверенность.
Тому, кто не очень-то полагается на свою память, нелегко складно лгать.
Всякий охотнее рассуждает о чужом ремесле, чем о своем собственном, надеясь прослыть таким образом, знатоком еще в какой-нибудь области.

Я опасаюсь, что наши глаза алчут большего, чем может вместить желудок, а также что любопытство в нас превосходит наши возможности. Мы захватываем решительно все, но наша добыча – ветер.
Честолюбие, жадность, нерешительность, страх и вожделение не покидают нас с переменой места.
Мудрецы затратили немало усилий, чтобы предостеречь нас от ловушек наших страстей и научить отличать истинные, полновесные удовольствия от таких, к которым примешиваются заботы… Ибо большинство удовольствий, по их словам, щекочет и увлекает нас лишь для того, чтобы задушить до смерти.
Долой красноречие, которое влечет нас само по себе, а не к стоящим за ним вещам!
Разум повелевает нам идти все время одним и тем же путем, но не всегда с одинаковой быстротой; и хотя мудрый человек не должен позволять страстям своим отклонять его от правого пути, он может, не поступаясь долгом, разрешить им то убыстрять, то умерять его шаг, и ему не подобает стоять на месте, словно он колосс, неподвижный и бесстрастный.
Почти всем людям свойствен порок – определять свои желания и взгляды по тем условиям жизни, в которые они поставлены от рождения.
Ничто не раздражает и не вызывает такого пресыщения, как изобилие.
Меня приводит в негодование то исключительное легкомыслие, с которым наши люди позволяют ослеплять и одурачивать себя вкусам нынешнего дня до такой степени, что они способны менять взгляды и мнения каждый месяц, если это требует мода.
Вкусы наши меняются так быстро и внезапно, что даже самые изобретательные портные не могут поспеть за ними и выдумать столько новинок.
На протяжении пятнадцати – двадцати лет один и тот же человек по одному и тому же поводу высказывает два и три не только различных, но и прямо противоположных мнения, с непостоянством и легкомыслием поразительными. И нет среди нас человека столь разумного, чтобы он не поддался чарам всех этих превращений, ослепляющих и внутреннее, и внешнее зрение.
Те, кто изменяет и подкрашивает лица женщин, причиняет меньше вреда, ибо не видеть их природного облика – потеря небольшая. Люди, пытающиеся обмануть не глаза наши, а разум, и извратить и исказить истинную сущность вещей, гораздо вреднее.
Если я лгу, я оскорбляю себя в большей мере, чем того, о ком солгал.
Кто бесчестен в отношении правды, тот таков же и в отношении лжи.
Часто люди пытаются добиться одобрения путем легкомысленных суетных ухищрений.
Поведение человека, который сочетает гнусную жизнь с благочестием, кажется мне гораздо более достойным осуждения, чем поведение человека, верного себе во всем и одинаково порочного.
Истинная молитва, истинное примирение с Богом не могут быть доступны душе нечистой, да еще в тот миг, когда она находится во власти сатаны. Тот, кто призывает помощь Божию в порочном деле, поступает так, как поступил бы вор, залезший в чужой кошелек и в то же время взывающий к правосудию.
Наши наслаждения под стать нашей судьбе; так давайте же не будем зариться на чужие, на те, что подобают величию.
Мы обычно следуем за нашими склонностями направо и налево, вверх и вниз, туда, куда влечет нас вихрь случайностей. Мы думаем о том, чего мы хотим, лишь в тот момент, когда мы этого хотим, и меняемся, как то животное, которое принимает окраску тех мест, где оно обитает. Мы не идем – нас несет подобно предметам, подхваченным течением реки, – то плавно, то стремительно, в зависимости от того, спокойна она или бурлива.

Каждый день нам на ум приходит нечто новое, и наши настроения меняются с течением времени.
Какое докучное и болезненное заблуждение – мнить себя столь мудрым, что даже не допускать мысли о возможности кому-либо другому думать совсем иначе!
Гордыня – вот источник гибели и развращения человека; она побуждает его уклоняться от проторенных путей, увлекаться новшествами; она порождает стремление возглавлять людей заблудших, ставших на стезю гибели; она заставляет человека предпочитать быть учителем лжи и обмана, чем учеником в школе истины, который дает вести себя за руку другому по проложенному и праведному пути.
Поистине чудовищной должна быть совесть, которая остается невозмутимой, давая приют под одной кровлей, в столь согласном и мирном сообществе, и преступнику, и судье!
Раз мы не можем отказаться от честолюбия по велению совести, давайте откажемся от него хотя бы из честолюбия. Давайте презрим эту жажду почета и славы, неизменно заставляющую нас выпрашивать их у людей всякого сорта.
Очень опасно не различать характер и степень прегрешения. Это было бы весьма выгодно убийцам, предателям, тиранам.
Всякий склонен подчеркивать тяжесть прегрешений своего ближнего и преуменьшать свой собственный грех.
Все поступки, выходящие за обычные рамки, истолковываются в дурную сторону, ибо нам не по вкусу ни то, что выше нашего понимания, ни то, что ниже его.
Гордыня порождается мыслью, язык принимает в этом лишь незначительное участие.
Ошибки часто ускользают от взора, но если мы не в состоянии их заметить, когда другой человек нам на них указывает, то это свидетельствует о том, что мы не способны рассуждать здраво.
Аристотель считает, что человек благоразумный и справедливый может быть и невоздержанным, и распутным.
Мне приходится жить в такое время, когда вокруг нас хоть отбавляй примеров невероятной жестокости, вызванных разложением, порожденным нашими гражданскими войнами; в старинных летописях мы не найдем рассказов о более страшных вещах, чем те, что творятся у нас сейчас каждодневно.
Я не в состоянии был поверить, пока не увидел сам, что существуют чудовища в образе людей, которые готовы убивать ради удовольствия, доставляемого им убийством.
Кровожадные наклонности по отношению к животным свидетельствуют о природной склонности к жестокости.
Нам должно быть стыдно, что среди последователей всех других религий никогда не было таких, которые не сообразовали бы, так или иначе, свое поведение и образ жизни со своими верованиями – как бы ни были эти верования нелепы и странны, – в то время как христиане, исповедующие столь божественное и небесное учение, являются таковыми только по названию.
Я вижу ясно, что мы охотно делаем для нашего благочестия лишь то, что удовлетворяет наши страсти.
Никакая вражда не может сравниться с христианской. Наше рвение творит чудеса, когда оно согласуется с нашей наклонностью к ненависти, жестокости, тщеславию, жадности, злословию и восстанию. Напротив, на путь доброты и умеренности его не заманить ни так, ни эдак, если только его что-либо не толкнет туда чудом.
Наша религия создана для искоренения пороков.
Мы обычно охотно истолковываем высказывания других людей в пользу наших собственных, укоренившихся в нас предрассудков; для атеиста, например, все произведения ведут к атеизму: самую невинную вещь он заражает своим собственным ядом.

Самомнение – наша прирожденная и естественная болезнь.
Вожделения бывают либо естественные и необходимые, как, например, голод или жажда; либо естественные, но не необходимые, как, например, половое общение; либо и не естественные и не необходимые: таковы почти все человеческие вожделения, которые и искусственны, и излишни. В самом деле, поразительно, как немного человеку нужно для его подлинного удовлетворения и как мало природа оставила нам такого, чего еще можно пожелать.
Многие самые благородные душевные суждения обусловлены страстями и нуждаются в них. Человек никогда не нападает на злодеев или на врагов с большей силой, чем когда он в ярости; говорят, что даже адвокат должен разгорячить судей для того, чтобы они судили по справедливости.
Сострадание пробуждает в нас милосердие, а страх обостряет наше чувство самосохранения и самообладания. А сколько прекрасных поступков продиктовано честолюбием! Сколько – высокомерием! Всякая выдающаяся и смелая добродетель не обходится в конечном счете без какого-нибудь отрицательного возбудителя.
Страсти являются как бы стрекалами для души, толкающими ее на добродетельные поступки.
Наше бодрствование более слепо, чем сон. Наша мудрость менее мудра, чем безумие. Наши фантазии стоят больше, чем наши рассуждения. Самое худшее место, в котором мы можем находиться, это мы сами.
Я с не меньшей силой бросаюсь вперед, чем подаюсь потом назад.
Страсти не только изменяют наши чувства, но часто приводят их в состояние полного отупения.
Из всех призрачных стремлений нашего мира самое распространенное – это забота о нашем добром имени и о славе.
Запретить нам что-либо – значит придать ему в наших глазах заманчивость, предоставить же его сразу – значит заронить в нас к нему презрение.
Нет ничего, что в такой мере отравляло бы государей, как лесть; ничего, что позволяло бы дурным людям с такой легкостью добиваться доверия окружающих; никакое сводничество не способно так ловко и с таким неизменным успехом совращать целомудренных женщин, как расточаемые им и столь приятные для них похвалы.
Есть столько способов уклоняться от положений, связанных с личным риском, что мы тысячу раз успеем обмануть целый мир, прежде чем ввяжемся в какое-нибудь по-настоящему смелое дело.
Мы заботимся больше о том, чтобы о нас говорили, чем о том, что именно о нас говорят; с нас довольно того, что наше имя у всех на устах. А почему – это нас отнюдь не заботит.
Нам кажется, что если мы пользуемся известностью, то это значит, что наша жизнь и сроки ее находятся под охраной знающих нас.
Обладание чем бы то ни было само по себе вызывает в нас презрение ко всему, чем владеешь и что находится в твоей власти… Поместье, дом, лошадь моего соседа, стоящие столько же, сколько мои, стоят в моих глазах дороже именно потому, что они не мои.
Мне кажется, что философия никогда в такой мере не отвечает своему назначению, как тогда, когда она обличает в нас наше самомнение и тщеславие, когда она искренне признается в своей нерешительности, своем бессилии и своем невежестве.
Корень самых разительных заблуждений, как общественных, так и личных, – это чрезмерно высокое мнение людей о себе.
Простительно быть глупцом в чем угодно, но только не в поэзии.
Повадки раба и труса – скрываться и прятаться под личиной, не осмеливаясь показаться перед нами таким, каков ты в действительности.

Страх перед возможным падением причиняет мне более пагубную горячку, чем та, которую может причинить сам ушиб. Игра не стоит свеч. Скупцу его страсть доставляет мучения, которые не знает бедняк, а ревнивцу его страсть – муки, неизвестные рогоносцу. И нередко меньшее зло потерять виноградник, чем тягаться из-за него в суде.
Я скорее предпочту, чтобы все мои дела пошли прахом, чем поступлюсь убеждениями ради своего успеха, ибо эту новомодную добродетель притворства и лицемерия я ненавижу самой лютой ненавистью, а из всех всевозможных пороков не знаю другого, который с такой же очевидностью уличал бы в подлости и низости человеческие сердца.
Мне отнюдь не запрещено говорить глупости, лишь бы я не обманывался насчет их настоящей цены.
Глупость – болезнь, которой никогда не страдает тот, кто видит ее в себе: она очень упорна и, как правило, неизлечима, но достаточно одного проницательного взгляда больного, обращенного им на себя самого, чтобы пробить ее толщу и избавиться от нее.
Мы готовы признать за другими превосходство в отваге, телесной силе, опытности, ловкости, красоте, но превосходства в уме мы никому не уступим.
Бог оказывает свою чудодейственную помощь не нашим страстям, но вере и религии.
Лишь тем, в ком есть нечто достойное подражания и чья жизнь и взгляды могут служить образцом, подобает выставлять себя напоказ.
Лгать и постоянно нарушать слово у французов отнюдь не порок; для них это то же, что манера разговаривать. Можно было бы выразиться об этом еще резче, сказав, что в глазах французов наших дней это – подлинная добродетель… ибо двуличие – одна из главнейших черт нашего века.
Это так естественно – сильнее всего отрицать наличие у нас тех недостатков, в которых мы более всего повинны.
Существует ли более явственное проявление малодушия, чем отказ от своих собственных слов, отрицание того, что слишком хорошо за собой знаешь?
Первые жестокости совершаются ради них самих, но они порождают страх перед справедливым возмездием, который влечет за собой полосу новых жестокостей с целью затмить одни средства другими.
Самым большим пороком человеческой природы мудрецы считают непрерывное появление у нас все новых и новых желаний. Мы постоянно начинаем жить сызнова. Надо было бы, чтобы наше стремление учиться и наши желания с годами дряхлели, а между тем, когда мы уже одной ногой стоим в могиле, у нас все еще пробуждаются новые стремления.
Мы часто ругаем тех, на кого сердимся, первыми же сорвавшимися с языка словами, совершенно неуместными по отношению к тем, к кому мы их применяем.
Там, где любовь и честолюбие одинаково сильны и приходят в противоборство между собой, честолюбие неминуемо возобладает.
Великое дело – уметь обуздать свои страсти доводами разума или сдержать неистовые порывы своего тела.
Есть ли хоть какая-нибудь форма, которую порок не пожелал бы использовать, ища возможность проявиться?
Обман не так страшен, когда враг оказывается на деле более слабым, чем ожидали, нежели тогда, когда враг оказывается более сильным, чем предполагали по слухам.
Бывает ложное смирение, порождаемое высокомерием.
Если я предназначен служить орудием обмана, пусть это будет по крайней мере без моего ведома.
Вероломство может быть иногда извинительным; но извинительно оно только тогда, когда его применяют, чтобы наказать и предать вероломство.

Злоба чаще всего впитывает в себя свой собственный яд и отравляется им.
Подобно тому, как язва оставляет на теле человека рубец после себя, так и порок оставляет в душе раскаяние, которое, постоянно кровоточа, не дает нам покоя.
Рассудок, успокаивая печали и горести, порождает горечь раскаяния, которая тяжелее всего, так как она точит нас изнутри; ведь жар и озноб, порожденные лихорадкой, более ощутительны, чем действующие на нас снаружи.
Я считаю пороками не только то, что осуждается разумом и природой, но и то, что признается пороком в соответствии с представлениями людей, пусть даже ложными и ошибочными, если законы и обычай подтверждают такую оценку.
Только вам одному известно, подлы ли вы и жестокосердны, или честны и благочестивы, другие вас вовсе не видят; они составляют себе представление о вас на основании внутренних догадок, они видят не столько вашу природу, сколько ваше умение вести себя среди людей; поэтому не считайтесь с их приговором, считайтесь со своим.
Иные связанные с пороком природными узами или сжившиеся с ним в силу давней привычки уже не видят в нем никакого уродства.
Можно отринуть и побороть пороки, которые иногда охватывают нас и к которым нас влекут страсти, но пороки, укоренившиеся и закосневшие вследствие долгой привычки в душе человека с сильной несгибаемой волей, не допускают противодействия.
Нередко случается, что порочные души под влиянием какого-нибудь побуждения извне творят добро, тогда как души глубоко добродетельные – по той же причине – зло.
Существуют грехи, которые увлекают нас стремительно, неодолимо, внезапно.
Порицать в другом свои недостатки, думается мне, столь же допустимо, как порицать – а это я делаю весьма часто – чужие в себе, обличать их следует всегда и везде, не оставляя им никакого пристанища.
Я считаю, что нет ни одного душевного качества, которое можно подделать с такой же легкостью, как благочестие, если образ жизни не согласуется с ним: сущность его непознаваема и таинственна, внешние проявления – общепонятны и облачены в пышный наряд.
Раскаяние только тогда возьмет верх над грехом, если перевесит его на чаше весов.
Раскаяние, в сущности, не распространяется на те вещи, которые нам не по силам; тут следует говорить о сожалении.
Если бы, представляя себе более благородный образ действий, чем наш, и стремясь к нему всей душой, мы ощущали раскаяние, нам пришлось бы раскаиваться в самых невинных делах и поступках, – ведь мы хорошо понимаем, что человек с более выдающимися природными данными сделал бы то же самое лучше и благороднее.
Жажда мщения – страсть в высшей степени сладостная, ей свойственно некоторое величие, и она вполне естественна.
Разнообразие всегда облегчает, раскрепощает и отвлекает.
Наслаждению не знакомо тщеславие; оно ценит себя слишком высоко, чтобы считаться с молвой и охотнее всего пребывает в тени.
Всякий скромен в признаниях; так пусть же он будет скромен и в поступках; готовность впасть в прегрешения некоторым образом сдерживается и возмещается готовностью к признанию в них. Кто обяжет себя говорить все без утайки, тот обяжет себя и не делать того, о чем необходимо молчать.
О несчастный человек! У тебя и так достаточно неотвратимых невзгод, а ты еще умножаешь их надуманными; ты и так достаточно жалок, незачем тебе умышленно делать свою участь еще более жалкой.

Нужно увидеть и постигнуть свои недостатки, чтобы уметь рассказать о них. Кто таит их от другого, тот таит их и от себя.
Нужно отбросить прочь нелепые тряпки, под которыми прячутся наши нравы. Люди отправляют свою совесть в дома терпимости, но блюдут внешнюю добропорядочность. Все до последнего человека – вплоть до предателей и убийц – свято придерживаются приличий и почитают своею обязанностью неуклонно следовать им.
До чего же прискорбно, когда дурной человек не бывает к тому же глупцом и когда напускная благопристойность прикрывает собою таящийся под ней порок!
Кто не знает себя, те могут кичиться незаслуженным одобрением, но со мной такого случиться не может, ибо я вижу себя насквозь.
Мы щедры на выдумки лишь в одном, а именно: как бы причинить себе зло, и оно, поистине, дичь, гонясь за которой, мы растрачиваем силы своего ума, этого опасного орудия нашей беспутности!
Жажда общения заметно ослабевает, если ей предоставить хоть некоторую свободу.
Мы легко одолеем внешние недостатки, если победим внутренние.
Кто не хочет сохранять в чистоте свою совесть, пусть сохранит незапятнанным хотя бы имя: если сущность не заслуживает доброго слова, пусть его стоит хотя бы внешность.
Отучив людей от щепетильности в выборе выражений, мы не причиним миру большого вреда.
Философия нисколько не ополчается против страстей естественных, лишь бы они знали меру, и она проповедует умеренность в них, а не бегство от них; ее усилия в борьбе с ними направлены лишь против тех страстей, которые чужды нашей природе и привносимы извне.
Неотъемлемая черта жадности – неблагодарность.
Честолюбие для своего удовлетворения часто выбирает пути обходные и необычные.
Иметь дело с людьми, которые восхищаются нами и во всем нам уступают, – удовольствие пресное и даже весьма вредное для нас… Я гораздо больше горжусь победой, которую одерживаю над самим собой, когда в самом пылу спора, заставляю себя склониться перед доводами противника, чем радуюсь, одолевая противника из-за его слабости.
Невозможно вести честный и искренний спор с дураком.
Брань во время споров должна запрещаться и караться, как и другие словесные преступления… Тот, кто вооружен лишь бранными словами, ищет любого пустякового предлога, чтобы рассориться и тем самым уклониться от беседы с человеком, с которым он не может тягаться умом.
Сказать по правде, нет глупости больше, назойливее и диковиннее, чем возмущаться и оскорбляться глупостями, творящимися вокруг нас. Ибо эта глупость обращается против нас же.
Глупость и разброд в чувствах – не такая вещь, которую можно исправить добрым советом… Близким своим мы обязаны оказывать такую помощь, прилежно учить их и наставлять, но проповедовать любому прохожему, исправлять невежество и тупость первого встречного – вот обычай, которого я никак не одобряю.
Упрямство и чрезмерный пыл в споре – вернейший признак глупости.
Пороком является также неспособность правильно оценить собственные возможности и говорить о себе больше, чем сам видишь.
Кто без причины жалуется, тот не встретит отклика на свои жалобы и тогда, когда они не будут беспричинными.

Следовало бы иметь установленные законами меры воздействия, которые обуздывали бы бездарных и никчемных писак, как это делается в отношении праздношатающихся и тунеядцев… Страсть к бумагомаранию, является, очевидно, признаком развращенности века.
Мы живем в мире, где честность, даже в собственных детях – вещь неслыханная.
Я ни в ком не подозреваю пороков, пока не увижу их своими глазами.
Даже недостатки находят себе поклонников.
Жаловаться всегда – значит никогда не встречать отклика на свои жалобы; часто изображать страдания – значит ни в ком не пробуждать сострадания.
Благородно и независимо высказанное признание ослабляет силу упрека и выбивает оружие из рук оскорбителя.
Человеческое благоразумие никогда еще не поднималось до той высоты, которую оно себе предписало.
Лучше немного безумия, чем тьма глупости, говорят наставления наших учителей, и еще убедительнее – оставленные ими примеры.
Даже наслаждение в глубинах своих мучительно.
Нельзя слепо отдаваться своим страстям и нестись сломя голову в погоню за выгодой.
Кто не умеет захлопнуть дверь перед своими бурными чувствами, тот не изгонит их, когда они вторгнутся внутрь.
Мне настолько же легко избегать страстей, как трудно их умерять.
Иные люди считают, что разумные соображения могут быть поняты только под звуки фанфар.
Честолюбие – порок не для мелких людишек.
Наш мир создан словно лишь для чванства: людей, надутых воздухом, кто-то подбрасывает вверх, как воздушные шары.
Длительно перенося что-либо, начинаешь привыкать к нему, а привычка порождает примирение со злом и даже подражание ему.
Гораздо обиднее, когда тебя обирают в безопасном месте, чем в темном лесу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































