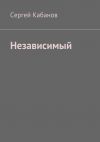Автор книги: Наталья Иртенина
Жанр: Критика, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
«Всепоглощающий огонь вечности в некоторых людях настолько силен, что сжигает и сердца тех, кто рядом», – эта почти случайная фраза Альбера Камю из его «Мифа о Сизифе» как нельзя более подходит и к Тютчеву. Поэт был заражен этим «огнем вечности», сжигавшим его душу и терзавшим его своей неугасимостью. Вечность стала для него врагом-другом, который делает невыносимой жизнь Тютчева-человека, но вызывает странный, неизъяснимый интерес у Тютчева-поэта и философа. Вечность – антипод времени, а значит и всего человеческого, кроме одного – необъятной, неизмеримой человеческой мысли. Тютчев, мысливший космическими масштабами, не выносил времени и пространства потому, что их космичность, необъятность угнетали его, уничтожали его индивидуальность, его личность, подавляли его своей безмерностью. Но ему было по силам охватить мыслью необъятность вечности, развернуться на ее просторах и далях, потому что в отличие от текучего времени вечность устойчива и постоянна. И все же и она, как и время, обезличивала, лишала индивидуальности, сводя все к единому началу-концу. Для Федора Ивановича, в котором индивидуальность, обостренность самосознания были необходимыми условиями существования, такое обезличение перед лицом вечности невыносимо.
Но не в меньшей степени ему присуще и отвращение к эгоистическому индивидуализму, к «самовластию», к «абсолютизму человеческой воли», к «апофеозу человеческого я». И однако же, нравственное смирение уживалось в нем с безграничным эгоцентризмом – и это безмерно мучило его. В письмах его родных, в некоторых воспоминаниях о нем можно встретить упоминания о свойственном Тютчеву эгоизме. А.И.Георгиевский[53]53
Александр Иванович Георгиевский – сотрудник редакции «Московских ведомостей», близкий знакомый Тютчева, муж сводной сестры Е.А.Денисьевой – «последней любви» поэта.
[Закрыть] писал о нем: «Федор Иванович далеко не был то, что называется добряк; он и сам был очень ворчлив, очень нетерпелив, порядочный брюзга и эгоист до мозга костей, которому дороже всего было его спокойствие, его удобства и привычки».[54]54
ЛН. Т.97. Кн. 2. С.112.
[Закрыть] Но разве обреченный на муку может быть добряком, альтруистом? И наоборот, может ли добряк чувствовать себя самым несчастным, ничтожным человеком, поглощенным тоской и ужасом («Чувство тоски и ужаса уже много лет, как стало обычным моим душевным состоянием»,[55]55
Тютчев Ф.И. Соч. Т.2 С.178.
[Закрыть] – писал Тютчев в 1856 г.)? Эта тоска и этот ужас мешали ему быть самодовольным эгоистом, но и отказаться от своего «Я», от своей личности, жертвовать собой Федор Иванович не мог. Личность была для него условием самой человечности: «…ничто не заменит личного присутствия, и какой же тусклой, убогой и бесцветной оказывается человеческая мысль, отвлеченная от личности…»,[56]56
Там же. С.241.
[Закрыть] – писал он одной из дочерей за несколько лет до смерти.
Так в душе поэта и философа возникает жестокий конфликт (один из многих, уже поселившихся в ней!) между необходимостью и свободной волей человека. Необходимость в глазах Тютчева права и законна, это космическая правда добра и ей подчиняющаяся человеческая правда добра и любви, и с этой точки зрения свобода человеческой воли – преступна и невозможна, потому что она – порождение слепых стихий, хаоса. Безграничная свобода воли – зло в человеке, это тот же апофеоз человеческого «Я», ненавистный Тютчеву. Но отказаться от этой свободы воли, дающей слабому человеку к тому же массу удобств и возможность комфортной (в любом плане) жизни, Федор Иванович не в силах. Это эгоцентрист, мечтающий об излечении от своего «недуга». Но «недуг» – это вся его жизнь. И если жизнь – болезнь, то выздороветь для Тютчева означает попросту умереть, перестать существовать.
Но жить – значит множить зло, которого и без того много в природе. Несмиренное зло для Тютчева воплощено в хаосе – его излюбленной космической стихии, да и в самой природе: «Во всем разлитое, таинственное Зло – В цветах, в источнике прозрачном, как стекло, И в радужных лучах, и в самом небе Рима…» («Mal’aria»). Человек обречен помимо своей воли творить зло, стремясь к добру, к счастью, к любви. Этот злосчастный рок преследует Тютчева, но противиться ему тот не может. Во-первых, потому что рок неизбежен: вся жизнь – это «поединок роковой». Во-вторых, рок преследует на пути к счастью – а добровольно свернуть с этого пути не в силах ни один смертный, даже если он обрекает своих близких и любимых на страдания. Для них он становиться воплощенной эманацией бед и несчастий: «огонь вечности… сжигает сердца тех, кто рядом». Тютчев отчетливо представлял себе это, но понимал и то, что человек в себе не властен, сколь ни старайся. Сколь бы ни чисты были помыслы, человек остается всего лишь человеком – отнюдь не совершенством. «Читая в душах и в умах окружающих его, как в раскрытой книге, видя недостатки и пороки ближних, будучи сам преисполнен всевозможных человеческих слабостей, которые он ясно сознавал в себе, но от которых не в силах был и даже не хотел избавиться, Федор Иванович никогда никого не осуждал, принимая человечество таким, каково оно есть, с каким-то особенным, невозмутимым, благодушным равнодушием».[57]57
Тютчев Ф.Ф. Указ. соч. С.489.
[Закрыть] Это равнодушие и «языческое снисхождение» (как он сам это называл) было прямым следствием его философии хаоса и вечности. Человек – тоже создание хаоса, одна из его ипостасей и несет его в себе. Какую же тоску и ужас должен испытывать человек, сознающий себя бездной, которая поглощает души любимых, делает их несчастными, но и отдающий себе ясный отчет в том, что иначе нельзя, невозможно, иначе – это смерть! И смерть в любом случае, какой бы выбор ни был сделан, какое бы предпочтение ни было отдано – себе или другим. Отказаться от своей любви ради счастья любимой, вырвать ее из сердца Тютчев не может – это смерть для него, оставить все как есть – близить смерть другого.
В жизни Федора Ивановича такая ситуация повторялась дважды. Обе – в отношениях с женщиной, и обе оставили глубокие шрамы в его сердце (а сколько было на его веку таких же, но менее масштабных ситуаций, царапавших хоть и неглубоко, но чувствительно, – Бог ведает). Тютчев умел любить, но не мог разлюбить, для него это почти норма – разрываться между двумя женщинами, которых он любил одновременно, между двумя привязанностями, двумя страстями. Его любовь к Эрнестине Дернберг (урожденной баронессе Пфеффель, ставшей его второй женой в 1839 г.) фактически свела в могилу его первую жену Элеонору Петерсон (урожденную графиню Ботмер). Последняя, самая бурная, яркая, волнительная, ослепляющая и мучительная любовь Тютчева – к Елене Александровне Денисьевой, бывшей его моложе на 22 года, – окончилась трагически. Вся их 14-летняя (1850–1864 гг.) любовная связь,[58]58
У Тютчева было трое детей от Е.А.Денисьевой, усыновленных им.
[Закрыть] которую они не смогли утаить от общества, была окрашена в роковые, трагические тона, она несла на себе отпечаток обреченности, безнадежности, фатальной гибели. Тютчев буквально разрывался между Денисьевой и Эрнестиной Федоровной. Он не может бросить жену, опровергает в письмах[59]59
В 1851-54 гг. они часто бывали в разлуке: Эрнестина Федоровна в родовом имении Тютчевых Овстуге или за границей, Федор Иванович – в Москве или Петербурге.
[Закрыть] все ее сомнения: «Что же произошло в глубине твоего сердца, что ты стала сомневаться во мне, что перестала понимать, перестала чувствовать, что ты для меня – все, и что сравнительно с тобою все остальное – ничто?…»[60]60
Тютчев Ф.И. Русская звезда. С.369.
[Закрыть] Письма Тютчева к Денисьевой не сохранились, но о силе его любви к ней красноречиво свидетельствуют его стихи «Денисьевского цикла».
В этой мучительной для всех троих коллизии Тютчев ощущал себя недостойным их обеих, потому что не мог отдать каждой из них всего себя, без остатка, как отдавались ему обе любящие женщины. Но о том, чтобы выбрать одну из них для него не могло быть и речи. Выбор его страшит, безмерно пугает и отталкивает – тем, что надо лишиться чего-то важного, части самого себя, своей жизни. В 1851 г. он пишет жене письмо, в котором прямо об этом говорит: «А знаешь, что еще больше разбередило этот цепкий инстинкт – столь же сильный, столь же себялюбивый, как инстинкт жизни… Скажу тебе напрямик. Это предположение, простое предположение, что речь шла о необходимости сделать выбор, – одной лишь тени подобной мысли было достаточно, чтобы я почувствовал бездну, лежащую между тобой и всем, что не ты…»[61]61
Там же. С.369.
[Закрыть] Точно такая же бездонная пропасть существовала между Еленой Денисьевой, приковавшей к себе Тютчева «своею вполне самоотверженною, бескорыстною, безграничною, бесконечною, безраздельною и готовою на все любовью…»,[62]62
Из воспоминаний А.И.Георгиевского // ЛН. Т.97. Кн. 2. С.125.
[Закрыть] и всем, что не было ею.
Любовь поэта к Елене Александровне была в буквальном смысле этого слова роковой – для нее. Тютчевский дар предвидения уже в самом начале этой связи подсказал ему трагическую развязку незаконной любви:
И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец…
Он знал, что несет своей любовью гибель, смерть любимой («О, как убийственно мы любим…»), знал, но не отрекался от нее – потому что сделать это, значило отречься и от себя, обречь себя на медленную пытку. Самопожертвование не входило в тютчевскую жизненную программу. Он выпил любовную чашу до дна, но ему же пришлось и расплачиваться за эту ненасытную, неутоляемую жажду жизни и жажду любви. Смерть Денисьевой через 14 лет страстной, изнывающей любви от скоротечной чахотки легла на плечи Тютчева страшным грузом, тяжкой виной перед ней – той, которую он все эти годы ставил в фальшивое положение, сделал почти что парией в обществе, лишил надежд на будущее. Ценой всего этого стало «чувство беспредельной, бесконечной, удушающей пустоты»[63]63
ЛН. Т.97. Кн.1. С. 385.
[Закрыть] внутри него, «ежеминутная пытка» в течение многих месяцев после ее смерти, постоянные самообвинения в собственном жестокосердии, в том, что он один был причиной гибели возлюбленной. «Сознание его вины несомненно удесятеряло его горе»,[64]64
ЛН. Т.97. Кн. 2. С.125.
[Закрыть] – свидетельствует А.И.Георгиевский. «Не живется – не живется – не живется…»,[65]65
Тютчев Ф.И. Соч. Т.2. С.199.
[Закрыть] – повторяет Тютчев в письмах крик отчаяния. Но ведь он это знал, знал с самого начала, что придется расплачиваться такой страшной ценой, муками осиротевшей любви и нечистой совести. Знал как поэт, философ, но как человек – всего лишь слабый человек! – гнал от себя эти мысли: «Я, вероятно, полагал, что так как ее любовь была беспредельна, так и жизненные силы ее неистощимы…»[66]66
Там же. С.201.
[Закрыть] Но отогнать от себя этой сознательной слепотой «неотразимый Рок» было не в его силах. Сделанный вовремя выбор быть может помог бы избежать страшных мук. Но ведь тогда не было бы и этих 14 лет любовного плена – сладостного, волнительного и тоже мучительного – но по-иному. Этот плен утолял тютчевскую жажду жизни. «Все или ничего» – это не для него, ему нужно только «все», «ничего» для него не существовало, оно было небытием.
Жажда «всего» лишала Тютчева воли, не давала делать выбор, принимать решения, отдавать предпочтения чему-то одному. Этот своеобразный эгоизм и слабоволие безмерно тяготили его, внушая чувство отвращения к самому себе, к своему существованию, лишенному определенности, к своему раздвоенному сознанию: «Судьба, судьба!.. И что в особенности раздражает меня, что в особенности возмущает меня в этой ненавистной разлуке (разлуке с женой. – Н.И.), так это мысль, что только с одним существом на свете, при всем моем желании, я ни разу не расставался, и это существо – я сам. Ах, до чего же наскучил мне и утомил меня этот унылый спутник»,[67]67
Тютчев Ф.И. Русская звезда. С.387.
[Закрыть] – так писал он жене в 1852 г. Год спустя это чувство отвращения к себе подвергнуто им самим беспощадному анализу: «Да, в недрах моей души – трагедия, ибо часто я чувствую глубокое отвращение к самому себе и в то же время ощущаю, насколько бесплодно это чувство отвращения, так как эта беспристрастная оценка самого себя исходит исключительно от ума – сердце тут ни при чем, ибо тут не примешивается ничего, что походило бы на порыв христианского раскаяния. Тем не менее, состояние внутренней тревоги, сделавшееся для меня почти привычным, мне достаточно тягостно…»[68]68
Там же. С.393.
[Закрыть]
Ища выход из этого невыносимого положения, из тоскливого состояния постоянной тревоги и душевного отчаяния, «судороги бешенства», Тютчев много раз наталкивается в своих раздумьях на необходимость для человека веры. К этому выводу, как ни странно, приводила его по сути антирелигиозная концепция противостояния, противоборства «безмолвных небес» и человека, совершающего «свой подвиг бесполезный» (т. е. подвиг жизни). Чтобы бросить вызов и принять бой, когда заранее известен его исход (он один – смерть, другого быть не может), чтобы прямо глядеть в лицо судьбе нужно или нечеловеческое, титаническое мужество или… иллюзия. В одном из писем Тютчев говорит об этом (по другому поводу, но здесь важна сама возможность, сам факт признания необходимости иллюзии): «…когда стоишь лицом к лицу с действительностью, оскорбляющей и сокрушающей все твое нравственное существо, разве достанет силы, чтобы не отвратить порою взора и не одурманить голову иллюзией…»[69]69
Тютчев Ф.И. Соч. Т.2. С.153.
[Закрыть] Но иллюзии слишком непостоянны, текучи, неустойчивы и прозрачны. Поэтому множество различных иллюзий должна заменить одна, но крепкая вера. Она – необходимое условие устойчивости жизни, ее спокойного принятия человеком. Потому что «человек, лишенный известных верований, преданный на растерзание реальностям жизни, не может испытывать иного состояния, кроме непрекращающейся судороги бешенства».[70]70
Цит. по: Благой Д.Д. Жизнь и творчество Тютчева // Тютчев Ф.И. Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Т.1. М.,1994 (Репринт. изд. «Academia», 1933–1934). С.37.
[Закрыть] Для Федора Ивановича сила этой «судороги» удваивалась тем, что прийти к вере он не мог и отлично знал это.
Тютчев не христианин, он язычник, творящий свою собственную мифологию, создающий собственный мистический образ мира. Он – поэт-вольнодумец, одухотворяющий рационалист, скептик-идеалист. В его космогонии, антихристианской в своей основе, нет места религии спасения и надежды, вере Христа. В ней глухие небеса равнодушны к человеку, путь ему освещает лишь безнадежность, придающая ему силы для борьбы и для пути. Но религиозное вольнодумство не мешало Тютчеву быть страстным апологетом христианства и православия. Иван Аксаков называет его человеком «не христианских верований», но «христианских убеждений». Живя вне Церкви, Федор Иванович признавал ее необходимость – для частного человека, для народа и для истории. Но чтобы верить, нужно смирение – смирение пред Богом, нужно признать себя в Его власти, стать Его рабом. Нужно «склонить колена пред Безумием креста или все отрицать»[71]71
Цит. по: Пфеффель К. Письмо редактору… //ЛН. Т.97. Кн. 2. С.37.
[Закрыть] – так Тютчевым была поставлена суть проблемы веры в одном из философских споров с Шеллингом в Мюнхене. Но сам Федор Иванович не мог сделать ни того, ни другого – ни склонить колени, ни отрицать. Выбор и здесь оказался для него невозможен. Слишком силен в нем индивидуалист, слишком велико сопротивление его личности всякому внешнему бремени. Да и не только внешнему – ведь он не мог смирить себя изнутри. Смирение для него – та же обезличенность, только уже не перед лицом удушающей вечности, но пред ликом Божиим. А обезличенность для него равнялась небытию. Причиной его несмиренности не были ни гордыня, ни духовная лень – ни того, ни другого Тютчев не знал. Он всей душой желал веры – но дать себе ее не мог.
Неверие не означало для Тютчева «отрицания всего». В том же разговоре с Шеллингом он продолжил свою мысль: «Сверхъестественное лежит в глубине всего наиболее естественного в человеке. У него свои корни в человеческом сознании, которые гораздо сильнее того, что называют разумом, этим жалким разумом, признающим лишь то, что ему понятно, то есть ничего».[72]72
Там же. С.37.
[Закрыть] В итоге его христианские убеждения сталкиваются с языческим мировосприятием, порождая бурю в душе. Желание веры и обращенные к религии спасения и надежды взоры уживаются в Тютчеве с сознанием тщеты всего и необходимости бунта, борьбы, с возведением безнадежности в ранг принципа человеческой жизни:
Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна —
Над вами светила – молчат в вышине,
Под вами могилы – молчат и оне.
Христианские убеждения Тютчева были порождением его глубокого чувства истории во всем ее тысячелетнем размахе. Они сами были для него лишь историческим и эстетическим чувством, не более. Об этом он откровенно говорит в письме к жене, рассказывая о проводах его из Москвы родителями: «В день моего отъезда, который пришелся на воскресенье, была обедня, а после обедни неизбежный молебен, затем посещение одной из самых чтимых в Москве часовен, где находится чудотворная икона Иверской Божией Матери. Одним словом, все произошло по обрядам самого взыскательного православия… И что же? Для человека, который приобщается к ним только мимоходом и в меру своего удобства, есть в этих формах, так глубоко исторических, в этом мире византийско-русском, где жизнь и верослужение составляют одно, – в этом мире столь древнем, что даже Рим в сравнении с ним пахнет новизной, есть во всем этом для человека, снабженного чутьем для подобных явлений, величие несравненной поэзии».[73]73
Письма Ф.И.Тютчева к его второй жене, урожденной бар. Пфеффель // Старина и новизна. Кн. 18. Спб, 1914. С. 8–9.
[Закрыть] Тютчев всегда был честен сам с собой – только предельная откровенность помогала ему как-то преодолевать отвращение к самому себе. Поэтому он и не мог отдать предпочтения вере перед безверием, Всеблагому Богу перед «блаженно-равнодушным небом». «Жалкий разум», скептический пессимизм и чувство безнадежной, грызущей тоски брали все же верх. Надежда и спасение оставлялись Тютчевым для других. Сам же он предпочитал быть один на один с равнодушной вечностью, без посредников – чтобы вера не затмевала разум, желающий постичь эту вечность своими силами. Когда же разум отказывался воспринимать действительность, ему на помощь приходило сверхъестественное. Эту веру Тютчев не гнал от себя, наоборот: мистицизмом пронизаны многие его стихи, тема Рока стала сквозной для его творчества и самой жизни, одно время он даже увлекался спиритизмом – столоверчением. Христианские верования он заменял языческими, оккультными. Если человеку нельзя без веры, то уж верить надо так, чтобы это менее всего походило на сделку с собственной совестью. Для Тютчева такой религией была вера, согласная с его философией, с его космогонией: рок, немые, глухие небеса и взыскующий человек. Христианство, православие оставались недостижимой мечтой. Философская вера оказывалась сильнее веры в Откровение.
Если упрощенно описать жизнь Тютчева в двух словах, выделить в ней главное, что составляло ее содержание, то этим главным окажутся разговор и раздумье. Вроде бы ничего особенного – каждый в жизни разговаривает, общается с другими, ведет беседы, спорит, рассказывает, убеждает или не соглашается. И уж конечно любой может думать, размышлять, предаваться мечтам, философствовать либо творить в уме (или на бумаге) свою вселенную. Но Тютчевым эти простые человеческие действия были возведены в исключительно высокую степень – на уровень чуть ли не смысла жизни, вернее, способа реализации этого смысла. «Не способный ни на малейшее усилие воли», Федор Иванович поселил себя в том мире, где этих усилий воли требуется минимум, – в мире слова и мысли. Это тот мир, в котором с наименьшим сопротивлением можно избегнуть «подчинения требованиям жизни», уйти от ее обыденности и житейской бытийственности. Мир этот не был единым – он был разделен на две части – абсолютно противоположных по сути: одна часть находилась внутри Тютчева, другая – в светских гостиных. И обе же части – «две беспредельности» – абсолютно равноценны для него, обе составляют его жизнь, обе нужны ему как воздух для человека и как вода для рыбы. Они давали ему всю полноту жизни: мир внешний дарил впечатления, мир внутренний, принимая в себя эти впечатления и ощущения от реальной действительности, строил на их основе действительность идеальную, мыслимую, мистическую. Мистицизм и реальность, сплетаясь и уравновешивая друг друга, позволяли Тютчеву проникать в самую потаенную глубину вещей и явлений, видеть их истинный смысл, который он сопоставлял со смыслом истории и самого Бытия.
Полнота жизни поэта в обоих мирах – внешнем и внутреннем – столь исключительна, что нельзя не поражаться этой раздвоенности, этим контрастам, составлявшим его природу. Мыслитель, поэт, философ, погруженный в себя до невероятной, чудовищной внешней рассеянности,[74]74
О некоторых анекдотах см.: Тютчев Ф.Ф. Указ. соч.
[Закрыть] доставлявший родным массу хлопот этой своей неотмирностью и непрактичностью, «ночная душа» и в то же время – завсегдатай салонов и балов, всеобщий любимец, талантливый политик, страстный обожатель женщин, «светский лентяй» (так назвал Тютчева Аполлон Григорьев[75]75
Современники о Ф.И.Тютчеве: Воспоминания, отзывы и письма. Тула, 1984. С.85.
[Закрыть]) – что может быть общего между этими двумя ипостасями одного и того же человека?
Но Тютчев – парадокс во плоти. Его натура нуждалась в контрастах, в противоречиях, которые бы тянули ее в разные стороны, не давали бы тоске и унынию окончательно овладеть ею. Федор Иванович ненавидел покой – он сам был воплощенным движением: его каждодневные пешие прогулки длились не один час,[76]76
Аксаков писал как-то в письме к Анне Тютчевой: Тютчев «взял меня под руку, и мы с ним проходили с лишком полтора часа, разговаривая. Думаю, сделали верст 10». – Тютчеву было тогда 62 года! – Цит. по: Кожинов В.В. Указ. соч. С.468.
[Закрыть] доктора не могли запереть его в доме больше, чем на несколько дней – он просто не выдерживал отсутствия впечатлений, новостей, встреч с людьми. В состоянии покоя, когда не было пищи для его вечно голодного, жаждущего ума, Тютчев погружался в беспросветную тоску и отчаяние, бесцельная жизнь наваливалась на него всей своей бессмысленной тяжестью. В такие минуты он острее ощущал тяжесть бытия, непосильный груз жизни – груз этот был для него троекратно усилен сознанием быстротечности и мимолетности жизни, ее конечности в сравнении с неизменной вечностью природы и космического порядка. В эти моменты Тютчев сильнее, чем обычно испытывал на себе, выражаясь языком современной психологии, давление экзистенциального вакуума. Острее вставали вопросы смысла жизни: зачем, для чего и как? Вопрос о цели всего того, что он делает, был для Тютчева жизнеопределяющим, потому что отсутствие конкретного ответа на него и становилось причиной того, что окружающие называли его ленью, слабостью воли и духа. Но эта пригвожденность к месту – к дивану, креслу, – когда не было сил даже написать коротенькую записку или письмо (на это он не раз сетовал в своих посланиях, когда, наконец-то собирался с духом и начинал писать – жене, детям, знакомым), когда все казалось лишенным смысла и цели, все вокруг становилось лишь пустым награмождением материальных форм хаоса, – эта пригвожденность была лишь следствием, следствием чего-то большего, нежели простая лень или меланхолия поэтичной натуры. Тютчев и сам не мог определить, что является этим «большим», что питает его тоскливое безделье, ссылаясь на невыразимость своего состояния.
Но ему ли было не знать, не понимать – ему, мыслившему космическими категориями, – что его тоска – порождение ужаса перед тщетой всего человеческого, отчаяния от мысли, что любой итог человеческих усилий, даже самых плодотворных, ненадолго переживет самого творца и исчезнет так же бесследно. Тут есть от чего впадать в состояние тоскливой лени: сознание, что все в мире – тлен и прах, не прибавляет уверенности в завтрашнем дне, в необходимости что-то делать и куда-то идти. В такие минуты Тютчев, вероятно, начинал сомневаться в своих способностях «связать цепь» прошлого-настоящего-будущего, вообще в возможности осуществления этой связи: одно поколение сменяется другим и от него ничего не остается, кроме призрачных воспоминаний. Старшая дочь Тютчева Анна оставила в своих записях пересказ беседы с отцом, который происходил, очевидно, во время одного из таких приступов «неверия» (впрочем, были ли это приступы? Быть может, это была непрекращающаяся пытка, ставшая привычной?): «Одно поколение следует за другим, не зная друг друга: ты не знала своего деда, как и я не знал моего. Ты и меня не знаешь, так как не знала меня молодым. Теперь два мира разделяют нас. Тот, в котором живешь ты, не принадлежит мне, нас разделяет такая же резкая разница, какая существует между зимой и летом».[77]77
Из дневника А.Ф.Тютчевой // ЛН. Т.97. Кн.2. С.216.
[Закрыть] К чему что-то творить, к чему создавать «вечные ценности», с надеждой глядеть в будущее, если следующие поколения – это уже совершенно другие люди, которых заботит иное, у которых свои ценности и свои проблемы? «Самое человечное в человеке» – «потребность связывать прошлое с настоящим» оказывается неосуществимой, неудовлетворяемой и переходит в разряд иллюзий – прекрасных, но бесплодных. Вся жизнь людей состоит из таких иллюзий, похожих на сны. «Ах, человеческое существование, какой это странный сон!..»[78]78
ЛН. Т.97. Кн.1. С.462.
[Закрыть] – восклицает Тютчев в одном из писем, да и в других его посланиях подобные фразы встречаются не раз. Он приходит к выводу, что только такие иллюзии делают существование человека сносным, а для кого-то даже вполне комфортабельным. В его размышлениях на эту тему все понятия меняются местами. Сон – это жизнь, а жизнь – это сон: «Что за таинственная вещь сон, в сравнении с неизбежной пошлостью действительности, какова бы она ни была!.. И вот почему мне кажется, что нигде не живут такой полной настоящей жизнью, как во сне».[79]79
Тютчев Ф.И. Соч. Т.2. С.243.
[Закрыть]
Но если так, если жизнь – это сон, то «рано ль, поздно ль – будет пробужденье, И должен, наконец, проснуться человек», должен стряхнуть с себя сонное отупение, должен взглянуть на себя и понять – что жизнь уходит, миг за мигом, час за часом, сон за сном. Что изо дня в день «подвиг бесполезный» подменяется «полезными» грезами и предательством самих себя. Сон самого Тютчева беспокоен, это даже не сон – полудрема, минутное забвение перед кошмарным пробуждением. С возрастом сон портится, приходят долгие бессонницы, часы «ночного» бдения – когда всеми органами чувств улавливаются нездешние звуки: вздохи мировой тоски и утробные завывания вечности. Тютчев оставался один на один с бесконечностью времени и пространства. О чем думал он в такие минуты? О прошлом или о будущем? Проходила пред его взором вся его изнывающая жизнь или воображение рисовало картины конца, на которых он – одинокий и усталый путник – стучится в последнюю дверь? Что представлялось ему отрадным – жизнь или смерть, время или вечность? Зная натуру Тютчева, можно полагать, что он думал обо всем – не делая выбора, не отдавая предпочтений. Он жаждал жизни и смотрел в глаза смерти. В пределах вечности (если у вечности есть пределы) они сливались в одно, становились сестрами-близнецами, неотличимыми и одинаково желанными, как в одном из тютчевских стихотворений:
И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений —
Самоубийство и Любовь!
Любовь – главное самовыражение жизни, самоубийство – аристократ среди смертей. И так похожи… И какая же борьба идет между ними в мире людей и в душе Тютчева! Жажда жизни принадлежала одному из его миров: миру внешнему, миру любви, политики, литературы. Жажда смерти, хаоса – другому: мистическому, внутреннему. Между ними шел непрерывный «роковой поединок». Оба мира необходимы ему, но ни один из них не мог дать твердой почвы под ногами. Мир мистико-онтологический слишком равнодушен к человеку, который в нем – лишь былинка, мир материальный слишком непрочен, подвержен тлену. Тютчев не ощущал себя полновластным хозяином обеих территорий, он был лишь контрабандистом, незаконно проникавшим туда. И постоянный надлом, надрыв, разорванность его душевного состояния, тревога и «судорога бешенства» были платой за эту неполноправность, незаконность. Соединить обе части души, разрываемой двумя мирами, могла только вера. Она стала бы посредником между ними – между вечностью и небытием. Тютчев не мог не знать этого. Но… Знание и рассудок не приводят к вере. Вера как способ жизни была отринута им. Однако, не став и безбожником, Федор Иванович навсегда поселил у себя в душе тоску по благим небесам и «животворному гласу» Господню.
Ему не нужно было просыпаться от глухого и слепого человеческого сна: сон не шел к нему, заснуть не давала беспредельность, покинутость, заброшенность метафизического одиночества. Тоска и ужас были плодом немилосердной бессонницы в передрассветной туманной мгле. Не может человек жить без сна, даже такого – погружающего в наркотическое одурение иллюзиями и галлюцинациями. Чтобы избавиться от нечеловеческой тоски, Тютчев, наоборот, жаждал сна, «одурения» «праздником» жизни, поглощения сиюминутностью. Он оглушал себя впечатлениями, гнал от себя ужас и отчаяние блеском светскости, заботами политики, муками любви – всем разноцветьем жизни. Он лечился от «ночной» тоски и бессонницы «дневной» суетой и зрелищем людского мира. Но лекарство помогало не всегда – и не в полной мере. Тоска настигала Федора Ивановича в самые «неподходящие» моменты, и тогда он без зазрения совести покидал придворные церемонии, на которых по долгу службы должен был присутствовать, и часами бродил по городу, удивляя прохожих своим раззолоченым одеянием. Минуту назад он «пленял и утешал все внемлющее ему общество. Но вот внезапно, неожиданно скрывшись, он – на обратном пути домой, или вот он, с накинутым на спину пледом, бродит долгие часы по улицам Петербурга, не замечая и удивляя прохожих… Тот ли он самый?»[80]80
Аксаков И.С. Указ. соч. С.50.
[Закрыть] – восклицает Иван Аксаков.
«Эта тоска – невыразимая, нездешняя тоска»,[81]81
ЛН. Т.97. Кн.1. С. 391.
[Закрыть] поселившись в человеке уже не выпустит его из своего томительного плена до самого конца. Когда же она поселилась в Тютчеве? К.Пфеффель в своей «Заметке о Тютчеве», отмечая его «воодушевление, остроумие и меткость выражений… стремление к истине и красоте», беспристрастие и глубокое понимание истории, далее пишет: «Таким он и оставался приблизительно до 1841 г. С этого времени его заметно стала одолевать скука – эта ржавчина, присущая маленьким королевствам, где идеи столь же редко обновляются, как и лица».[82]82
Пфеффель К. Заметка о Тютчеве // ЛН. Т.97. Кн.2. С.34.
[Закрыть] Федору Ивановичу в это время было 37 лет. Порог сорокалетия, середина жизни – тот рубеж, которых многих меняет, заставляет по-иному взглянуть на то, что было до, и на то, что будет после. Благополучно и без всяких потерь (или приобретений?) миновать эту отметку удается не всякому. Ломка жизни и взглядов на нее и на себя происходит кардинальная. Midlife crisis – время, когда вдруг выясняется, что уже никогда не станешь тем, кем хочешь – богатым, знаменитым, любимым… Пресловутый “синдром 37 лет”, сгубивший не одну творческую личность (творческий кризис, самоубийство!), серьезно задел и Тютчева, отравив его душу “нездешней тоской”. Впрочем, не следует думать, что до этого времени он был жизнерадостным оптимистом и весельчаком. Вся жизнерадостность ушла вместе с юностью, оставив вместо себя ненасытную жажду жизни, ничего с радостью общего не имеющую. Из писем первой жены Тютчева (она умерла в 1838 г.) видно, что уже тогда (т. е. в 30-е гг.) Федор Иванович – Теодор, как она его называла, – был подвержен длительным приступам тоскливой меланхолии. С начала же 40-х гг. это состояние стало хроническим. Внешних причин для этого было достаточно: в политике – мертвый сезон и в Европе и в России, бурная страсть ко второй жене – Эрнестине Федоровне – прошла, сменившись прочной и спокойной привязанностью, “безработный” дипломат[83]83
Официальная отставка от должности произошла в 1841 г. по причине «длительного неприбытия из отпуска», который Тютчев испросил у канцлера в связи с женитьбой в 1839 г.
[Закрыть] колебался между Европой и Россией, не решаясь ни на один вариант, а жить приходилось на средства жены и родителей – и это при огромной, разраставшейся семье (дети Федора Ивановича от первого и второго брака), когда денег постоянно не хватало. Зная Тютчева, можно себе представить, какую пытку бессилия, бешенства и скуки он должен был испытывать в это время!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.