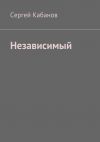Автор книги: Наталья Иртенина
Жанр: Критика, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
И все же, “нездешняя тоска” не могла быть вызвана этими сугубо земными, внешними, даже обыденными мотивами. Причина должна была быть в самом Тютчеве, внутри него. Л.Н.Толстой, встречавшийся с Федором Ивановичем около десятка раз, считал его “одним из тех несчастных людей, которые неизмеримо выше толпы, среди которой живут, и потому всегда одиноки…”.[84]84
Современники о Ф.И.Тютчеве. С.70.
[Закрыть] Сам Тютчев подтверждает эту оценку: “Мне не с кем поговорить – мне, говорящему со всеми”.[85]85
Тютчев Ф.И. Соч. Т.2. С.123.
[Закрыть] Но это чувство трагедийного, экзистенциального одиночества в корне своем имело отнюдь не социальный характер, “виновата” в нем не толпа, не общество, которых поэт “перерос”. Вероятно, с середины 1830-х гг. он начал острее ощущать контраст между жизнью одного человека и жизнью вообще. Для этой “жизни вообще” отдельный человек со своими мыслями, чувствами, страданиями, со своей болью и со своей будущей смертью – ничто, винтик, мелкая, легкозаменяемая деталь. Ей нет никакого дела до человека и его “экзистенции”. Человеческие страдания и страсти для нее не значат ровным счетом ничего. “И, однако, вопреки и наперекор тому, что происходит и мятется в тайниках наших душ, банальная жизнь, жизнь внешняя идет своим чередом”,[86]86
Там же. С.160.
[Закрыть] – пишет Тютчев в письме к жене.
Облегчить невыносимое положение страдающего человека не может никто и ничто – это Федор Иванович понял, проведя ночь у гроба умершей мучительной смертью его первой жены. За несколько часов он поседел совершенно, но так и не нашел ответа на вопрос, есть ли мера “долготерпенью” и для чего человеку посылаются (Роком? Судьбой? Или ничтожным случаем?) страдания. В душе его поднимается бунт – против столь жестоко устроенного мироздания и “неотразимого Рока”. Но бунт его принимает своеобразные формы, причем направлений этого бунта несколько (как минимум два). Во-первых, это с новой силой вспыхнувшая любовь к Эрнестине Дернберг, с которой Тютчев, щадя чувства жены, расстался незадолго до смерти Элеоноры. Сила любовной страсти для него единственное, что может примирить его с необходимостью человеческих страданий. Любовь – это вызов, любовь – это «поединок роковой» не только между двумя любящими сердцами, но и между человеком и его судьбой, между ним и безразличием небес. Свою страсть Тютчев противопоставляет бесстрастию миропорядка.
Во-вторых, бунт его вылился в уход в себя, в свою тоску, в окончательное отделение себя и своего «Я» от всемирной жизни. Если миру нет никакого дела до неповторимости личности, то и человек в ответ должен возвести баррикады между собой и миром, отрезать все соединяющие их пути. Тютчев отрицает существование любых точек соприкосновения своего «Я» и внешнего мира: «Боже мой, боже мой, да что общего между стихами, прозой, литературой, целым внешним миром, и тем… странным, невыразимо невыносимым, что у меня в эту самую минуту в душе происходит».[87]87
Там же. С.200.
[Закрыть] Строки эти хоть и написаны более 20-ти лет спустя, но – показательны для Тютчева. Он все чаще погружается на дно самого себя, оставаясь там в полном тоски и безнадежности одиночестве, даже создает философию молчания и одиночества: «Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои» и «Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь» («Silentium»).
Быть может, именно эта философия заставила в начале 40-х гг. надолго замолкнуть музу Тютчева: с 1840 по 1848 гг. она являлась ему всего 8 раз (перелом наступит лишь в 1849 г., когда поэт написал 12 стихотворений, в следующем году – 19; для него это очень существенное количество). Но этот ни на что не похожий бунт был поднят Тютчевым-человеком, Тютчев-философ изначально знал, что он бесполезен и бесцелен; он ни на что не направлен и ни к чему не приведет. Он смиряется, но кризис оставил в нем уверенность в том, что его жизнь окончена, что он отжил свой век и в будущем его уже ничего не ждет. Еще в начале 30-х гг. Федор Иванович создал стихотворение, где есть такие строки:
Как грустно полусонной тенью
С изнеможением в кости
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести!..
И это написал человек, едва вступивший в пору зрелости! Что ж говорить о том времени, когда Тютчеву было за сорок… В 1847 г. он признавался: «Я отжил свой век и… у меня ничего нет в настоящем».[88]88
Старина и новизна. Кн. 18. С.23.
[Закрыть]
И будто бы в ответ на это смирение судьба посылает ему второе дыхание. Он вновь возрождается к жизни, к творчеству, к любви – исключение в этом ряду составляла лишь политика. Интерес к ней не покидал Федора Ивановича никогда – он занимался ею все эти кризисные годы и продолжал активно вмешиваться в эту сферу до самой смерти. Именно политике он и обязан своим «вторым рождением». 1848 г., когда Европу всколыхнула волна революций, потряс Тютчева. По словам князя П.А.Вяземского – близкого его друга – «февральские, мартовские и апрельские дни возбудили и подвигли все его нравственное существо». Князь сильно переживал за Тютчева, боясь, что тот «изнеможет под тяжестью впечатлений».[89]89
Цит. по: Благой Д.Д. Указ. соч. С.39.
[Закрыть] В революции поэту виделся «апофеоз человеческого я, достигшего своего полнейшего расцвета»,[90]90
Папство и Римский вопрос с русской точки зрения // Тютчев Ф.И. Русская звезда. С.288.
[Закрыть] 1848 г. был воспринят им апокалиптически – как начало всеобщего разрушения, мирового катаклизма. Это «начало конца», как ни странно, и возродило интерес к жизни. Впечатлений действительно оказалось предостаточно, но они, вопреки страхам Вяземского, не придавили Тютчева, а, наоборот, окрылили его. Он вновь стал писать – и не только стихи: две из трех его политических статей («Папство и Римский вопрос с русской точки зрения» и «Россия и Революция») созданы им именно в 1848-49 гг. К этому же времени относятся обширный замысел и наброски трактата «Россия и Запад».
А через год, в 1850 г. начался долгий, 14-летний период его последней любви – к Елене Денисьевой. Роман бурный, страстный, безоглядный, мучительный – дар судьбы на склоне лет (Тютчеву было 46 в начале их связи), когда уставший от жизни поэт не чаял ничего подобного. Уже после смерти своей возлюбленной (в 1864 г.) Тютчев напишет: «Эта тоска – невыразимая, нездешняя тоска… уже 15 лет тому назад я бы подпал ей, если бы не Она (т. е. Денисьева. – Н.И.). Только она одна, вдохнув, вложив в мою вялую, отжившую душу свою душу, бесконечно живую, бесконечно любящую, только этим могла она отсрочить роковой исход».[91]91
ЛН. Т.97. Кн.1. С.391. Под «роковым исходом» Тютчев, очевидно, подразумевал смерть. Но был ли он уверен, что «тоска и ужас» сведут его в могилу, или его посещала мысль о самоубийстве – приходится только догадываться, сам он ничего об этом не говорит.
[Закрыть] Здесь он не вполне точен и не вполне верен себе: тоска и скука жизни завладели им намного – на целое 10-летие – раньше. И даже эта, столь сильная любовь не могла ее полностью вытравить: уже цитировалось письмо Тютчева 1856 г., где он признается, что «чувство тоски и ужаса уже много лет, как стало обычным моим душевным состоянием».
Это чувство стало фоном его жизни – безнадежно мрачным, мглистым, тревожным. Но фон не может составлять всего содержания, не может исчерпывать всей сути. «Банальная жизнь, жизнь внешняя» действительно «идет своим чередом», и человек должен идти вместе с ней. Другой вопрос – как это сделать, как вплести себя в ее причудливые кружева, каким способом замирить конфликт между своим «Я» и «целым внешним миром». У каждого свой ответ на этот вопрос. Тютчевым такой сферой примирения и применения своих сил была выбрана политика, конкретнее – внешняя политика. Захваченный ею, Федор Иванович – эта созерцательная, бездейственная, даже ленивая натура – становился воплощенной целеустремленностью, упорно добивался своей цели, неугомонная энергия так и била из него фонтаном идей, проектов, замыслов. Он забывал о своей тоске, которая съеживалась до едва различимой точки на горизонте жизни.
Но что же заставляло его отдаваться всем своим существом во власть этого «внешнего» мира, который для Федора Ивановича, по его собственным неоднократным признаниям, был «тошнотворной» реальностью? Ответ один: политика неотделима для него от служения России. Если христианская вера оказалась неприемлема для него – ее заменила вера политическая, вера в Россию, в ее Предназначение и великое будущее. В некрологе на смерть Тютчева так охарактеризована эта вера: «Чувство, в котором сосредоточивалась вся его душа, вся его природа, умственная и нравственная, – это его патриотизм, его вера безграничная в будущее России, в ее судьбы, в ее миссию историческую и провиденциальную».[92]92
Цит. по: Аксаков И.С. Указ. соч. С.287.
[Закрыть] Россия стала смыслом жизни, и чем ближе к концу, чем быстрее шли годы, – тем большим содержанием наполнялся этот смысл. В последнее десятилетие жизни Тютчева Россия и политика затмили все другие интересы и чувства, даже его поэзия приобретала все более политизированную окраску. Он все больше создавал стихи на случай или откровенно политические стихи-лозунги, стихи-воззвания. Россия была своеобразной религией поэта-мыслителя, ей одной он поклонялся, ей одной готов был пожертвовать всего себя.
Еще в 1843 г., до окончательного возвращения в Россию, Тютчев писал родителям: «Хоть я и не привык жить в России, но думаю, что невозможно быть более привязанным к своей стране, нежели я, более постоянно озабоченным тем, что до нее относится».[93]93
Тютчев Ф.И. Соч. Т.2. С.55.
[Закрыть] Позже его жена сообщала в письме к брату: «Мой муж не может больше жить вне России; величайший интерес его ума и величайшая страсть его души – это следить день за днем, как развертывается духовная работа на его родине, и эта работа действительно такова, что может поглотить всецело».[94]94
ЛН. Т.97. Кн.2. С.387.
[Закрыть] Личная жизнь и жизнь страны были слиты Тютчевым в одно неразделимое, неразрывное целое. Читая его письма, поражаешься той легкости, с какой он переходит от тем семьи, здоровья, быта, светских новостей к темам внешней политики, международных конфликтов, внутрироссийских политических дрязг и интриг. Это его сфера – в ней он чувствовал себя как рыба в воде.
Политика и ее глубинный смысл как настоящего истории помогали выжить и пережить самые страшные, «роковые» периоды жизни. После смерти Елены Денисьевой, придавившей Федора Ивановича, его горе и скорбь не знали пределов (боль усиливалась и тем, что он не мог излить ее самым близким людям – жене и дочерям, хотя те все знали и глубоко сочувствовали). В таких словах он описывает свое состояние А.И. Георгиевскому: «Не живется, мой друг, не живется… Гноится рана, не заживает. Будь то малодушие, будь то бессилие, мне все равно…», «жизнь утрачивает способность возродиться, возобновиться».[95]95
ЛН. Т.97. Кн.1. С.382.
[Закрыть] И тут же он переходит на изложение злободневных политических вопросов, заботивших его в то время, высказывает свои мнения, надежды, прогнозы. Но затем, словно вспомнив о своей боли, которая никуда не уходила – только на миг заслонилась гигантом – Россией, он продолжает: «Но довольно. Нет мочи притворяться, скрепя сердце, говоря с участием о том, что утратило для меня всякое значение».[96]96
Там же. С. 382.
[Закрыть] Личная драма сплетается с драмой истории в клубке страданий, любви, надежд и упований. Вера в Россию побуждала Тютчева к деятельности, деятельность спасала от отчаяния.
Если бы не эта безграничная вера и любовь – кто знает, что сталось бы с Федором Ивановичем после смерти возлюбленной. Анна Тютчева писала в то время об отце, что ему «самому недолго осталось жить» – так велико оказалось его горе, «которое недоступно утешениям религией».[97]97
Цит. по: Кожинов В.В. Указ. соч. С.413.
[Закрыть] Быть может тоска по ушедшей в скором времени загасила бы тлевший в груди поэта огонь, увела бы и его в могилу вслед за Еленой Александровной. Но… Россия звала, настоятельно требовала внимания к себе. Потребность слышать, как «осязательно бьется пульс исторической жизни России»,[98]98
ЛН. Т.97. Кн.1. С.385.
[Закрыть] дала возможность жить и служить на благо родины еще целых 9 лет – лет, наполненных напряженной, содержательной, богатой плодами деятельности жизнью.
По словам Вадима Кожинова, «политическая деятельность Тютчева в конце 50-х – первой половине 60-х годов» была столь «широкой и напряженной», что «для того, чтобы показать ее во всем объеме, потребовался бы обширный трактат историко-дипломатического характера». И «есть все основания утверждать, что подлинным идейным и волевым истоком многих внешнеполитических акций России с начала 60-х и до начала 70-х годов был не кто иной, как Тютчев. При этом он не только не стремился к тому, чтобы обрести признание и славу, но напротив, предпринимал все усилия для того, чтобы скрыть свою основополагающую роль, думая только об успехе дела, в которое верил».[99]99
Кожинов В.В. Указ. соч. С. 391–392.
[Закрыть] Вера оказывалась сильнее «пошлой действительности», сильнее тоски и ужаса, коль ежедневно, ежечасно побуждала отождествлять самого себя с предметом этой веры, свои интересы с интересами дела, а следовательно, с интересами России.
Как личную катастрофу Тютчев воспринял поражение России в Крымской войне 1853-56 гг. и унизительный для державы Парижский мир. Еще до падения Севастополя он писал в июне 1854 г.: «Мы накануне какого-то ужасного позора, одного из тех непоправимых и небывало постыдных актов, которые открывают для народов эру их окончательного упадка».[100]100
Тютчев Ф.И. Соч. Т.2. С. 152.
[Закрыть] Позже, уже после севастопольской катастрофы крик души достигает наивысшей степени отчаяния: «Никогда еще, быть может, не происходило ничего подобного в истории мира: держава, великая, как мир, имеющая так мало средств защиты и лишенная всякой надежды…».[101]101
Там же. С. 175–176.
[Закрыть] Можно приводить бесчисленные свидетельства того отчаянно-тревожного состояния Тютчева, в котором он находился эти несколько лет, – и это человек, не занимавший никаких официальных политических должностей! Все эти свидетельства твердят об одном: Тютчев переживал позор России как свой собственный, личная тревога за будущее страны достигла в этот период своего пика. В январе 1856 г., когда велись унизительные для России переговоры о мире, Эрнестина Федоровна засвидетельствовала в письме к брату: «Мой муж обезумел от ярости…»[102]102
ЛН. Т.97. Кн. 2. С.282.
[Закрыть] Стоит ли говорить, что последующие 15 лет, вплоть до опубликования в октябре 1870 г. циркуляра о расторжении Парижского трактата, устранявшего последствия Крымской войны, все усилия Тютчева были направлены именно к этой цели – к возвращению России на верный путь?[103]103
«Тютчев вовлек так или иначе в свою деятельность многие десятки самых разных людей – от сотрудников газет и историков до министра иностранных дел и самого царя». – Кожинов В.В. Указ. соч. С. 392. Говоря современным языком, Тютчев был опытным организатором PR-кампаний. Он умело формировал общественное мнение через прессу: аксаковские газеты «День» и «Москва» и катковские «Московские ведомости»; к нему прислушивались и ценили его высказывания и в светских салонах и в министерстве иностранных дел, глава которого – князь А.М.Горчаков – был близким знакомым Тютчева.
[Закрыть]
Тютчев – человек крайностей. Можно сказать, что вся его жизнь прошла в напряженном метании, в перепадах от абсолютного нуля к абсолютному максимуму – от полнейшего бездействия к неустанной вдохновенной деятельности. Середины он не знал и не любил: «Тютчев… не любил полумер ни в искании идеала, ни в искании красоты, ни в увлечении, ни в отвращении ко злу»,[104]104
Быков П.В. Ф.И.Тютчев (Странички из литературных воспоминаний) //Современники о Ф.И.Тютчеве. С. 87.
[Закрыть] – свидетельствует его современник. И если перед ним вставала задача – та, которая действительно достойна приложения сил, он ни перед чем не останавливался (разумеется, в границах дозволенного, Тютчев никогда не переходил пределов этики). И в постановке задач, проблем, их выборе для себя Федор Иванович также не знал полумер – только то, что находится на грани почти невозможного, труднодостижимого, необъятного для обычного человеческого ума. Все или ничего – но лучше все. «Всем» для него было высшее призвание России. В формулировке Ивана Аксакова эта задача такова: «поставить все народы и страны в правильные, нормальные условия бытия, освободить и объединить мир Славянский, мир Восточный, вообще явить на земле силу земную, государственную, просветленную или определенную началом веры, служащую только делу самозащиты, освобождения и добровольного объединения».[105]105
Аксаков И.С. Указ. соч. С. 230.
[Закрыть] Россия, по мнению Тютчева, должна стать центром особого греко-славянского мира, Христианской, Православной Империи. В этом назначение России, и Федор Иванович считал себя лично ответственным за приближение этого времени, за осуществление этой сверхзадачи.
Очевидно, концепция эта в окончательном виде сложилась у Тютчева к 1849 г., когда он начал делать наброски к трактату, где предполагал исчерпывающим образом изложить свои историософские взгляды. Это время, как уже говорилось, оказалось переломным для Тютчева во всех его ипостасях – человека, поэта, мыслителя. В нем вновь возродился интерес к жизни, уснувшая было «способность полного и искреннего приобщения к чисто литературному наслаждению»[106]106
Тютчев Ф.И. Русская звезда. С.361.
[Закрыть] вновь открывает ему дорогу к творчеству. Толчком этому, несомненно, послужили события «рокового» 1848 г.: волна революций, захлестнувшая Европу, разбилась на мелкие брызги у границ «утеса-великана» – России. Для Тютчева это было еще одним подтверждением его концепции России – законодательницы права и порядка на основах доброй воли, любви и свободы. Для Тютчева-политика, «верноподданного России» это не так уж мало, но достаточно ли этого было для Тютчева-человека и поэта, чтобы повернуть его лицом к жизни? Ведь одна державно-государственная мощь страны, любовь к Великой России не могут перевернуть душу человека, потому что они не в силах добраться до самых ее основ, до ее дна. Что-то должно было произойти внутри поэта, а не вне его, в мире чувства – но не в мире мысли.
Сам Федор Иванович ничего об этом не говорит. Но его поэзия – нового творческого периода – может о многом порассказать. О том, что в Тютчеве совершился духовный переворот, произошло его открытие России – не политической, не великодержавной, но той России, которая у каждого своя, не похожая на другие. Россия «бедных селений», «безлюдного, безымянного» края, «незамеченной земли» и «скудной природы». «Край родной долготерпенья» и «смиренная нагота» отныне вошли в душу поэта, став другой, не менее важной ипостасью Великой России – хранительницы мира и свободы. Это открытие случилось летом 1849 г. в родовом имении Тютчевых Овстуге Орловской губернии – в срединной русской земле. До этого Федор Иванович был в Овстуге после возвращения из Германии лишь один раз – в 1846 г. Но тогда его душа была еще мертва для жизни, она не смогла впитать в себя обаяния «смиренной наготы», не смогла найти наслаждения в неброской и неяркой, скрытой от поверхностного взгляда значительности жизни тех краев. В письме жене он тогда написал: «…в первые мгновения по приезде мне очень ярко вспомнился и как бы открылся зачарованный мир детства, так давно распавшийся и сгинувший… Но… обаяние не замедлило исчезнуть, и волнение быстро потонуло в чувстве полнейшей и окончательной скуки».[107]107
Тютчев Ф.И. Соч. Т.2. С.88.
[Закрыть] Открытия родины не произошло. Через год Тютчев напишет эти полные смертной тоски и томления жизнью слова: «Я отжил свой век…»
И вот теперь, три года спустя после тогдашнего почти что бегства из Овстуга 1846 г., Федор Иванович снова здесь – на этот раз с женой. Она-то и проливает немного света на ту поездку в письме к брату: «Мы находимся здесь с 7/19 июня и в полной мере наслаждаемся жизнью среди полей и лесов… Ничто не мешает нам чувствовать себя обитателями некой печальной планеты, которая вам, прочим обитателям Земли, неизвестна. И самое невероятное, что вот уже пять недель мой несчастный муж прозябает на этой мирной и тусклой планете, – это он-то, столь страстный любитель газет, новостей и треволнений! Что вы думаете об этой аномалии?».[108]108
ЛН. Т.97. Кн.2. С.233.
[Закрыть] Это действительно странно для Тютчева, который даже самое короткое время не мог оставаться «в глуши», не будучи в центре политического мира. Позже он хотя и старался как можно чаще наведываться в Овстуг, но жил там каждый раз не более двух недель: его гнала оттуда прочь тревога за состояние дел в мире политики, жажда движений, перемен и впечатлений, желание личного участия в свершающейся истории.
Но если в Петербурге и Москве он наблюдал движение Истории, причем имел самую счастливую возможность лицезреть это движение изнутри, «с изнанки» («…это – история, только делается она тем же способом, каким на фабрике ткутся гобелены, и рабочий видит лишь изнанку ткани, над которой он трудится»,[109]109
Тютчев Ф.И. Соч. Т.2. С.243.
[Закрыть] – писал он Анне), то в Овстуге ему в то лето открылось нечто большее, чем История. Он увидел жизнь самого Бытия своей земли, своей страны. Бытие это не было похоже на светлую, «праздничную», торжественную жизнь столиц, оно явилось Тютчеву «печальным», «мирным и тусклым». Но однако оно было настоящим, живым, подлинным, громадным и исполненным глубокого, высшего смысла. Его мерная, тихая, печальная и неизменная жизнь заставила Федора Ивановича по-иному взглянуть на человека и его безнадежно смертную жизнь под властью Рока. Человеческая тщета стала теперь подвигом, жизнь наполнилась смыслом, состоящим в том, чтобы «страдать, молиться, верить и любить». В этих четырех глаголах – вся жизнь человеческая и это то, что человек может, что он в силах выставить против «мира бездушного и бесстрастного», против одолевающей судьбы. От безнадежного отчаяния, которое сквозит в стихах первого творческого периода (до 1849 г.) Тютчев приходит – и путь этот лежал через овстугское лето 49 г. – к вере в человека, способного прямо глядеть в глаза безнадежности. Отчаянный пессимизм превращается в столь же отчаянный оптимизм (если по отношению к Тютчеву вообще правомерно говорить об оптимизме), неверие сменяется верой – не в Бога, но в человека.
Но духовный переворот не означал перемен в судьбе. Между обоими мирами, «двумя беспредельностями» Тютчева почти не существовало внешней связи – не было ни постоянных, ни перекидных, ни даже веревочных мостиков. Между ними лежала пропасть, и ни один человек не мог проникнуть на священную территорию тютчевской души, узнать, что «мятется» в ее «тайниках». И наоборот, содержимое этих тайников лишь очень скупо, по капле просачивается на страницы его писем. О многом приходится только догадываться, опираясь на его поэзию. Поэзия была единственным посредником, проводником, связывавшим оба мира. По словам Аксакова, поэзия Тютчева – это «цельная средина» его жизни, балансир, которым поэт удерживал равновесие, идя по тонкому канату. По одну сторону каната – «ум… серьезный и трезвый», по другую – «пустая жизнь». Последнее приходится оставить на совести Ивана Сергеевича (кстати, ставшего в 1866 г. зятем поэта – он женился на его дочери Анне): судьба Тютчева лишний раз убеждает, что «пустая» жизнь может быть во много раз более содержательной и насыщенной, нежели биография, буквально кишащая событиями бурной жизни и изрядно «наследившая» в истории.
Подобный разрыв между тем, что снаружи, и тем, что внутри, в «тайниках» сам Федор Иванович попытался объяснить в одном из писем к жене: «Как все, что представляется нашему уму несоразмерно значительным, будь то ожидания или позже воспоминания, занимает мало места в действительности!..»[110]110
Там же. С. 202.
[Закрыть] Отгадка в этом – в иллюзии несоразмерности. Действительно, если смотреть извне, со стороны бесстрастной реальности на все человеческие переживания – они покажутся столь несущественными, малозначащими даже в масштабе всей человеческой жизни, что ж говорить о целом мире! Но стоит только взглянуть на этот целый мир глазами одного чувствующего и страдающего (или быть может упивающегося своим счастьем?) человека – чем ему покажется вся эта огромность и необъятность? Вероятно, чем-то несоразмерно незначительным, занимающим так мало места в личных переживаниях. Этот целый мир либо посылается в тартарары, либо – море становится по колено, горы – по плечу, все остальное – воздушным шариком. Где истина? Для Тютчева истина состояла в том, что «целый внешний мир» – своим чередом, «тайники» души – своим. Что происходило в этих тайниках – там и оставалось. Лето 1849 г. дало знать о себе лишь в стихах – не более.
Внешне все оставалось по-прежнему. Политика, салоны, Россия, любовь и… тоска. Да, да, она уцелела, невзирая на новую жизнь и новую любовь, она как и раньше мучила и отравляла смертным томлением душу Тютчева. Поэт был обречен на тоску, как бывают обречены на медленную смерть, и в то же время не подлежит никакому сомнению его могучая жизненность, неистребимый жизненный инстинкт. И чем больше гложет его тоска, тем сильнее в нем становится этот инстинкт, с тем большей страстностью он впитывает в себя жизнь, без оглядки бросается в кипучий котел истории, политики, волнений и впечатлений, тем громче в нем слышен голос самой жизни. Его жажда жизни лишь сильнее закалялась в этом тираноборстве, она воздвигала все больше баррикад перед этим тоскливым чудовищем.
В 60 лет Тютчев вновь начинает посещать университетские лекции, за два года до смерти, будучи уже почти 70-летним стариком увлеченно следит за ходом «нечаевского процесса», буквально целые сутки проводя в зале суда. Последние два с половиной десятилетия его жизни характеризует самым непосредственным образом фраза одной из его дочерей: «Папа блуждает из одного салона в другой».[111]111
ЛН. Т.97. Кн.2. С.293.
[Закрыть] Эти «блуждания», непоседливость, увлеченность, самый «рассеянный» образ жизни и есть столь необходимые Тютчеву баррикады, устроенные им против наступавших на него «тоски и ужаса». «Единственной целью» их по его признанию было «избежать во что бы то ни стало в течение 18 часов из 24 всякой серьезной встречи с самим собой».[112]112
Старина и новизна. Кн. 18. С. 30.
[Закрыть] Подобное рассуждение могло бы показаться ребячеством, неглубоким, поверхностным отношением к жизни, наконец, просто слабодушием, принадлежи оно кому другому – не Тютчеву. Бегство от самого себя, действительно, не лучший способ одоления жизни, не самый привлекательный вариант жизненной позиции. Но Тютчев! Признание это принадлежит тому, кто сам говорил о себе, что он «человек, постоянно преследуемый мыслью о смерти», сознающий «ежеминутно с такою болезненной живостью и настойчивостью… хрупкость и непрочность всего в жизни»,[113]113
Там же. С. 37.
[Закрыть] человек, каждый день которого превращен «в последний день приговоренного к смерти».[114]114
Там же. С.35.
[Закрыть]
О нет, Тютчев не боялся смерти. Ведь думать о ней, иметь ее постоянно пред глазами, смотреть ей в лицо означает – ждать ее, спокойно и мужественно, и… соизмерять с ней свою жизнь. Это не бегство от себя, не ребячливое беспамятство – Тютчев никогда не прятался от жизни и от Рока – это memento mori, помни о смерти. И делай так, чтобы она не застала тебя врасплох – умей смело взглянуть ей в глаза. Тютчев это умел. Еще в 1856 г. – за 17 лет до смерти – он сказал о себе: «Я… могу отдать себе печальную и горькую справедливость… несчастье (т. е. смерть. – Н.И.) не застигнет меня врасплох».[115]115
Тютчев Ф.И. Соч. Т.2. С.178.
[Закрыть]
В январе 1873 г. после первого удара, парализовавшего половину тела Федора Ивановича, Лев Толстой написал о нем, спрашивая себя самого: «…как он (т. е. Тютчев. – Н.И.) примет смерть, которая во всяком случае близка ему?».[116]116
Современники о Ф.И.Тютчеве. С.70.
[Закрыть] Тютчев принял смерть и полугодовые мучительные физические страдания с удивительной стойкостью и мужеством. Почти до самого конца (несмотря на три постигших его удара – инсульта) его не переставала волновать политика. Он диктовал политические письма, по обыкновению острополемические, поражающие глубиной и яркостью мысли, продолжал писать стихи. «Каковы последние политические новости» – этот вопрос сделался основным для него в последние месяцы жизни. И это при том, что он не льстил себя надеждами на выздоровление, знал, что конец близок: «У меня нет ни малейшей веры в мое возрождение… Теперь главное в том, чтобы уметь мужественно этому покориться».[117]117
Цит. по: Аксаков И.С. Указ. соч. С. 311.
[Закрыть] Тютчев сполна заплатил за возможность достойной встречи своего конца. Он не противился ему, не закрывал перед ним глаз, не бунтовал – он смирился, он покорился своему року. Еще за год с небольшим до того Федор Иванович писал об этом: «в моем существе сокрушено чувство бунта против смерти, которое человек испытывает лишь один раз в жизни. Во всех последующих утратах, как бы тяжелы они ни были, нет уже ничего непредвиденного, ничего неведомого».[118]118
ЛН. Т.97. Кн.1. С.477.
[Закрыть] Смерть была «ведома» ему. Это знакомство – слишком страшное, слишком тяжелое – произошло, когда Тютчеву было 35 лет. Смерть первой жены Федора Ивановича стала для него потрясением основ, началом его духовного бунта, протеста против «бессмысленного кошмара». Но еще страшнее смерти для него оказалась поразившая его тогда особенно сильно способность человека «все пережить и все-таки жить».[119]119
Тютчев Ф.И.Соч. Т.2. С.33.
[Закрыть] Представить себе это – дико, немыслимо, невозможно, и все же – это так. Сколько горя терпит человек – и сколько же жажды жизни вложено в него! Сам Тютчев говорил о том, что при постоянной мысли о смерти «существование, помимо цели духовного роста, является лишь бессмысленным кошмаром».[120]120
Старина и новизна. Кн. 18. С.37.
[Закрыть] Но значит есть что-то, что можно выставить в заградотряд против бессмысленной смерти! В самом Тютчеве этим «чем-то» была гигантская духовная мощь общественного и политического самосознания России. Эта-то мощь, которую он нес на своих плечах, этот «духовный рост», тревога за судьбы страны и мира и их будущее, чувство личной ответственности (а может даже и вины) – это и возрождало Тютчева к жизни каждый раз, когда смерть и «бессмысленный кошмар» слишком настойчиво напоминали о себе.
И все-таки смерть была «близка ему». Он ищет ее разгадки – и не может найти: «Перед лицом подобного зрелища (т. е. смерти. – Н.И.) спрашиваешь себя: что все это значит и каков смысл этой ужасающей загадки, – если, впрочем, есть какой-либо смысл?»[121]121
Тютчев Ф.И.Соч. Т.2. С.256.
[Закрыть] – вот что мучает его при каждой очередной смерти кого-то из близких или знакомых. Рассудок молчит – здесь можно лишь чувствовать, постигать интуитивно и только в особых случаях – когда смерть уносит слишком дорогого, слишком близкого человека. После смерти первой жены, Элеоноры, Тютчев писал об этом В.А.Жуковскому: «Есть слова, которые мы всю нашу жизнь употребляем, не понимая… и вдруг поймем… и в одном слове, как в провале, как в пропасти, все обрушится».[122]122
Там же. С.33.
[Закрыть]
Смерть представала перед ним в том же языческом одеянии, что и жизнь. Для Тютчева не существовало перехода в мир иной, было только «окончательное уничтожение», природный катаклизм в масштабах одного человеческого существа:
Природа…
Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
… равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.
Так писал он за два года до кончины. На пороге смерти Тютчев остается верен своему космизму, мифотворческому взгляду на мир, на жизнь и на самого себя. Через день после первого удара зашедший к нему Аксаков говорит о нем: Тютчев «бегло сказав о себе „Это начало конца…“, сейчас же пустился говорить о политике, о Хиве, о Наполеоне III…»[123]123
ЛН. Т.97. Кн.2. С.422.
[Закрыть] Столь странное для умирающего поведение удивляло, поражало и оставляло в недоумении набожного Аксакова. В письме к дочери Тютчева Екатерине он заметно порицает Федора Ивановича за эту суетность: «Человеку дано грозное предостережение… тень смерти прошла над ним… Дается время приготовиться, покаяться, освятиться… Мне кажется, впрочем, что Федор Иванович… не ощутил и близости смерти, ее таинственного веяния около себя… едва ли ваш отец познал „день посещения своего“.[124]124
ЛН. Т.97. Кн. 2. С. 423.
[Закрыть] Но где же автору письма было знать, что «тень смерти» витала над Тютчевым уже не одно десятилетие, не покидая его ни на день, и что ее близость он ощущал на каждых новых похоронах: «И каждая новая смерть – как последнее предостережение, предшествующее окончательному уничтожению»,[125]125
Тютчев Ф.И. Соч. Т.2. С.257.
[Закрыть] – писал он в 1871 г. Ее «таинственное веяние» побелило его голову еще 35 лет назад – в самом расцвете сил, в жаркий полдень жизни. И если каждая новая смерть была для Тютчева предостережением – чего не каждый может сказать о себе самом! – то не был ли он готов к ней всегда, не чувствовал ли себя давно уже приобщенным ее «таинственному веянию»? Человек редко по-настоящему «помнит о смерти» – лишь когда она сама даст знать о себе. Тютчеву напоминать о ней не требовалось, он жил ею: обратной стороной его жажды жизни была опоэтизированная им жажда смерти, хаоса, бесследного исчезновения.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.