Текст книги "Опоздавшие на поезд в Антарктиду"
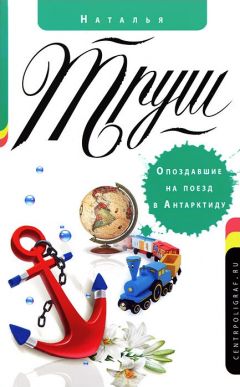
Автор книги: Наталья Труш
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Гениальный человек был Даня. Великий комбинатор с богатым криминальным прошлым. Про него просто легенды ходили. Одну из них он сам рассказал Илье Покровскому:
– Помнишь, Илюшка, были в больших городах такие классные магазины – «Березка», в которых купить можно было все, что душе угодно? У нас такие же были, только с другим названием – «Каштан». Деревянные магазины, блин! Вот этот наш «Каштан» я за месяц выставил три раза.
Запустил вечером камнем в витрину и проследил, как скоро менты приедут. Они были на месте через три с половиной минуты. Следующим вечером я разбил витрину и за три минуты и пятнадцать секунд вынес из магазина кучу техники – видики-шмидики. Ребята в погонах приехали, а меня уже и нет. На следующий день все повторил, причем с тем же стеклом, которое за день вставили в витрину.
После этого витрину закрыли листом фанеры, а в кусты посадили ментов. Две недели они пасли меня. А я – их.
Потом им надоело сидеть без дела, да и другие дела были. Пост от «Каштана» сняли. И я тут как тут! Третий раз. И снова три минуты и пятнадцать секунд. Вот такая четкость. Мне, правда, все это потом припомнили, когда я попался, но это уже совсем другая история!
Даня свое отсидел, вышел на свободу и дал себе слово: больше ни-ни, никакого криминала. Женился, ребеночка завел. А тут и лихие девяностые нагрянули. Объявили всем о рыночных отношениях, а что это такое – каждый понимал по-своему. Да и были они не столько рыночными, эти отношения, а больше базарными. Торговали кто чем мог. Вор у вора дубинки крал. Без крыши на базар этот с дубинками крадеными лучше было не соваться. А крыши были в большинстве своем ментовскими. Все об этом хорошо знали. Никто особо не скрывал, кому и сколько платит, чтобы спать спокойно. В райотделе милиции можно было отдел специальный открывать и принимать подати мешками по описи.
«Ну, думаю, Америку я тебе этим не открываю. Об этом писано-переписано. Я ведь тебе все так подробно рассказываю, чтобы ты поняла, какое время было и кто есть настоящие бандиты», – писал Илья Ольге.
Он рассказывал ей все подробно, порой мучительно подбирая слова. Во-первых, они родом были из разного времени: она о девяностых почти ничего не знала, а он не дотягивал до ее двадцать первого века, в котором на свободе не жил. Она девочкой юной была, а он в последние годы все больше дела имел с мужиками грубыми. Если бы это им он свои истории рассказывал, то можно было бы не подыскивать слова и называть все своими именами. А с ней все было по-другому, и надо было обучаться дипломатии, чтобы аккуратно донести информацию.
* * *
«Так вот, Даня наотрез отказался ментам платить, сказал, что сам своей «купле-продаже» крышей будет и еще друзьям-знакомым поможет. Очень он разозлил ментов. На этой почве и разгорелся у нас конфликт – я писал тебе уже про это. И про то, что, кроме Сережи, менты тогда хапнули водителя нашего Васю, тоже писал. Ну, «наш» – это я просто к слову. Просто местный парень. Ничего он про нас не знал, ровным счетом ничего. Но как стали на него «испанский сапог» примерять, так и начал Вася «вспоминать». Например, то, что я грохнул двух каких-то коммерсов, которых я и в глаза не видел.
А еще он упомянул Даню: мол, Даня больше в теме, знает даже, кто мы с Сережей, и откуда, и как нас найти в городе.
А Даня после всех этих передряг дома почти не жил. Дома у него жена была и дочка-малышка, двух лет от роду. И вот в дом к ним нагрянули эти отморозки, которые милиционерами, как Аниськин, служили. Дверь в Данину квартиру бензином облили и запалили. Пригрозили вообще всех убить, если Даня на стрелку с ними не явится. И все это не скрывая ни от кого. А что скрываться – то? Милиция с бандитами борется, и тут все средства хороши!
Даня звонит домой, а жена в трубку плачет, просит сделать что-нибудь. А что тут сделаешь?
Собственно, на Даню у них ничего не было, но понятно было, что если они с его семьей так, то с ним тем более церемониться не будут. А уж с чем его прихватить – это второй вопрос. Сначала бы приняли по полной программе, а потом и дел нашли на десяток статей УК.
Пока Даня думал, как лучше этот вопрос решить, жену его с дочкой в темной парадной подкараулили и избили до полусмерти. Причем били не только женщину – ребенку тоже досталось. Их в больницу увезли с серьезными травмами, а Даня ко мне обратился с просьбой о помощи. Решили, что он на встречу пойдет один, а я буду поблизости. Посмотрим, как все будет проходить. Встречу назначили на безлюдной улочке на окраине города, у входа в кафе, днем. На всякий пожарный случай взяли два пистолета ТТ, и еще Даня положил в карман гранату. По пути заезжаем в больницу и забираем жену Дани и дочку.
Приехали. Даня пошел на место, а я перешел на другую сторону улицы, откуда хорошо видно площадь перед кафе и две дороги, отходящие от нее.
Ждем.
Ждем десять минут, двадцать, полчаса. Сорок минут томительного ожидания. И никого! Никто не приехал, никто к Дане не подошел. Он помахал мне издалека – условный сигнал «уходим». За углом садимся в поджидающее нас такси и едем в центр города.
Но не успели и пяти минут проехать, как увидели за собой погоню из трех машин. Менты в «матюгальник» орут, команды подают, требуют остановиться. Тормоза визжат, резина на поворотах черный след на асфальте оставляет, люди на улице шарахаются, к забору жмутся.
Водила нашего такси позеленел и уже собрался было припарковаться у обочины. Я с ним рядом сидел, пушку достал, в бок ему воткнул и говорю:
– Гони, отец!
Водила оказался понятливым, погнал. Только спросил: «Куда?!»
– К метро гони! – У Дани план возник.
Я на него посмотрел, понял все.
Такси наше только что в здание подземки не влетело. Мы выскочили из машины и дернули в сторону частного сектора. Там райончик такой был, заборы высоченные, и теремки понастроены. Мы через первый забор перелетели. Дане проще было, он высокий, но и я не отставал. Правда, осень на дворе, мы в плащах были долгополых, Даня в белом, я – в зеленом.
Менты не отстают, скачут за нами через заборы шустро, да еще и стреляют в спину. Мы тоже пытаемся отстреливаться, но не очень результативно. Убегать и отстреливаться при этом очень неудобно.
Так мы отмерили четыре участка, но от погони уйти не могли. Буквально на хвосте висели у нас вооруженные опера.
Я часто думал потом, можно ли было тут что-то изменить…
Не знаю. Нет у меня ответа…»
Тот забор, который встал перед ними в очередной раз, был особенно высоким. Даня взлетел на него, и тут в него попала пуля. За ней вторая, третья… Илья немного отстал, и ему хорошо было видно, как на белом плаще Дани появляются маленькие дырочки. На плече, на руке, на бедре. Их становилось все больше и больше. Он с ужасом смотрел на то, как еще минуту назад живой человек превращается в…
«… Если бы можно было в тот миг остановиться, прервать этот бессмысленный бег, то, наверное, я увидел бы оторвавшееся от земли легкое белое облачко. Душа-то у Даника была чистой и светлой… А ты говоришь «бандиты»…
Дальше все было как в кино. Еще живой, но уже отправившийся в страну, где он навсегда останется сорокалетним в этих безумных девяностых двадцатого века, Даня прошептал:
– Илюша, уходи…
* * *
Я дернулся к нему. А у него в этот момент голова на грудь упала. И я понял – это всё. И только легкое облачко оторвалось от земли и стремительно улетело ввысь…
До того момента, как я упал лицом в какие-то кусты, я увидел, как висевшее на заборе тело Дани в белом плаще, было прошито еще десятком пуль. И из черных дырочек по белому заструились красные ручейки…
А меня, представь, спас мой зеленый плащ. Я упал во что-то колючее, наверное в заросли крыжовника, и вжался в землю. Воевать мне было нечем: два патрона в пистолете против десятка стволов.
Я не надеялся на чудо. Я просто вжался в землю, слился с зеленью и замер. Я видел и слышал все!
Менты матерились в полный рост и проклинали нас. Еще бы! За стрельбу почти в центре города, за труп Дани их никто по головке не погладит!
Даню обшарили и нашли у него в кармане гранату. И у оперов возник план.
– Мужики, взорвем его к чертовой матери, и все дела! – предложил один из них. – Скажем, что сам он гранату рванул!
Они так и сделали: вырвали чеку и кинули в Даню гранату. Его разорвало на моих глазах. А на шум через заваленный забор уже сползались местные жители, охали-ахали, вопросы задавали: что, как и почему? Менты все просто объяснили: «Ловили опасного преступника, а он подорвал себя гранатой, и вы тут не стойте, расходитесь!»
Я видел, как суетились менты, как любопытный народ валил валом в чужой огород. Меня чуть было не затоптали в кустах. И тогда я встал с земли, снял свой приметный зеленый плащ-спаситель, свернул его аккуратно, на руку повесил, остался в свитере и брюках, серый весь и незаметный. Постоял в толпе, поговорил с каким-то дедом о происшествии и… ушел».
Как ему было больно, Илья не хотел рассказывать Ольге. Мужики, бывает, тоже плачут. Потом, когда его поймают, ему будут много и долго делать больно. Ментовские тюремные пытки – это не для нежных девичьих ушей. Но это будет уже другая боль.
А тут ему надо было развернуться и уйти прочь без слез, без последнего «Прости, брат!». Он не мог похоронить Даню. Не мог утешить вдову и дочку. Ему надо было срочно рвать из этого города. И не одному, а с раненым другом Сережей. И очень-очень скоро. У Ильи было предчувствие. Плохое. И оно его не обмануло…
«Ты можешь сказать, что я занимался не совсем законными делами. Да, это так. Но это другое. Я снова про то, кто есть кто. Кто был кто.
…Как передать тебе мое настроение, то самое, с которым я вернулся в тот день в дом Виктории, где ждал меня Сергей? Думаю, ты все сама понимаешь. Настроение – дрянь. Одно радовало: Сереже уже легче стало, челюсть почти срослась, повеселел мой раненый.
И путь через границу в Россию был подготовлен: нас на родину должны были перевезти в почтовом вагоне поезда. Иных путей не было, нас тормознули бы на первом посту. А в почтовом завалились бы мы среди посылочек да бандеролек, сами бы прикинулись письмишками заказными и сопели бы тихонько до самого Питера. А там уж придумали бы, где и как надежно схорониться.
Если бы я знал тогда, что плану этому не суждено сбыться, что нас уже обложили в нашей берлоге, я бы…»
А что «я бы»? До их отъезда оставалось два дня… И неуместно тут сослагательное наклонение. Да и не мог Илья Покровский ничего знать, так как эта ментовская операция держалась в строгом секрете.
А было все так. Компаньон Вася, тот самый, который под пытками ментовскими Даника сдал, вспомнил еще до кучи то, как подвозил однажды из ресторана Илью и Викторию. Он тогда поинтересовался, кем девушка работает…
Много ли медицинских работников проживало в том районе, где Вася высадил из машины Илью и Викторию, неизвестно. Но думается, что выяснить это было не так сложно. Да и возраст девушки Вася почти точно указал.
Надо полагать, что за Викторией несколько дней подряд следили. И не могли не заметить, что девушка в аптеку заходит каждый день, покупает бинты и медикаменты. И вообще, живет одна, а продуктов из магазина прет как на хорошую семью! Это Илья, конечно, потом все узнал.
А в тот день Виктория собиралась утром на работу. Разбудила Илью, сказала, что уходит, напомнила про борщ в холодильнике и про компот на плите и в половине восьмого утра закрыла входную дверь на ключ.
Можно сказать, что с этой минуты жизнь его раскололась на две части, на до и после.
Взрывом входную дверь сорвало с петель, и в квартиру ворвались вооруженные бойцы. Они начали избивать Илью и Сергея так, что они буквально летали по маленькой квартирке. Сколько это продолжалось – Илья не знал. Сначала он еще чувствовал дикую боль, а потом перестал что-либо чувствовать и пришел в себя только через двое суток…
…В Харьковской тюрьме он провел три с половиной года – столько времени шло следствие. За этот срок ему сломали все, что можно сломать в человеческом организме. Ему жестоко мстили за все. За то, что он слишком много знал про ментов, крышующих всех и собирающих дань с ком мерсов, за то, что он, безоружный, разоружил сотрудников милиции и выкрал раненого друга, за то, что «заминировал» больницу безобидной игрушкой и выставил бойцов дураками, за то, что ему везло и он ловко уходил от погони.
Они были по разные стороны, и за это ему тоже мстили. И били жестоко, так, что он перестал чувствовать боль.
И пытали, хоть пытки запрещены конвенцией против пыток.
«Ты говоришь, «бандиты». Наверное, ты во многом права, девочка. Но никто из этих бандитов не подкинет тебе в карман десять граммов белого порошка, а вот те, кто по другую сторону, – запросто! И тебя, законопослушную, умную и положительную, никогда не пробовавшую наркотики и не продававшую их, кинут в «обезьянник». И ты ничего не сможешь никому доказать, так как найдутся свидетели, которые покажут на тебя. И поедешь ты в лагерь по статье за распространение наркотиков. Это так просто сделать! Сегодня на этом можно любого гражданина упечь за решетку на приличный срок. И я знаю, сколько таких «преступников» сидит здесь. Если ты кому-то мешаешь и при этом у тебя нет надежной спины, денежного мешка или волосатой руки, тебе легче легкого попасть на зону.
А ты говоришь, «бандиты»…
Я не жалею ни о чем, что было в моей жизни. Глупо жалеть! Ничего ведь не изменить. Жалею только о тех людях, которых уже не вернуть. Да и времени жаль. Хотя здесь тоже жизнь. И она более честная, чем та, в которой живете вы. Видишь, я четко разделяю жизнь на ту, которая здесь, у нас, и на ту, которая там, у вас. Здесь по-другому относятся к словам и обещаниям, здесь ценят истинную верность и дружбу. Но здесь слишком много человеческого мусора. Это те, кто сломался, потому что не вынес боли. Я не знаю, как к ним относиться. Как к предателям? Или как к слабакам? Не знаю.
Может быть, я излишне жестко написал, но иначе не могу. У меня был и есть Сережа, который стал инвалидом, потому что молчал как рыба. У меня был Даник, который погиб из-за того, что кто-то не вынес средневековых пыток. У меня были и есть люди, которые, как и я, прошли тюрьму и зону, но не потеряли при этом человеческого облика и смогли остаться людьми. Людьми очень порядочными, заметь, несмотря на то что «послужной список» у них очень длинный.
Береги себя, девочка. И будь подальше от всего этого как с одной, так и с другой стороны».
«…Ты спрашиваешь, какие люди здесь живут? Разные люди. Я уже говорил тебе, что человеческого мусора здесь много. Но и порядочных людей хватает. Может быть, тут их даже больше, чем по ту сторону решетки.
Я расскажу тебе одну историю. Помнишь Васю из Харькова, который нас продал? Я познакомился с ним после его освобождения. За плечами у него – десятка в местах не столь отдаленных. Казалось бы, школа серьезная, не заочно пройденная, но… В общем, встретились мы с ним по делу, посидели в машине, поговорили обо всем. Он старше меня был, и я по этому поводу и вообще – со всем уважением к нему. До одного грустного момента.
Вася увидел у меня пачку дорогих сигарет и попросил закурить. Через пять минут снова попросил. Потом еще. «У тебя сигарет нет?» – спросил я его. «Нет», – говорит.
Я, ни слова не говоря, из машины выхожу и в магазин. В голове, правда, мысль мелькнула: странно, ему в общем-то ведь, как освободился, помогли деньгами ребята, а у него на сигареты нет. Ну, да ладно. Все бывает.
Купил ему две пачки хороших сигарет, он взял их. Правда, пока мы с ним сидели и разговаривали, он мои продолжал курить. И это меня тоже неприятно кольнуло. Ну, нельзя так! A-а, да ладно. Списал на плохое воспитание.
Но самое противное было потом. Договорили мы, обсудили все. Вася вышел из машины, полез за перчатками в карман, а у него оттуда пачка сигарет выпадает. Не тех, которые я купил. А тех, которые у него были, но он при этом сироту казанскую изображал…
Я сделал вид, что не заметил, чему Вася был чрезвычайно рад. Но я выводы сделал. И когда дошло дело до привлечения его к нашей работе – я рассказывал об этом тебе, – я был категорически против этого. Просто не доверял ему. Нельзя доверять человеку, который врет. Он проверку не прошел, «тест на «верблюда», на пачку «Кемела», то есть! И ведь чувствовал я, что не стоит его к себе близко подпускать, но меня убедили, что доверять ему можно. Результат тебе известен.
Я потом эту историю много раз рассказывал, особенно молодым, которые порой сами не ведают, что творят. Надо уметь от многого отказываться, даже если очень хочется. Я потом своим этим мыслям подтверждение нашел у какого-то поэта. Позволите?
…Умей отказываться начисто,
Не убоясь и одиночества,
От неподсудного ловкачества,
От сахарина легких почестей.
От ласки, платой озабоченной,
И от любви, достаток любящей,
И от ливреи позолоченной
Отказывайся – даже в рубище.
От чьей-то равнодушной помощи,
От чьей-то выморочной сущности…
Отказывайся – даже тонущий —
От недруга руки тянущейся![1]1
Вадим Шефнер. «Умей».
[Закрыть]
Вот. «Умей отказываться…» – правило номер один, которое я хорошо усвоил. А вообще-то несвобода дает целый свод правил, на все случаи жизни. И выполнения их там требуют строго. Пообещал – сделай, а не можешь – не обещай. Нормальные правила, общечеловеческие. Правда, более строгие, чем по другую сторону решетки. И спрашивают за них очень строго. Впрочем, может, так и должно быть?»
Покровский сложил исписанные листочки ровной стопочкой, перечитал. Ему понравилось. На книжку похоже. Правда, без начала и без конца. Бывают такие, испорченные плохими читателями. Покровский к ним не относился. Как раз наоборот, он любил читать.
«Вот и подошло время рассказать тебе о персонаже, который являет собой яркий пример «человека с другой стороны», чтобы ты поняла, кто есть кто.
Начальник уголовного розыска Михал Палыч Терехин был личностью легендарной. Для одних – бескомпромиссный борец с бандитизмом и коррупцией, для других – самый главный бандит и коррупционер. Понятно, что второе доказать было практически невозможно, хоть все это знали наверняка.
Я хочу рассказать тебе, как первый раз встретился с ним. О-о, это целая история. Когда нас с Сережей взяли на квартире у Виктории, нас били до полусмерти. Очень скоро я потерял сознание, и это было спасением…»
Покровский очнулся в каком-то кабинете, прикованным наручниками к сейфу с одной стороны и к батарее – с другой. Потом уже он узнал, что находился в прокуратуре.
Как только его угораздило прийти в себя, так тут же, как будто почувствовали это, явились опера. Обрадовались, что Покровский в сознании, и начали его молотить.
Это было страшно. У него уже была сломана нога, стоять он не мог и фактически висел на руках. Он почти ничего не видел, так как один глаз у него заплыл полностью, а в другом была лишь узенькая щелочка. Каждый удар сопровождался страшной болью – ребра были сломаны. Было ощущение, что от побоев они втыкаются в сердце, в легкие.
А еще Илья молчал, и за это его били все ожесточеннее. Было ощущение, что его истязатели сами уставали. Наверное, так и было, потому что в какой-то момент ему сказали:
– Молчишь? Ну, молчи-молчи, придет «сам» – заговоришь!
И этот «сам» не заставил себя долго ждать – явился. Коренастый, широкоплечий, коротко стриженный, с печаткой золотой на пальце правой руки и толстенной золотой цепью на шее. Типичный бандит девяностых!
Зашел в кабинет, дверь за собой ногой закрыл, выпучил на Илью глаза навыкате, с удивлением спросил с украинским гхеканьем:
– Ты хто таков?
– А ты кто? – спросил Покровский в ответ.
– Тут я вопросы задаю, слышь, ты?! Ты хто таков, засранец? Тебя такого откуда занесло в мой город?! Кто разрешил грабить мой город?! А?! Это мой, слышишь? Мой и только мой город! И только мне позволено его грабить!
«Ну, точно! Бандюган какой-то местный!» – подумал Илья и снова спросил:
– Ты-то кто такой?
– Я хто?! Это ты меня спрашиваешь, хто я?! Я тут главный! Я начальник, мля, уголовного розыска, понял? Терехин Михал Палыч, мля, понял?!
Илья не успел подумать о том, что это какая-то чертовщина, как Терехин со всей силы врезал ему ладонями по ушам. Илья мгновенно оглох, а по шее справа побежал теплый ручеек.
Не успел очухаться от чудовищной боли, как он достал ствол и со всей силы двинул Покровскому в приоткрытый рот. Слева захрустело, и от дикой боли Илья чуть не потерял сознание. Но нашел в себе силы и сплюнул под ноги два сломанных зуба…
Но самое страшное, что он ощутил, – это странные перебои в сердце. Илья никогда не чувствовал, что у него есть этот орган, и это говорило о том, что сердце всегда было здоровое. А тут он реально почувствовал, что оно работает как-то не так. И впервые за все время Илья испугался. Он понял, что больше не выдержит побоев.
– Я буду говорить. – Губы в запекшейся крови с трудом разлепились, и тут же под ноги ему начали капать яркие красные капли.
– Вот это уже лучше! Я ж обещал тебе, что будешь говорить! Обещал?!
Покровский кивнул в ответ.
– Ну вот! У меня тут все говорят! Ну, давай, поехали.
И Илья «поехал». На квартире у Виктории их взяли с оружием. Было там несколько стволов, и он начал сочинять историю во спасение.
– Я работал по заказам. В разных городах восемь жмуров – мои. Половина – в Свердловске.
В своих повествованиях Ольге Илья опускал самые жуткие картины своего пребывания в неволе. Если рассказывать все, то любой законопослушный гражданин усомнится в том, что это честно. А кое о чем у Ильи и вообще бы язык не повернулся говорить – стыдно было бы рассказывать девушке такое!
* * *
«Я сочинял, но сочинял о том, о чем знал наверняка. В Свердловске в начале девяностых проходил большой передел в криминальной среде, и там действительно полегло немало известных личностей. Я знал об этом очень хорошо. И не только из газет. Так получилось, что я осенью девяносто второго был в этом уральском городе по своим делам. Жил в гостинице, обедал в ресторанах, встречался с разными людьми в разных организациях. Рассказывая сочиненную историю Терехину, я легко называл какие-то имена, даты, названия мест.
Я убедил его в том, что все именно так и было, и он был счастлив! Восемь трупов, в которых я признался, – это была его победа. Оставалось только получить доказательства того, что найденные у нас стволы засветились в восьми убийствах в России, и за поимку такого преступника можно было вертеть дырочки на парадной форме.
Я понимал, что у меня в запасе не так много времени. Ну, сколько его потребуется для экспертизы? Три дня? Четыре? Неделя – максимум. И это была моя неделя.
Счастливый Терехин сделал все для меня. Я по-прежнему находился в том же кабинете, но с меня сняли наручники и принесли матрас, на котором можно было спать. Меня кормили деликатесами. Под окнами управы находился рынок, и все торговцы с него платили дань ментам – деньгами и продуктами. Вот и мне перепало с этого рынка. Мало того, Терехин засылал мне коньяк, и эта «анестезия» была как нельзя кстати.
Но самое главное, ко мне приходил врач и лечил меня на совесть. Уколы, таблетки, обезболивающие препараты, витамины. Причем в огромном количестве. Я ел их горстями, впрок. Я знал, что делаю. У меня было очень мало времени.
Трудно сказать, сколько прошло – пять дней, шесть или неделя. Я потерял счет суткам и часам. Старался больше спать. Пил таблетки, коньяк и забывался сном.
Но очень скоро этот отпуск закончился. Стволы-то незасвеченные были, и я это хорошо знал. И знал, что экспертиза это покажет. Вот она и показала.
На Терехине лица не было. Вернее, оно было, но такое страшное, что слов не хватит его описать. Он орал, как потерпевший, до синевы и слюней, и в его речи не было ни одного печатного слова. Еще бы! Он неделю поил и кормил меня, лечил и дал возможность отоспаться, и в ответ такая черная неблагодарность!
А еще после этого «санатория» со мной что-то случилось. Если раньше мой болевой порог позволял им молотить меня долго до потери сознания, то теперь я отключался после двух ударов. А бить меня такого им было совсем неинтересно. Какой смысл пинать безжизненное тело?»
Илья не спросил у Ольги, знает ли она, что это такое – загонять иголки под ногти. Сам он читал про эту пытку, но никогда не думал, что ее могут применять в наши дни. Это в голове не укладывалось, и если бы кто-то рассказал, то Илья, скорее всего, решил бы, что это горячечный бред сумасшедшего.
Не бред. Но он не доставлял своим мучителям большого удовольствия, так как его организм мгновенно отключался и на боль не реагировал.
Не рассказывал он ей и про еще одну милицейскую «забаву». Казалось бы, совсем невинная забава, но она доставляла ужасные страдания. На руках узника застегивали наручники. Но не на запястьях, а выше, ближе к локтю. Руки начинали затекать, а пальцы превращались в синие сосиски и произвольно сжимались в кулаки. Вот тут современные инквизиторы и приступали к изощренной пытке. Они разгибали пальцы. Казалось бы, что тут такого? Но из-за отечности рук сделать это было невозможно, и ощущение было такое, будто из тебя выдирают жилы…
Обо всем этом Илья умолчал в своих письмах. Такие ужасы не для нежных женских ушек. Ему казалось, что он и так убедительно рассказал ей, кто был кем.
* * *
В прокуратуре Илью Покровского продержали восемь дней, после чего отвезли на Лысую гору – это название тюрьмы харьковской. В подвал, в одиночку, его бросили в ужасном состоянии: уши болели из-за поврежденных барабанных перепонок, почки были отбиты, ребра, рука и нога сломаны. Но это не останавливало оперов, которые регулярно вытаскивали заключенного из его норы-одиночки, чтобы выбивать признания.
А он молчал.
После одного из таких допросов, опер обреченно сказал ему:
– Ну ладно! Хватит с тобой нянькаться! В «петушатник» пойдешь, там из тебя послушную девочку сделают!
Не надо никому, наверное, объяснять, что такое «петушатник». И Илья хорошо понимал, что ему несладко там будет. Сил у него не было совсем.
В этот же день его вытащили из одиночной камеры и впихнули в другую. В ней были нары в три этажа и пять человек сидельцев. Один из них спрашивает Илью: мол, кто такой?
А он, как зверек, в ответ:
– Я с «петухами» не разговариваю!
Тот, кто, похоже, был главным у них, говорит ему:
– А с чего ты взял, что тут «петухи»?! Тут нормальные люди сидят!
И предложил воды – Илья ведь в крови весь был, как баран.
Но воду не взял, опять на дыбы встал. «Не подходи, – говорит. – Я кусаться буду!» Больше-то он ничего не мог сделать. Сил не было, на четвереньках в углу стоял, даже подняться в полный рост не мог.
Вот так, в противостоянии, часа четыре провел. Огрызался, как волчонок, хотя в голове уже мысль бродила, что что-то намутили опера, развели его. Потому что если б хотели, то такого болезного тут давно бы уже «опустили», а его никто не трогал.
Когда время обеда пришло и на дверях скрипнула дверца «кормушки», он баланд ера спросил, в какой камере находится.
– Смертники тут…
Но Покровский правило «Не верь» уже хорошо усвоил. Не поверил! Ночь не спал. А утром его в ШИЗО бросили, в подвал, где он провел девять месяцев.
«Оля, мир не без добрых людей, и там они тоже были. Медсестра одна жалела меня, обезболивающих препаратов подкидывала. Только просила язык за зубами держать. Перевязывать меня было нельзя, сразу бы заметили, а таблетки помогали держаться. И в один из таких визитов с таблетками она мне сказала:
– Что ж ты так непочтительно с Фирсом обошелся?
– С кем?
– С Толиком Фирсом. Это камера, в которой ты был последний раз.
Имя это я слышал и про Фирса слышал только хорошее. Но в глаза его никогда не видел. Откуда мне было знать, что это он? Я ведь не сомневался, что по милости оперов попал в «петушатник»?
А между тем мне нет-нет да стали приходить передачки. Оказалось, от него, от Толика Фирса. Потом жизнь столкнула меня с ним несколько раз, и я убедился в глубокой порядочности этого человека. Сам порой сидел на безрыбье, но из общего никогда ничего не брал. Как-то раз я был свидетелем, как он передавал чай и сигареты одному опущенному. Человечишко никчемный был, трус и стукач. И я спросил Толика: мол, ему-то за что грев, ведь не заслужил? На что Фирс мне ответил:
– Если в ШИЗО или на пожизненное готовится, надо помогать даже опущенным.
Вот такое отношение к людям у него было. А в конце девяностых Фирса короновали. Я потом часто вспоминал, как попал к ним, как не доверился, «петухами» называл. Спасибо ему, он все понял. Он просто людей видел. Видит…
А авторитет вора в законе держится на справедливости, а не на том, какие «подвиги» прописаны в его биографии. И я убежден, что такие авторитеты не дают криминальному миру скатиться в пропасть, называемую беспределом.
Или мне так повезло, или так оно и есть, но я не видел в миру людей более чистых, чем там…»
«…Коль зашел разговор о разных людях, волею судьбы попавших туда, то расскажу тебе еще один эпизод.
Как я уже говорил, меня ломали со страшной силой. Всеми возможными способами. Как-то раз скомандовали «с вещами на выход». Ну, какие у меня вещи?! Меня же на квартире у Виктории взяли в одном спортивном костюме и тапочках. Тапочки я быстро износил. Спасибо по случаю подкинули мне ботинки с чужой ноги да трусы с носками. Но те всегда на мне были. Постираю, подсушу и снова надену. Так что всех вещей было щетка зубная, ложка и носки запасные.
По пути мне шепнули: мол, в камеру к Борману закидывают. «Бойся!»
Впихнули в хату, маленькую совсем. В ней шесть арестантов, накачанные все, молодые да здоровые. А во мне тогда, дай бог, пятьдесят кэгэ веса живого. Да и живого ли?..
Тот, которого Витей Борманом звали, осмотрел меня, как удав кролика, перед тем как его съесть, и говорит:
– Что со здоровьем у тебя? Что кривой такой?
– Нога сломана, – отвечаю. – И рука тоже.
– А вещи твои где?
– А вот все! – показываю ему щетку, ложку и носки. – Без чемодана я!
Борман посмотрел на меня с сомнением.
– Ты в курсе, что тебя сюда закинули, чтоб я тебя убил?
– Догадываюсь…
– А я хоть и беспредельщик, но рука не поднимается. Что убивать-то тут? – не меня спросил, сокамерников. Те в ответ понимающе покивали. – А я оперу обещал… – Витя почесал за ухом в глубокой задумчивости и вынес вердикт: – Знаешь, что сделаем… Как зашел ты в хату, так и выходи.
Выломиться мне предложил. Помнишь комедию «Джентльмены удачи»? Вот там громила, который в дверь тарабанился и кричал, что «хулиганы зрения лишают», так это он «выламывался из хаты», то есть испугался и привлекал к себе внимание охранников. По понятиям, это косяк. И коль уж занесла меня нелегкая на тюремные нары, жить я собирался так, чтобы не было стыдно. А за такой косяк потом жизни в тюрьме не будет. Ни почета тебе, ни уважения. Поэтому я сразу Борману сказал, что выламываться не буду.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































