Текст книги "Святая Грусть"
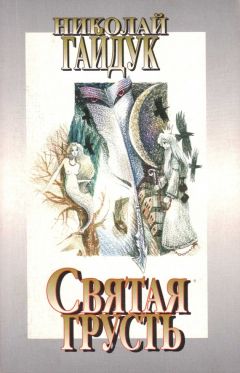
Автор книги: Николай Гайдук
Жанр: Русское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава двадцать первая. Почему топор в крови
1
Серыми горбами вставала пыль, клубилась… Копыта колотили по каменистой дороге, легко швыряя вёрсты под колеса… Трава, деревья перед глазами путников – растянулись, размазались изумрудными лентами.
Золотые купола Царь-Города загорелись впереди, сверкая солнцем, и погасли где-то за дубовою спиной кареты.
Кучерявый Кучер приободрился, выезжая на прямой и гладенький большак. Теперь не надо ни кнута, ни пряника, только знай следи за поворотами, чтоб не слететь под обрыв, не врезаться в каменный «лобешник» придорожной скалы, угрюмо нависающей то там, то здесь.
Рано обрадовался Фалалей.
Пришлось тормозить – на полном скаку разгорячённый коренник жрал трензеля, только искры летели из-под зубов…
Отравленное зелье хоть с опозданием, но шибануло в голову заморыша: белки с кровяными накрапами посинели мёртвой синью, зрачки закатились под брови; распяленные веки не моргали. Нервным тиком дёргало ресницы. Горделивый хрящик горбатого носа с каждою минутой становился всё прозрачнее и прозрачнее, потом желтушно завосковел – как у покойника.
2
Палача привезли во дворец, положили на подушки и пустили кровь: чернющая, страшнющая, она так завоняла – врачеватель скривился, чуть не стошнило, хотя человек он был опытный, море крови перевидал на своем веку.
Отворачиваясь от посудины, переполненной кровью палача, он пролил на паркет маленькую черную лужицу… И через минуту еловые и дубовые плашки паркета, составленные замысловатым рисунком, слегка задымились, охваченные холодным огнём; замерцали, будто гнилушки, тихо потрескивая, разъедаемые ядовитой влагой.
Ну как, Топтар Обездаглаевич?
Фу-у… Полегчало. Спасыба. Эскулап не удержался от замечания:
Ну и кровушка у вас! Вы палачом, извиняюсь, давно работаете?
Это наша фамильная дела.
Тогда понятно. Отдыхайте.
Некагды!
А что так?
Мне надо голова рубить!
Вам голову рубить? – эскулап нагнулся, погладил палача по жестким волосам. – Зачем такую голову красивую рубить? Успеется, я думаю.
Твоя моя не понимаешь!.. Топор! Где мой топор?!
Врачеватель подсыпал ему порошочку в стакан с водою, заставил выпить. Палач пошумел ещё, помахал воображаемым топором и заснул в каменной палате царского лазарета.
Казалось, он лежал без чувства, без дыхания, но как только врачеватель ушёл – палач приподнялся на мягких подушках. Поцарапал плешину и приказал пигмею-оруженосцу немедленно трубку подать.
Он привык серьёзные дела обдумывать с трубкой в зубах. А дело принимало серьёзный оборот – серьёзней уж некуда. Краем уха Топтар Обездаглаевич услышал разговор царского кучера с двумя боярами в кабаке; понял, что хотят его отправить сосны корабельные валить: вот тогда-то и решил он прикинуться хворым, отлежаться и подумать, как лучше поступить. «Я хотел секир-башка царю, а получается наоборот. Перехитрил меня цар. Кто же рассказал ему про секир-башку?.. Двое суток галион простоит в порту. Надо как-то сбежать на корабль».
Так думал он, валяясь на подушках, квадратным ногтем заправляя в трубку всё новые и новые табачные хрустящие листы. Курить он был горазд – зубы желто-чёрные от курева и дух такой идёт от палача, что рядом с ним любой цветок завянет.
Герань стояла на окошке лазарета – листы герани скоро пожухли; красноголовый цветок скукожился, мягко осыпая лепестки.
2
Громкие шаги по коридору заставили насторожиться.
Спичка в руке полыхнула – Топтар Обездаглаевич забыл про спичку. Обжегся и тихо выругался чёрным дурохамским словом. Откинул спичку. Лег.
Дверь в палате содрогнулась – как будто сапогом растарабарили. На пороге появились двое: Охран Охранович и Соколинский.
– Всем оставаться на своих местах! – загрохотал начальник дворцовой охраны.
Топтар Обездаглаевич успел принять позу человека, лежащего на смертном одре. Еле-еле приподнимая голову, он сделал вид, что шутит из последних сил:
А то мы побежал, мы испужался…
Р-разговорчики в строю! – сурово одернул Охра. – Где твой топор?
Сачем? – Когда нужно было, палач прекрасно говорил на святогрустном языке, а когда это было невыгодно, прикидывался непонимающим, косноязычным. – Сачем? Нися, нися!
Давай сюда, говорю!
Каво тай?
Топор!
А кте? Нися его… нету-ка, тю-тю.
Ты дурака не валяй, а то я покажу тебе такую «тютю»…
В это мгновенье рука палача сделала непроизвольное движение к подушке, будто желая что-то прикрыть. «Тигровый глаз» охранника метался по лицу, как тигр по клетке. Чёрные корни усов побелели от гнева… Он успел заметить скрытое движение руки палача.
А-а! – догадался. – Под подушкой прячешь?
Нисё, нисё моя твоя ни прясит.
За спиною охранника топтался Звездочёт Звездомирович с каким-то красным цветком в руках (это была отрубленная голова петуха). Цветок сочился красною росой и смутно попахивал кровушкой – это сразу палач уловил, принюхиваясь.
Начальник стремительно приблизился к постели больного – дернул подушку.
Три пигмея сбоку хохотнули крохотными ротиками. Вместо хохота – мышиный писк.
– Где твой топор, говорю? – переспросил охранник, брезгливо покосившись на «мышей».
Топтар Обездаглаевич взял трубку с подоконника, в зубы сунул: раздался перехруст янтарного мундштука. Пигмей, стоящий рядом, огниво поднес к миниатюрному человеческому черепу… Вонючий дым пластами пополз над кроватью.
С непривычки ноздри наизнанку выворачивало от этой дурохамской пакости. Звездочёт закашлялся, роняя слезы. Стал вытирать лицо – измазался петушиной кровью: как будто боевой раскраской занимался.
Три пигмея прижухли, глядя на пострашневшее лицо Звездочёта. Начальник заметил это, повернулся…
О Господи, ты ещё здесь… Как привидение!
А я-то што?
Иди умойся!
Я умывался утром.
– Да ты на рожу свою посмотри! – начальник неожиданно развеселился. – Вон, глади, ребятишки со страху по углам разбежались!
Соколинский обиделся, пробормотал:
– Ты на свою полюбуйся.
Палач приподнялся. Квадратный пальцем почесал волосатую грудь. Глаза его хищно вцепились в ручку пистоли, торчащую за поясом начальника охраны. Палач задумал что-то недоброе. Только был не уверен ещё: надо или нет осуществлять задуманное.
Где топор? – теперь уже ласково допытывался Охран Охранович, поправляя пистоль.
Твоя моя не понимаит.
Ах, «не понимаит»? – передразнил охранник. – А если я возьму тебя за ногу, из постельки вытащу, Топтар Обездагланвич, да и это… Ибн об углы? Тогда поймешь?
Палач сердито засопел, растрясая на паркет рубиновые искры из трубки. В глаза не смотрел. Крылья носа дрожали, выдавая крайнюю степень злости.
Зачем тапор? Тайгаа рубить? Моя пошаловаться будит падишаху.
Да подь ты к шаху!.. Мне надо осмотреть твое орудие.
Смотришь? – Палач не поверил. – Смотришь? И хватит?
Конечно.
Забрать не будишь?
Да зачем? Суп варить из топора не собираюсь.
Тайгаа рубить не будишь?
Да нет же, слово даю.
Поклянись аллахом!
А землю жрать не надо?!
Поклянись твоя мама…
Ах ты, сучок! – «тигровый глаз» под бровью раскалился. Дуло пистоли с неимоверной быстротой воткнулось в переносье палача. Капельки пота поползли из дурохамской кожи, маслянисто обволакивая ствол. Топтар Обездаглаевич затылком вжимался в подушку все глубже и глубже.
Шлюхай, какой разговор, понимаш… Пасматрет не шалко… Мы за посматрет таньгу не берем.
Начальник усмехнулся. Вытер дуло о рукав палача.
– Мы тоже недорого просим, когда отправляем на ту сторону света.
Подавая команду, палач прищелкнул квадратными пальцами. Два пигмея каблучками затрещали, убегая куда-то. На полу пиявки распластались: попробовали крови палача и передохли.
Пигмей наступил на пиявку и поскользнулся Охран Охранович поймал его, поставил на ноги.
– А легенький-то! – удивился. – Чем они вас кормят? Воздухом, что ли?
Глазенки-бусинки захлопали в недоумении. Пигмей пожал плечишком, поглядел на раздавленную пиявку прилипшую к каблуку.»
– Заморыш, одно слово! – подытожил охранник. – Давайте живее топор!
Оруженосцы под кровать нырнули. Бережно подали инструмент.
Футляр был обтянут розоватой кожей (не человеческой ли?). По бокам секретные застежки… Палач покопался в своей потной и вонючей пазухе, заветный ключ достал в виде человеческих перекрещенных косточек. Сухо щелкнули замки под квадратными пальцами… Глаза палача неузнаваемо преобразились как будто открывался не футляр – любимая книга в дорогом переплете.
Хороший был топор. Завидный. Произведение искусства, а не топор. Постарались паразиты заморские тут ничего не скажешь. Под такой топор и голову не жалко положить… «Собаки!» – думал Охра, залюбовавшись на фигуристое топорище – белой слоновой кости – отдыхало в черном бархатистом углублении. На конце и в середине топорище было захватано, залакировано крепкими руками палача. Серебряный оскал заточенного лезвия рубанул по глазам искрометным отражением солнца, когда палач повернул футляр – поближе к солнцу Половина топора пылала серебром, а половина утопала в червонном золоте – в свежей крови.
Топтар Обездаглаевич не сразу это понял.
Нижняя челюсть отъехала в сторону – упавшая трубка скользнула на колени.
– Так не можна! – изумился он. – Што такой?
Соколинский показал ему отрубленную голову петуха Будимира.
А это што? Так можно?
Палач брезгливо поморщился.
Моя твоя не трогал!
Охран Охранович, все ещё находясь под волшебным воздействием топора – страшного произведения искусства! – молча махнул рукой, чтоб не зудели возле уха, не мешали.
Взял топор. Ногтем лезвие попробовал – зазвенело струною. И как-то невозможно было себе представить, чтобы вот этой инкрустированной штукой… народам головы рубить, четвертовать-шинковать…
Начальник помрачнел. «За морем натешился, гад. Сюда приехал руки почесать».
Отодвигая усы, чтоб не испачкать, он понюхал кровь на топоре. С каждой секундой кровь подсыхала, темнея и превращаясь в подобие сургучной печати.
– Вставай, болезный, – угрюмо приказал охранник, потрясая топором, точно собираясь голову рубить.
Ослепленный солнечным зайчиком, слетевшим с топора, палач испуганно закрыл лицо руками, залепетал:
Вы не имеишь права! Не имеишь!
Так-то да… А так-то нет, – сказал Звездочёт Звездомирович. – Сумел напакостить, умей и отвечать.
Упавшая трубка наделала переполоху (палач позабыл про неё). Табак из трубки прожег штаны – дорогой подарок падишаха. Угольки достали до живого и так ужалили, будто в промежность влетел разъяренный пчелиный рой.
Топтар Обездаглаевич подскочил на кровати. Заметался по лазарету, едва не наскакивая на топор.
Ты что, взбесился?
Вай, вай! Горым! Горым! – Палач сел на паркет, стал шаровары стягивать; они уже густо и едко дымили.
Глядя на волосатые уродливые ноги палача, Охран Охранович рассвирепел.
Одевайся! Трясешь тут мудя… желудями своими!
Горым! Вах-вах… Горым!
Дурохамец чертов! Хватит дурака валять!
Звездочёт хохотнул, потрясая отрубленной головой петуха.
– Да у него и правда в штанах пожар!.. Что? Клюется красный петушок? Будешь знать, как головы петухам рубить!
Наступая на атласное одеяло, подбитое соболем, Охра подхватил стоящий на окне серебряный кувшин с пузатыми боками, с крышкой наверху. Метнулся – опрокинул. Вода зашипела между ног палача. Мокрый дым повалил и завоняло паленой шерстью… Ручейки из-под задницы зажурчали, утекая под кровать… Страдальчески морщась, в кулак зажимая мужское достоинство, палач не мог сдержать слезину – потянулась по щеке. (А может быть, вода из кувшина).
Помолчали. Охра усы поправил.
– Ребятишки-то есть? – вдруг посочувствовал.
Топтар Обездаглаевич захлюпал горбатым носом и как-то очень трогательно шаркнул рукавом, снимая возгри.
– Тетишки? Есь, – подавленно сказал. – Есь тетишки просют.
И снова молчание.
Шёл бы землю пахал, дармоед!
Как пахал? Зачем пахал?
Топор вот этот взял ты и переделал в плуг. Хлебушек сеял бы, если детишки просят кушать.
Тетишки, тетишки… Цаца тетишки!
Вот тебе и «тетишки»… Етишки! Вставай! Я человек суровый, но справедливый! Пойдем!
Палач затрепетал, стоя на коленях в луже, разлитой из кувшина. Ополоумевшие глаза его глядели на отрубленную голову петуха Будимира. Квадратные пальцы тряслись на груди: палач пытался, но не мог сложить ладони в молитвенной позе.
Клянусь Аллах, – шептал он. – Я никому секир-башка, я никому! Клянусь Аллах! Аллах акбар!
Допустим, так. Допустим, верю, – негромко, но жёстко сказал Охран Охранович. – Стало быть, топорик у тебя с ногами? Сам ходит, головы секёт? Сегодня ты угробил царь-петуха. А завтра? До самого царя доберешься?
Палач заплакал и пополз по мокрому паркету… К сапогам начальника подполз… Дохлые пиявки прилипали к дрожащим прямоугольным пальцам палача.
Противно стало. Жалко. До слез прямо жалко, ей-богу; сентиментальны святогрустные сердца – давно замечено.
Охранник отвернулся. Пошевелил усами.
И вдруг палач рванул его за сапоги. И опрокинул – мордой об паркет…
Глава двадцать вторая. Продавец прошлогоднего снега
1
В далёких предгорьях, в туманных лазорьях стоит деревенька одна. Райский Уголочек называется. По-над бором хатёнки рассыпаны, точно крепкие чистые грузди. И люди здесь чисты душой и телом. Гостеприимные, добрые. В красном углу в любой хатенке всегда найдешь иконы, сверкающие от бережного ухода, натертые маслом льняным. А когда хозяин позовет к столу – кушанья ничуть не хуже того, что подается в боярских хоромах, княжеских дворцах и даже при царском дворе.
Райский Уголок живет вековечным трудом; хлебов и разносолов хватает не только себе – на городские базары, на ярмарки.
Неподалеку проходит граница – незримой чертой отделяет Райский Уголок от Дурохамского Дуролевства. И тут же – на границе – другая деревенька. Дурохамовкой зовется. А ещё – Грязе-Князихой.
То ли Господь её обидел за грехи какие, то ли черт на неё начихал, выходя из топкого болота, на краю которого приютилась деревенька. Не поймешь. И воздух другой тут. И люди… В общем, дурохамцы.
Дурохамовка стоит в долине, в котловине, поэтому все улицы и дворы зимою так завьюжены, так засугроблены – дурохамец выползает иногда через трубу и выглядит, конечно, страшнее нечистой силы. С метелкой выползает или с лопатой. А иногда выходит через окно, чтобы дверь от снега освободить.
Дурохамцы любят похвалиться:
– Ох, богатый снег у нас! И необыкновенный, вот что интересно!
Святогрустный человек из соседней деревеньки только улыбается.
Это что же в нем такого необыкновенного? Снег да и снег. У нас тоже такой. Из одного поднебесья.
Э, нет, шалишь! У нас… Ты приезжай, сам попробуешь. По левую руку – солёный снег. По правую – сладкий.
Поначалу не верили, а потом убедились: дурохамец иногда жизнь свою куражит таким манером; с чашкою чая идёт на крыльцо, подставляет чашку под снегопад и стоит себе, в усы не дует – ложечкой помешивает снежный сахарок.
Первоснежье – это страда у дурохамцев. Сахар, соль заготавливают на весь год. Кули, рогожи набивают, в погребки таскают, в амбары прячут. Вот почему у них среди зимы трудно выпросить горсточку снега. Дурохамцам порою самим не хватает на соленья, варенья.
– Ну, ежли только взаймы? – размышляет дурохамец. – Да ежли ненадолго, то можно. Маленечко. Даю тебе горсточку, а вернешь полведра. Гляди, не обмани.
По весне, когда кругом сугробы дымятся и угорают на солнцепеках, ручьями разлетаются по буеракам и горам, деревня Дурохамовка вспоминает свое второе имя. Теперь она – Грязе-Князиха.
Здесь и там зарождается, пухнет и ползет, как на дрожжах, большая – великая! – грязь, такая вязкая, что лучше босиком толочь её. А если ты рискнул идти обутым – на пороге не забудь сказать «прощай!» своим лаптям, своим галошам или сапогам: потеряешь где-нибудь, непременно потеряешь, не ты, брат, первый, не ты последний.
Святогрустный человек зарекся ездить дурохамскими дорогами. Особенно весною. Или ограбят где-нибудь, или в передрягу попадешь – по самые ступицы.
– Чтоб ей провалиться, грязюке этой! – ругается проезжий. – Чуть лошаденку не утопил! Ну дурохамцы чертовы! Ну неужели трудно порядок навести? Ты золою, песочком посыпь, любо-дорого будет. Щебенки опять же под боком у вас – горы цельные.
И обязательно из грязи выползет какой-нибудь пьяный дурохамец. Нос горит, краснющий – хоть прикуривай. Отряхнет от грязи ароматный рот и пошёл философствовать:
Оно, конечно, можно порядок навести. Одною левой можно. Хоть сейчас…
Дак што ж вы не наводите?
А ты бывал на ярманке?
Бывал.
– Значит, знаешь: дурохамские свиньи – самые лучшие в мире! Это любой скупец подтвердит.
Это так, не спорю. Щетинка у них очень ценится. И заморыши, и захребетники хвалят вашу свинью.
Во-о-т! А почему? Сказать секрет? Только я не бесплатно. За рюмочку. Договорились?.. А теперь запоминай: чем хуже содержатся свиньи, тем лучше будет у них щетина.
Правильно, я знаю этот секрет.
Зато второй секрет не знаешь, почему наши грязи нельзя осушать. За тобою рюмочка, договорились?.. Наши грязи – княжеские, целебные.
Ну, это уж ты извини! Насчет свиней все правильно, а вот насчет князей… Да какая же она целебная? И чего же это в ней такого княжеского?
Даже мудрецы ещё не знают – что в ней такого. Но вот ежли, к примеру, с полчасика ты полежишь в тележной колее, в канаве, да и просто под любым забором – всю хворобу из тебя высосут грязи лечебные.
Да неужели? – святогрустный человек потрогал поясницу и поморщился. – Вот хорошо бы… Спина болит.
В дороге застудил. С прошлого года ноет.
Дак в чем же дело? Пошли в кабак! Выпьем, полежишь в грязи, а утром встанешь, как огурчик.
Ага, зелёный и в прыщах… Нет, лучше как-нибудь в другое время. А нынче некогда. Вот разве что набрать в туесок, чтобы дома попробовать.
Бесполезно. Пробовали уже. Прокисает. Все дело в том, что надо на свежем воздухе. Лежишь, дуреешь – звездочки, луна. Вот когда лечение на пользу.
Жалко. Ну что же? Придётся не леченому ехать. Ты только подтолкни мою телегу, а то уж больно засосала эта целебная… Но! Пошла, залётушка! Залезла по самые титьки в эту княжескую грязь, теперь княгиней будет. Видишь, телегу не хочет тащить? Княгиня стала.
2
Целебные свойства здешних княжеских грязей отлично известны каждому забулдыге, на четырех копытах шагающему по кривой дорожке из дурохамского кабака с побитыми и разодранными слюдяными окошками, в которые заглядывает полночная звезда Алголь – звезда дьявола, страшными лучами опаляющая сердце, душу, мозги человека. Звезда Алголь делает нас безвольными, бессовестными алголиками.
Эта грязь не только хворобу из тела высасывает, но и деньги из карманов – все до копеечки. Старатели, охотники за драгоценным камнем убедились в этом на собственных карманах и кошёльках. Куда ни спрячешь кошёлек, мешочек с золотом – все тяжести вытягивает легендарная грязь. Поднимаешься легкий, веселый такой. Только башка тяжёлая. С похмелья.
Однажды ленивый дурохамский мужичок открыл у этой грязи ещё одно свойство, чем несказанно изумил округу.
Зима закончилась и нужно было сани переоборудовать: снять полозья, поставить колесья.
– Надоело возиться! – сказал дурохамец. – Поеду в санях по грязи. Дорога склизкая. Что ещё надо?
Гикнул, свистнул и помчался мимо кабака – с ног до головы заляпал несчастных алголиков, разинувших рот.
Ох ты, черт! Кто это?
Надоедало… Хрюхрюфрий. Продавец прошлогоднего снега.
Онуфрий? А куда это он?
Опять за границу.
В Святую Грусть?
Ага, чего-то загрустил он в последнее время.
Бабенку там приметил, говорят. Она купила у него прошлогодний снег.
Я вчерась предложил ему выпить на дармовщинку, так он отказался. Ты понял? Как заболел наш Хрюхрюфрий.
Хорошую повозку он придумал – по грязи как по снегу. Надо и мне попробовать на санях рвануть!
3
Долго жил и много пил в Грязе-Князихе дурохамский мужичок по фамилии Надоедало. Вечно в кабаке надоедал, канючил гнусавым голосом:
Ну, дайте выпить! Што вы, как неродные? Дайте выпить! Денег нету, а душа горит, аж дым идёт из заду! Выпить бы! А, ребятишки? Я прошлогодний снег продам, долги верну!
На! – говорил кто-нибудь. – Выпей, да только заткнись. Надоел.
Благодарствую! – он сильно прогибался в позвоночнике. – А закусить, ребятишки? Друг познается в еде.
Еде ты отсюда!
Так он жил, не тужил, пропиваясь до нитки. И многие пророчили ему погибель под забором придорожного кабака – в целебной княжеской грязи. Так бы оно и случилось, но только однажды в этой грязи отпечатался маленький след, как будто ангелочек с неба слетел и прошёл возле крыльца кабака.
Это была святогрустная девица. Отец её в город возил, а поехал обратно – весенняя распутица дорогу перерезала, вот и пришлось человеку продираться через Дурохамовку. Они остановились на минуту перед кабаком, кваску хотели выпить – развеселили пьяных дурохамцев, которые даже не знают, что это за питье такое и для кого оно предназначается.
Остался в грязи мягкий след «ангелочка». Надоедала мордой сунулся в него – обнюхал, облизал и до краев наполнил пьяными слезами, рыдая над своей собачьей судьбиной. А потом поднялся на четвереньки и пошёл, пошёл через границу.
Отвалялся он тогда в чистом святогрустном поле за скирдами, отмылся в чистых водах и обосновался в Райском Уголке. Долго не мог жениться: родители того «ангелочка» были против дурохамца, но любовь, она родителей не спрашивает; любовь без стука в любое сердце властно входит, и ничто ей не помеха, и никто ей не указ.
Простой шалашик был у них сначала, потом появилась кривая избенка, потом – добротный дом на краю деревеньки возле покосных полян и боровых луговин, где трава по июльскому ветру стелется зеленою поземкой, а в тишине стоит зелеными пахучими сугробами, шатрами. Травы здесь море – пастбища раздольные.
…Мальчик в ту далёкую пору был босоногим, беспечным подпаском и хорошо запомнил здешние луга. Зайдешь в траву, бывало, – потеряешься, как в темном лесе, хоть «ау!» кричи.
Подрос мальчонка, возмужал Бориска Надоедало. Пастухом заделался. А вскоре омужичился, дядей Борей стал для ребятишек и постепенно превратился в дядю Борова.
Покойный родитель оставил, наверное, худое наследство в крови. Борис Онуфриевич причастился к водочке и вскоре превратился в Борова Хрюхрюфыча. Отыскал дорогу через границу – к дурохамцам. Без ума, без памяти полюбил он княжеские грязи перед «склизким» крыльцом кабака, полюбил собратъев-дурохамцев, делавших набеги на страну Святая Грусть… Дурохамские пашни потонули в бурьянах-дурьянах, а рядом – святогрустные луга и поля дразнят стадами пасущихся коров, табунами сытых лошадей. Привольное было житье, только с годами стало что-то происходить в душе дурохамца. Страна Святая Грусть, где родился он и вырос, отравила его сладкой грустью, навек отравила. Ни отец, ни дед, ни прадед не умели грустить, даже не знали, что «оно» такое. А этот…
Боров Хрюхрюфыч, ты не приболел?
Здоров. Отстань.
Дурохамцы недоумевали, шептались по кустам:
Третий день лежит на бугорке. Не пьет, не жрёт.
Святая грусть одолевает!
Страшное дело, ребята. С неё, с энтой грусти, и стреляются, и в петлю голову суют. Как бы это его напоить? Развеселился бы, можа?
Он выпивал, но легче не становилось; по-прежнему предавался глупой меланхолии; не жилось ему что-то спокойно; душа бунтовала, горела, но не с похмелья – вот загадка.
Напиваясь до положения риз, он плакал и хрюкал, что ему надоело носом грязь пахать, что пора из грязи выгребаться в князи, что уйдет он искать счастье-долю – никому неведомый «ключ от горизонта», о котором он однажды слышал в дыму, в чаду кабацкого застолья.
Никто не верил, что уйдет: в последнее время редко видели его на ногах. А он однажды – всем врагам назло! – протрезвел до чертиков, отчаянно пылающих в глазах.
Ушёл. Сначала в Райский Уголок ушёл, мать-старушку навестил и дальше засобирался.
Далеко, сыночек? – спросила старушка.
Ключ от горизонта пойду искать!
Ох, пропадешь… Не один уже сгинул с этим ключом.
Ну и пускай пропаду! Надоело!
Какие-то вы все Надоедалы… непутевые какие-то, – вздохнула мать, перекрестив сынка. – Ну, с Богом!
Помни царево слово: «Когда тебе не хочется делать что-то хорошее, доброе людям – подумай о том, что Христос не гнушался даже ноги мыть своим ученикам!»
Пропуская напутствие мимо ушей, он взял котомку, вышел со двора, засыпанного золотой соломой и петушиными перьями, гуляющими на ветерке. Петухи у них были с горячим характером – дрались до крови, до смерти. Мать иногда на драчуна, как на боевого сокола, надевала кожаный клобук, чтобы отчаюга не воевал, не тратил порох попусту, а исполнял бы свои обязанности, после которых курица на гнезде в сараюшке вдохновенно кококает – рожает «кококушко».
Петухи его недолюбливали. Будто чуяли что-то недоброе за душой Борова Хрюхрюфыча (и он всегда боялся крику петушиного, как нечистая сила боится).
Когда он вышел за ворота, петух неожиданно освободился от клобука – и побежал вдогонку, вытягивая шею с крепким костяным наконечником.
Тропинка вела к оврагу… Надоедало резко повернулся… И открученная петушья голова осталась валяться в кустах, а упитанная тушка спрятана была в котомку и некоторое время нежно согревала спину.
Безголовый петух оказался живучим. Бился в котомке, толкался, будто подгонял ходока. Это было странно и немного страшновато.
Над горами догорала звезда Алголь. Утро занималось чистое, веселое. На дальнем крутояре уже сидело солнце, лучи растопырили желтые длинные пальцы – облака от перевала отгоняли. Из дупла, из гнезда, из-под теплой застрехи весело вытряхивались птицы – тишину в лугах и на полях засевали звонкими семенами.
Надоедало шёл по старой памяти – дорога поманила мимо Грязе-Князихи. Кругом поспевала, вспухая и побулькивая, весенняя целебная грязь. И охота было – спасу нет! – поваляться, полечиться телом и душой, предварительно опрокинув стаканчик-другой в кабаке, над которым светится гниловатым светом звезда Алголь – согревает алголиков, лежащих перед крыльцом, под окошками и по канавам… Эх, выпить бы! Поваляться, пьяными глазами погулять по небесам, по островам, где черемуха белыми стаями прилетела уже – далеко заметны эти белокрылые создания в голубоватой нежной мгле весенних утренников и вечеров.
По грязной дороге проехал дурохамец на санях – черной поземкой свистела в полозьях и на обочины летела княжеская грязь.
Дядя Боров? Ты до кабака? Садись…
Спасибо, нынче нам не по пути.
Брось, я угощаю! Поедем, покушаем водочки. Ты же сам говорил, друг познается в еде. Съедим по полведёрочка! Садись! Твой батька научил меня, как нужно торговать! Царство ему небесное!
Угощаешь? По какому случаю?
Прошлогодний снег продал по выгодной цене! – дурохамец был доволен, аж повизгивал, потирая ладони. – Одному чудаку святогрустному, понял? Целую телегу загнал ему. Не веришь? Во, гляди… Полная пазуха денег!.. Разговорились мы с ним на границе. Ля-ля, тополя. И загрустил он чего-то по прошлогоднему снегу. Вот, мол, как хорошо было прошлой зимой! Любовь, и эти… как их? Пацалуи на морозе… Аж губа прирастала к губе! – дурохамец хохотнул. – Ну, в общем лабуда сплошная. А у меня в погребах до хрена прошлогоднего снегу осталось. Выкинуть уже хотел, но пожалел чего-то… Прямо как чуял! Ну, поторговались. Я ему отвез, чин-чинарем… Так што садись, Боров Хрюхрюфыч, гульнем сейчас маленько. От души нахрюкаемся! В грязи поваляемся. А то чего-то поясницу ломит. Давненько уже не лечился. Денька три, четыре.
Между прочим, меня зовут Борис Онуфриевич.
Кого? Тебя? Вот это новость! Ха-ха… А я думал, ты всю жисть Боров Хрюхрю… Ну, извини… Дак што, поедем, скушаем по полведра?
Нет, земляк. Надоело. Пойду.
Дурохамец развел руками, сквасился в недоумении.
– Ну, ежели тебе и водка надоела, тогда уж я не знаю, Боров Хрюхрю… Борис Ону… А, ну тебя! – разочарованно сказал продавец прошлогоднего снега.
И в это время за спиною Борова в котомке петух зашевелился в предсмертной судороге – подтолкнул в дорогу.
Продавец прошлогоднего снега насторожился. Кровь заметил на пальцах Борова. Три темных капли подсыхали на штанине… Дурохамец попятился, отмечая странную нервную живинку в глазах и в голосе Надоедалы; никогда он так не смотрел, не разговаривал – с напором, с вызовом.
«Эге! – подумал продавец. – Да он, видать, кого-то прихлопнул только што. Скрывается».
А што это в котомке у тебя… трясется?
– Мальчонка, – сказал Надоедало и хотел пояснить: петуха, мол, так звали.
Продавец прошлогоднего снега сам сделался похожим на прошлогодний серый снег. Дурохамским голосом закричав на лошадь, взмахнул кнутом… Бедняга рванула копыта из грязи – подкову оставила в густой глубине.
– Убили! Убили! – заблажил дурохамец. – Мальчонку убили!..
Полозья поехали, как по маслу, стремительно повизгивая на поворотах и развешивая на кустах чёрные гроздья княжеской грязи, чуть золотящейся в лучах весеннего солнышка, встающего оттуда, где страна Святая Грусть звенела заутренним стозвоном своих колоколов – звала грустить о чистом и высоком, звала приблизиться к великой святости.
4
В дальних этих святогрустных перезвонах иногда слышится вкрадчивый голос судьбы, нужно только довериться этому голосу, пойти на тихий зов – за поле, за горы, за реки пойти. Там, за тонкою незримою границей – вдруг начинается прекрасная эта страна. Святогрустная чудная сила, сказочная сила бродит в той стране. Живой магнит живет в её земле, живой магнит присутствует в родниковом звенящем воздухе. Вечно манит святогрустная дорога, что-то обещая, колдуя своими просторами, чаруя красками, чтобы в конце пути, увы, разочаровать – пускай не всех, но многих. Ну что ж теперь! Конечно, грустно, что так бывает, только все равно, когда бы снова тебе под ноги постелили вчерашний путь, – ты, пожалуй, снова согласился бы идти и мучиться, надеяться и верить. Свято грустное сердце твое жить по-другому не может, не хочет. Да и надо ли жить по-другому, что-то выгадывая, что-то выкраивая из того коротенького лоскутка, который называется «жизнь» или «судьба»? Не надо. Живущие свято и грустно счастливее тех, кто живет в греховодном веселье. Страна Святая Грусть открыта сердцу мудрому, несуетливому. Кто уже побывал в ней, тот понимает, о чем разговор, а кто не был – с годами поймет, потому что все мы – хоть на час, хоть на день – обязательно приходим в заповедную эту страну. Приходим, чтобы вспомнить самих себя, когда мы были чище, возвышенней, моложе, прекрасней и человечней.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





![Книга Святая, чужая, суженая [Пленница тамплиера] автора Полина Копылова](/books_files/covers/thumbs_100/svyataya-chuzhaya-suzhenaya-plennica-tampliera-28027.jpg)


































