Текст книги "Святая Грусть"
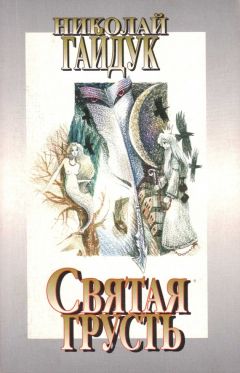
Автор книги: Николай Гайдук
Жанр: Русское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
На, доешь кусочек! – хохотнул мальчишка.
Кого? Ах ты…
Ну, доешь, пожалуйста. Наша свиньюшка сыта, и поросёночек не хочет!
7
Сытые люди, как правило, редко бывают злыми.
Бедняжка Доедала поначалу стыдился и злился, вспоминая свое «сватовство», а позднее сердце жиром задавило и пропало ощущение позора, какой был испытан тогда-то в деревне – хоть выбегай на берег и топись.
Простил он обиду. И седому Самозванцу, и молоденькой Самозваночке (вскоре она вышла замуж). Весь огонь души и сердца у него ушёл в работу. Страстью горели глаза и лихорадочно трясся, когда начиналось долгожданное дело в царской столовой, опустевшей от едоков.
Правда, была ещё одна веская причина – позабыть Самозваночку.
Бедняжка Доедала положил свой жирный глаз на придворную пригожую барышню, такую аппетитную, такую ароматную, что съел бы – дай волю! – вместе с башмачками съел бы, вместе с кринолинами и хренолинами.
Но самая главная правда – она всегда скрывалась очень глубоко.
Самозванец, томящийся в подземелье Столетних Стонов, скоро должен – мечтает, во всяком случае, планирует – захватить Корону Святогрустного Царя. Вот почему Бедняжка Доедала «простил» обиду Самозванцам-родственничкам.
Серьгагуля Чернолис время от времени проникал к нему потаенными ходами.
Ну? Скоро Самозванец-то придёт? – пытал Бедняжка Доедала.
Скоро. Не дёргайся, а то весь жирок растрясёшь…
– Я не дёргаюсь. Надоело за шторками прятаться.
– А зачем ты прячешься? У тебя настоящая грамота, с царской печатью. Самому царю, конечно, на глаза попадаться нежелательно, а перед другими будь спокоен, хвост пистолетом держи.
Пистолетом!.. В том-то и дело! «Тигровый глаз» меня вчера прижал пистолетом в углу…
Что за «Тигровый глаз»?
Охранник. Охра. Пистолет приставил к животу и спрашивает, где я был вчерашней полночью да почему башмаки у меня пахнут дёгтем. Уж скорей бы Самозванец приходил!
Серьгагуля подмигнул разбойным глазом:
Придёт… Благовещенье скоро.
А причем Благовещенье?
Фартовый парень пальцами постучал по чернолисьей шапке:
– У меня тут взопрела кой-какая мыслишка! Застудить боюсь, так что помалкиваю.
Глава двадцать шестая. Скоро Благовещенье
1
В небесах открылось пока ещё несмелое, но всё-таки весеннее дыхание. Робкими шагами Невидимка-Весна уже прогуливалась по широким святогрустным рекам – ледок под ногами задорно пощёлкивал; стеклянными осколками эхо улетало в прибрежный березняк, «подстреливая» то стайку свиристелей, то снегирей, то ворону. Солнечными полднями Невидимка-Весна, будто шаловливая девчонка, жарким языком облизывала сладкие сугробы. Слепящие поляны пахли ароматом оттаявших деревьев. Смола, закаменевшая с глубокой осени, становилась теперь «на колёсики» – там и тут медлительно прокручивались янтарные капельки… Земледельцы в полях наблюдали восходы, закаты, сопоставляя их со своими древними приметами. Красные какие-то круги находили вокруг солнца и радовались – это значит, к хорошим урожаям.
Смелеет весна. Веселеет округа. С переливами, как будто с переплясами, горят, горят снега в борах и долах святогрустной милой стороны… Всё глубже, всё пронзительней синеет купол неба над Кремлём-Дремлём, задремавшим на весеннем солнцепеке, взопревшим под белыми боярскими одеждами, под снежными папахами. На колокольнях в полдень отпотевает золото и по городу начинают вызванивать золотые капели: подставляй ладони, шапку – вмиг озолотишься, разбогатеешь.
Устя Оглашенный окрестных ребятишек с ума сводил такими фокусами.
Смотри, сорванцы! Пусто в шапке?
Пусто!
А теперь мы эту шапку подставляем под золотую капель… Раз, два, три… Тридцать три… Ну, хватит, жадничать не будем.
Юродивый шапку держал высоко над головами свягогрустных ребятишек. Потом осторожненько опускал эту шапку – под ноги, на рыхлый весенний снег. В шапке была золотая капель. Тридцать три аккуратненьких капельки. Горячие, только что «испечённые».
Берите, – говорит юродивый, – покупайте сладости.
А как ты это делаешь? Устя, расскажи!
Да у него, однако, в шапке золото…
В шапке? Ну, возьми её себе, – спокойно разрешил юродивый. – Золото не в шапке, а вот здесь, где шапку носят. В голове, дорогой мой, золотишко должно быть. А если дурная башка, так ты на неё хоть царскую корону нодрузи, хоть казачье седло…
Ребятишки засмеялись.
– Вот так-то, забодай тебя комар! – закончил Устя свое весеннее нравоучение, лукаво улыбаясь в чистые распахнутые детские глазенки. Хорошо ему с детьми. Везде и при любой погоде хорошо. Дети всегда ему напоминают, как великолепно, высоко и чисто был задуман человек в мечтах Всевышнего. Задумка получилась, да не совсем. По этому поводу Устя Оглашенный много думал и немало горевал. Но это разговор отдельный, невеселый.
А теперь весна, душа оттаяла, подснежники в душе цветут. Что горевать-то, милые? Улыбаться надо. Перезимовали – и прекрасно.
Ходил он постоянно босиком и в какой-то дерюжке, прошитой ветрами. Так что перезимовать и по снегам добраться до весеннего красного денька – это большое дело для Усти Оглашенного. Праздник это, милые. Подарок Божий.
За пазухой у чудака всю зиму ютилась больная или подбитая птица. Устя Оглашенный сам крошечку склюет – и скормит крошку болезной пташке. Всё по-братски, по-честному. Птица привыкла и подлечилась, согретая изумительным сердечным теплом человека. Надо было улетать, а не хотелось.
– Ничего. – Юродивый поглаживал птаху по головке. – Благовещенье придёт – захочешь, когда увидишь своих братьев и сестёр, отпущенных на волю!
2
Кончался март, исполосованный голубыми тенями. И кончилась душная неволя Божьих птах, перезимовавших по тесным клеткам.
Двадцать пятого марта, на Благовещенье, следуя стародавним традициям святогрустных земель, слуги собирали со всего Дворца клетки с певчими птицами, грузил в кареты и Царский поезд величаво трогался к Лазурному Заречью – здесь выпускали птиц на волю. И здесь ж закипало буйное народное веселье – с песнями, свирелями и гуслями, с вином и плясками… И с драками, чего греха таить! Душа, она ведь тоже птица, перезимовала тесной трудной клетке, теперь на волю просится, бьёт крылом да кулаком, молодецким духом потешается да похваляется… Заморыши и захребетники, в это время оказавшиеся в нашей святогрустной стороне, смотрят на кровавую народную потеху и становится им не до смеху. «Вот это люди, – думают они со страхом. – Вот это воины! Если они друг дружку – свата, брата и мать его – всех своих подряд метелят, да так добросовестно, так смачно метелят, аж сопли красные снегирями летят… Если так они сами себя лупцуют, то что же они сделают с врагом? О, этот народ нам не завоевать! Никогда, ни при какой погоде. А ещё говорят, что они очень добрые. Такому добряку-здоровяку под кулак подвернешься – башка сорвётся с плеч!.. Нет, нет, бесполезно силою с таким народом мериться. Силой не возьмешь его. Надо брать умом, точнее – хитростью».
Так думали заморыши, так мороковали захребетники, случайно оказавшиеся на широком святогрустном празднике и случайно получивши по мордасам.
– Извиняйте, гости дорогие, – раскаивался краснощёкий мужик, тяжело дыша и прижимая раскрытую ладошку к сердцу. – Хотел братану въехать в нос, да промахнулся. Вы уж не серчайте, дорогой скупец.
– Не, не, мы не серсяем, – пролопотал заморыш, выплёвывая кровь с белыми крошками раздробленного зуба. – Мы не серсяем. Мы с-сясливы.
– Счастливы? Ну, вот и хорошо. Давайте выпьем мировую!
Моя не пьет, ни-ни…
– Да мы по стопарику, чтобы ты, скупец, обиду на сердце не держал!
– Не дерзу, не дерзу.
– Нет, ты держи! Ха-ха… Стопарь держи, чтоб не держать обиду!.. Не понял, да? Мудрено, мать ядрена? Давай! За знакомство! Как звать-то?
– Захря.
– Захар, что ль?
– Захря Захребетник.
Краснощёкий здоровяк запрокинул голову. На волосатой шее крупный кадык задёргался, проталкивая водку и организм. Здоровяк пил долго, с удовольствием – это был «Кубок большого горла́».
Выпрямляя запрокинутую голову, он повел по сторонам хмельными изумленными глазами.
– О! А где эта Захаря?
– Сбежал! – подсказали ему мужики, стоящие рядом.
Вот харя захребётная. Я с ним, как с человеком, а он бежать…
Дак ты ж ему чуть санки не свернул!
А я нарочно?
А ему от энтого не легче. Заквасил человеку всю захарю, да ещё и водки заставляешь выпить полведра. Он бы сдох тут.
Слабаки! Заморыши…
Нет, он захребетник.
Один хрен!
Да хрен-то, конечно, один – размеры только разные…
Кругом раскатисто расхохотались.
Веселье продолжалось.
Людской водоворот кружился и шумел. В теплое тесто превратился под ногами снег – сырыми кренделями налипал на обутки, на копыта проезжающих лошадей. Многочисленные птицы, получившие вольную волю, не знали, что с ней делать: бестолково порхали над головами людей, посвистывая громко и радостно; разноцветными гроздьями птицы повисали на деревьях Лазурного Заречья, напоминая странные заморские плоды… И очень много в этот день среди вольноотпущенных птиц можно было видеть сказочных Сиринов и Алконостов с Божественными цветками в руках. Это были птицы Усти Оглашенного. Это был, наверное, самый главный праздник для него. Всю зиму – длинными холодными вечерами – он кропотливо строгал, разрисовывал своих пернатых, «братиков», святою водою, живою водою кропил, песни пел над ними, читал молитвы и ждал, не мог дождаться Благовещенья.
3
Снег на вершине Пьяного Яра почти не задерживался – ветер выметал, высвистывая вместе с гранитной крошкою, с песком. А в этот год на Пьяный Яр столько снеговья свалилось – выдыхался ветер, пыхтел в сугробах и ничего не мог поделать, только пышные гребни взбивал на вершинах и сволакивал в сторону, растрясая белоснежное перо. Снег стоял до середины марта. Савва Дурнилыч лениво лопатил сугробы – в основном с похмелья за лопату брался, когда все другое валилось у Кабатчика из рук. Агафья-Гафгафья, как всегда в это время, гафгафкала на мужа, «стружку» снимала с него. Агафья ругала его справедливо – было за что. Ругала привычно, беззлобно, как бы только одним языком, не подключая к этому ни сердце, ни душу. А Савва Дурнилыч отвечал ей с тяжёлым сердцем, с кровью, с желчью. И пройдет совсем немного времени, когда он вдруг спохватится. (Когда на лодке увезет Агафью и за два стакана рому продаст её грязным заморышам). Спохватится и заскулит, завоет, как раненый зверь. И очевидным станет счастье прошлого дня. Как прекрасно было просыпаться на вершине Пьяного Яра – под скрипку ветра, под барабанные дроби дождя или града. Просыпаться, пить похмельное винцо, слушать привычную ругань жены, которая была не только справедливой – необходимой. Нас, горемычных мужиков, не способных самостоятельно выплывать из винного погреба, нас не ругать – нас надо молча убивать и желательно это делать в зародыше. Ой, как поздно, поздно Савва Дурнилыч станет Саввой Умнилычем.
Ну а пока он мается похмельем, рычит на Агафью, грозит «причесать» кулаком. Душа его мутится то и дело, в глазах темнеет, лицо бледнеет, и он стремится на свежий воздух. Берет лопату, но снег не трогает. Стоит, опираясь на двухметровый толстый черенок. Стонет и сквозь зубы цедит матерок.
Серьгагуля Чернолис пришёл, торжественно сказал:
Скоро Благовещенье!
Это не ко мне, это к попу, – хмуро ответил Кабатчик, засунув лопату в сугроб.
Понимающе улыбаясь, Чернолис поднялся на крыльцо кабака, постучал обутками, оббивая снег, вошёл – и сразу же под руку подвернулась Агафья, раскрасневшаяся около печи и сама аппетитно пахнущая теми сдобными булками, которые только что выпекала. И Серьгагуля не смог сдержаться – похлопал по «сдобным булкам», находящимся пониже спины. Резко повернувшись, Агафья замахнулась поварешкой и… И тут же засмеялась. В первое мгновенье она подумала, что это муж её за задницу хватает – ему бы она точно поварешкой врезала по лбу. А когда разобралась, что это чужой человек перед ней – чужого как-то неловко бить, ещё не так поймет, обидится.
Нахально улыбаясь, Серьгагуля снова мимоходом облапил Кабатчицу.
Значится, так. На чём остановились мы?
На том, что ты сейчас же лапы свои поганые уберёшь…
Спрятав руки за спину, Чернолис прошёлся по кабаку. Сел за крайний столик возле окна – он любил этот столик, отсюда хорошо просматривалась Фартовая Бухта, а под окошком был обрыв; Серьгагулю этот глубокий обрыв особенно радовал; он любил ходить по краю жизни, так, чтобы камешки сыпались на дно могилы. Такой характер у человека. Он посмотрел на Агафью и понял, что их отношения дошли до края. Дальше надо или прыгать в пропасть, или поворачивать обратно. Но поворачивать – трусить, а он фартовый парень, так что вывод ясен.
Ты не ломайся, – тихо сказал он, глядя прямо ей в глаза.
Что-то я не очень поняла.
Подробности письмом. Я не затем пришёл.
Я тоже думаю, что не за тем…
Спрячь пока зубы, Гафгафья. Советую.
Видала я советчиков таких. Только попробуй лапни ещё разок… Так шугану тебя с Пьяного Яру, что костей потом не соберёшь.
Глаза её были серьезны, печальны. Серьгагуля стиснул зубы и отвернулся, чтобы не подняться, не подойти к ней и не пожалеть. Да, элементарно – пожалеть хотелось бабу, превратившуюся в рабочую лошадь.
Он заставил себя говорить о том главном, зачем он, собственно, и припёрся на этот мокрый грязный Пьяный Яр.
Дело в том, что скоро Благовещенье, а царица Грустина очень любит даровать свободу Божьим пташкам. Она по-матерински любит птиц и сама при этом мечтает о материнстве: именно сюда была направлена «взопревшая мыслишка» Серьгагули Чернолиса.
Я принёс одежонку…
Да мы, славу Богу, не голые ходим.
Тебе нужно цыганкой нарядиться, поняла? Нужно попытаться развеселить Грустину.
Это как же я её развеселю? И зачем?
Он подошёл к ней и осторожненько руку на плечо положил, внутренне готовый к тому, что она фыркнет и задергает плечом, освобождаясь от руки. Но Агафья продолжала стоять, как стояла. Он осмелел.
Скажешь, мол… Надо на Благовещенье выпускать не только Божьих пташек. Люди в клетках, мол, томятся Гоже неплохо выпустить бы. Понимаешь?
Ну и что здесь веселого? Царица наша так расхохочется, ажио обмочится!
Подожди, Гафгафьюшка…
Годю, годю, но лапки ты все же убери, покуда не стукнула.
Чернолис поправил шапку на виске. Серьгу подёргал – мочка покраснела.
– Главное здесь вот что, – продолжал он внушить Агафье. – Царский двор давно мечтает про дитятю. И надо ей, царице нашей, в мозги вкрутить мыслишку. Пускай она добрее будет, клетки пускай открывает. И Господь тогда откроет клетку перед ней, и прилетит к ней желанная птичка. Тогда, мол, родишь. Поняла?
Поняла, только не знаю, от кого рожать! – Гафгафья фыркнула, отворачиваясь и уходя переодеваться «милою цыганкой».
Я тебе как-нибудь объясню на досуге, от кого ты родишь! – пообещал Серьгагуля, жадно глядя на широкий зад Кабатчицы.
Да уж объяснил бы давно! Только водку глохтать здоровы, кобели! – в сердцах про бормотала дородная Кабатчица, хлопая дверью в своей каморке на втором этаже.
– Что ты сказала?! – Серьгагуля подскочил с табуретки, преисполненный решимости побежать наверх и «объяснить» строптивой бабе.
Но в это время открылась дверь – с улицы вошёл в кабак Савва Дурнилыч. Поглядел на товарища, понял: снова Гафгафья что-то «нагафгафкала». Хозяин кулачину скрутил и поднял к потолку, постучал, разгоняя пригревшихся мух. Погрозил. Гафгафья решительно топнула сверху и что-то крикнула.
Ладно, сучка, выйдешь, я тебе погафгафкаю, – пригрозил Кабатчик, стягивая шубу.
Сейчас её не нужно трогать. Она идёт к царице, – предупредил Серьгагуля. – Она у нас теперь цыганка.
Агафья стояла уже на верхней площадке. Нарядная, статная. Глаза играли «цыганской» удалью. Пружинистой походкой она прошла к двери. За ручку взялась. Посмотрела на обалдевшего Савву Дурнилыча. И вдруг вернулась, нежно потрепала мужа ладонью по щеке. И сказала ласковой улыбочкой:
– Ты понял, козёл пучеглазый? Меня нынче трогать низ-зя!
Глава двадцать седьмая. Летающий цветок
1
Завтраки всегда здесь были плотные – кто сколько сможет, поскольку не зря говорится: завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу.
Царь Грустный I был сегодня грустнее обыкновенного. Рассеянно глядел по сторонам. С недоумением и удивлением замечал вдруг на себе новую крестьянскую рубаху. «Странно, – думал он. – Кто это? Я?»
– Что-то вы сегодня даже не притронулись, – заметил Звездочёт Звездомирович, разглядывая царскую обнову.
Страшутка, находящийся на другом конце стола, неожиданно выкрикнул:
– Ничего, не пропадет! Доедала подметёт!
Сердито шевельнув светло-соломенной бровью, царь скомкал салфетку. Он ничего не знал об этом дармоеде, недавно поселившемся во Дворце (кто-то пристроил с помощью царицы и фальшивой царской грамоты).
Кто подметёт? – спросил он, чуть наклоняясь к Звездочёту Звездомировичу.
Болтает он, Ваша Светлость! – поторопилась ответить бабка Христина, старая нянька царицы. – Ну его к шутам, не слушайте! Болтает!
Соколинский пожал плечами и произнёс свое многомудрое:
Так-то да… А так-то нет.
Болтает! – повторила нянька, обеспокоившись. – Не обращайте внимания, батюшка. А вот Ваше любимое шамбрированное винцо – выпейте для аппетиту, покушайте перед дорожкой.
Царь посмотрел на красное шамбрированное вино в золотое посуде – вино комнатной температуры. Притронулся к рюмке, понюхал и отодвинул. Пошевелил бровями, отгоняя нехорошую думку. Скверная сцена вышла нынче в спальне, когда он обнимал и целовал Грустину. Такая сцена, как будто он, мужик (а кто же он ещё, если в мужицком рубище), стал домогаться чего-то чужого – не своего. Было, конечно, не так. И царица его не отталкивала; у неё был прекрасный внутренний такт. Но раздражение государя не давало возможности быть объективным. И он додумался теперь до того, что предали его.
Какой сегодня день? – сурово уточнил.
Среда.
Значит, постный день? Сегодня Иуда предал Христа.
Постный, батюшка, постный! – Бабка Христина, пожалуй, одна была с ним на короткой ноге. – Только вы сами вчера приказали нарушить постный день. Да и то сказать, перед дорожкой-то не грех…
За столом подавленно молчали. Кто подавился, да так и сидел – с выпученными глазами. Кто перестал жевать, застыл с набитым ртом.
Лоснящиеся лица придворных вдруг показались рожами притворных. «Сидят, притворяются, жалко им царя, а сами ждут не дождутся, когда уеду!»
Он ещё сильнее сдавил в руке салфетку и вздохнул, подумав: последний раз, наверное, трапезничает на дорогом подносе, орудуя серебряным ножом, золотыми ложками и вилками с черенками из горного хрусталя.
Разволновался – выронил прибор.
Горный хрусталь зазвенел, рассыпаясь холодными хрусталинками. Зубастая вилка щукой заплескалась на паркете – уплыла под стол.
Кругом задвигались, как будто расколдованные. Заулыбались, заговорили, прикрывая наполненные рты и через силу прокашливаясь.
На счастье разбилась! На счастье!
Будем надеяться, – сдержанно ответил государь, оглядывая залу и задерживаясь на клетках с певчими. – Птиц надо выпустить на волю, всех до одной.
Простите, – робко начал Соколинский, – я ловил их под небом по всему белу свету… Ловил, чтобы песнями они услаждали царицу, и чтобы весною, на Благовещенье…
А вы их теперь отпустите! Понятно?
Так-то да… А так-то нет.
Царь поднялся – очень резко поднялся, едва не опрокинул блюдо на себя. Подошёл. Пальцем щёлкнул по задвижке, дверца распахнулась, и под сводами столовой запорхал «летающий цветок» (царица так называла эту певчую птаху). Выпуская певчих – наперекор царице, – государь и думать стал наперекор.
– Какой самый лучший цветок? – вдруг спросил он.
– Вот эта птичка! – брякнул какой-то подхалим.
Царь молчал с ядовитой усмешкой во взоре. Справа и слева догадки посыпались:
Роза!
Шафран!
Страстоцвет!
Он продолжал молчать. Крестьянскую рубаху поправил возле горла. Сел за стол и показал на какое-то блюдо. Но никто не понял… Только Страшутка обрадовался.
Самый лучший цветок на земле – цветная капуста! – закричал он. – Так говорят нагличане!
Англичане, – снисходительно поправил царь.
Страшутка – перебегая от клетки к клетке – открывал задвижки на миниатюрных дверцах. Поварешкин выглянул, делая испуганные глаза (птицы уже залетели на кухню).
– Открывайте окошки! Скорее! – зашептал он слугам и своим помощникам. – А то как бы птичка не сделала в чашку… веселую кашку. Кто будет крайний тогда?
Поварешкин. Скажут, сварил дерьмо какое-то.
Дамы за столом осторожно повизгивали, не забывая, однако, прикрывать салфетками щеки и прически, когда птицы пролетали над головами. Смех поднялся, шум, суета… Страшутка колесом покатился в дальний угол столовой – открывать окошки.
– На волю! – верещал он. – И птичку на волю! И нашего Бедняжку Доедалу надо выпустить! А то он лопнет… Лучше пускай идёт в каменотесы!
Думая, что Старый Шут дурачится, царь отвечал ему:
Выпускай бедняжку! Где он? Покажи!
За шторкой прячется! Он с голодухи тут все шторки покусал, дырки проделал – наблюдать за нами.
Толстомордый флегматичный Бедняжка Доедала с необыкновенной проворностью успел улепетнуть куда-то, прикрываясь портьерами. Окна были приоткрыты и можно было подумать, что это ветер за портьерой пробежал… Глотая голодные слюни, угрюмо урча животом, он с нетерпением подглядывал в прокусанную щелку, дожидаясь окончания завтрака. Челюсти-маховики не могли оставаться без дела. Достал кусок янтарной сосновой серы. Жевал, посапывая. Неопрятные мокрые губы, растрескавшиеся по углам, сочились гнойной сукровицей. Страшшные заеды день ото дня расширяли рот – и без того огромный! – хоть шнурки приделывай. Свинячьи глазки Доедалы равнодушно посматривали за окно. Ничего там вкусненького не было, не на чем взору остановиться. Горы голубели на горизонте, встающее солнце выпекалось круглым золотистым караваем; речные и озёрные туманы были похожи на сливки, на сметану.
2
Часы прозвенели на Утренней Башне.
Заканчивая трапезу, царь пригубил и отодвинул серебряный кубок густого вина, подогретого по вкусу и отлично сдобренного пикантною корицей и гвоздичкою. Сегодня ему не хотелось голову дурманить никакими напитками, даже самыми легкими, невинными винами.
Освобожденные птицы, радостно вереща, вылетали в раскрытые окна… Царь глядел на них и ощущал несказанную легкость на сердце – словно бы и там раскрылись неведомые клетки с неведомыми птицами, обретающими вольную волю.
Ради приличия царь подождал остальных, нарушая свой привычный церемониал. Послушал суетливый стукоток ножей, вилок, ложек – будто голуби зерно клевали с широкого железного листа.
Небрежным жестом от откинул салфетку на край стола. Поднялся, делая пальцы щепотью. Перекрестился, глядя на икону и начиная ощущать угрызения совести по поводу своего горячего поступка – выпустил птиц наперекор жене, любившей слушать их во время трапезы.
Отогнал от себя эту мысль, прошептал:
– Отче наш! За все Твои благодеяния и за дары, которые мы вкушали, благодарим Тебя, всемогущий Боже, живущий и царствующий во веки веков. Аминь.
Царь отодвинул золочёный стул, находящийся во главе стола. Его примеру поспешно последовали и все другие. Шаги на паркете зазвучали дробно, громко, раздаваясь по углам непомерно просторного зала. Свита прошла мимо портьеры, за которой затаился Бедняжка Доедала. Запах пудры, запах заморского одеколона, духов, лаванды, розового масла и прочих ароматных дамских прелестей взбудоражил «поросячью» ноздрю; чуть не хрюкнул от переизбытка чувств. В прокусанную щелку видел, как придворные сыто покачивались, уволакивая животы на свежий воздух. Только царь шагал легко, будто пружины были спрятаны в подметках: никогда не давал себе воли за едой, за питьем. Крестьянская рубаха на царе смотрелась очень даже симпатично.
Звездочёт Звездомирыч!
Да, слушаю.
Птичек надо бы на место возвратить.
Простите, не понял. Как вы сказали?
Вы что, плохо слышите?
Так-то да… А так-то нет.
Дело в том, что это любимые птицы моей Грустины. Так что надо бы вернуть. Вы уж извините меня за сумасбродство. Я за столом погорячился.
Звездочёт посмотрел в небеса. В безоблачном синем просторе сверкнуло короткое подобие молнии. (Это была «Стрела Умерлана»).
Божьи пташки на вольном просторе испуганно заверещали, рассыпаясь по небу.
– Возвратить, говорите? Уже возвращаются! – горько сказал Звездочёт, прищуривая соколиные свои глаза и наблюдая за каплей крови, стремительно сбегающей с небес…
Капля упала под ноги царя – не заметил. Зато содрогнулся, когда перед ним глухо бухнулся оземь бездыханный пернатый комочек – «летающий цветок» невиданной красы.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





![Книга Святая, чужая, суженая [Пленница тамплиера] автора Полина Копылова](/books_files/covers/thumbs_100/svyataya-chuzhaya-suzhenaya-plennica-tampliera-28027.jpg)


































