Текст книги "Святая Грусть"
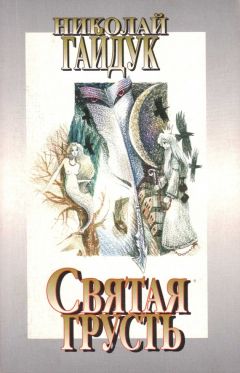
Автор книги: Николай Гайдук
Жанр: Русское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава шестнадцатая. Заморские гости
1
Лазоревый шёлковый штиль разрисован отражением бурых опрокинутых скал. Береговою прозеленью подкрашен, светло-звёздчатой россыпью чаек и жёлто-красными блестками зари: длинной строчкой заря прострочила от горизонта, налитого прорвой солёной влаги, до малой капелюшечки, задремавшей на камнях у причала. Жалко, ах жалко чудную эту картину!.. Вот так бы стоял на крутом берегу и смотрел бы, смотрел, да только где там…
Как будто скребком по холсту – по свежим лоснящимся краскам – проскрёбся неуклюжий громадный галион. Разодранная холстина за кормой лоскутами захлопотала. Размазанные краски перемешались, прилипая к бортам чужеземца.
Ослепительными иглами и солнечными нитками замелькал на воде потревоженный свет, «зашивая» косой и длинный разрыв, обезобразивший идиллическое полотно под названием «Утречко среди Фартовой Бухты».
Чайка загалдела, поднимаясь и прижимая к животу два розовых цветка – мокрые лапы, роняющие солоноватые росы.
Послышались команды на гортанном языке:
Брасос кранбер!
Анго!
Кронкур!
Моряки на реях замелькали, убирая паруса. Капитан рискованный попался. Громадный галион похож был на деревянный айсберг с тремя высоченными мачтами, с полубабой-полурыбой, мастерски вырезанной на бушприте и на корме. Заряженный страшною силой – неукротимой инерцией – галион, приближаясь к причальной стене, мог мимоходом её покорежить и примять, как слон приминает траву… Галион мог пойти по сухому, далеко мог пойти, если вовремя не остановишь.
У кого-то нервы сдали на берегу. Раздался душераздирающий крик:
– Отдавай!
Капитан засмеялся, хорошо владея здешним языком:
Ни за что не отдам!
Отдавай, заморыш ё… Куда ты прёшь?!
Якорный канат слетел со стопора. Многопудовый разлапистый якорь шумно обвалился – брызги над причальной стеной взлетели зеленоватым крупным виноградом.
Мальчишки-ротозейники ловко ловили мокрый «виноград», глотали, причмокивая, хвалились:
А у меня-то ягодка повкусней была!
Зато моя крупнее!
Ничего подобного – с одного куста.
Грубый голос грянул сбоку:
– Эй, мелюзга фартовая! Поберегись!
С высокого борта канат полетел – над головами зашипела «змея пеньковая», раскручивая смоляные кольца. Петля захлестнула дубовую толстую кнехту, почерневшую от времени, от непогод. Канат ложился узловатыми «восьмерками», натужно скрипел между кнехтами – помаленьку потравливался, не в силах удержать гарцующую громадину. Вода плескалась между бортом и причальной стенкой, на дыбы вставала и похрапывала.
Ребятня глазела на швартовку, отступала под напором взрослых, гомонила там и тут:
Какой корабель, ух ты!
А знаешь, как зовут его?
Знаю. Голиаф.
Не голиаф, а галион, понятно? Тятенька сказал мне.
А какая разница?!
Большая. Голиаф – человек, великан такой был.
А это разве не великан? Вон скоко пушек на бортах натыкано.
Это скоко же ему надо пороху с собой таскать?
А чугунных ядер?
Целу гору!
– Не-е, с ядрами потонет он, как заштормит.
– А што ему? Три дня болтался в окияне и хоть бы хны. Все паруса, все веревки на месте.
А зачем он к нам приплыл?
Плавает г… Мне тятенька сказал.
Отвали ты с тятенькой своим.
– Ясно дело, торговать причапал. Скупцы пожаловали.
– А тятенька сказал, на ём палач приплыл. Заморыш.
– Не-е, дурохамец.
– Будто своих нельзя поставить с топором на площади.
– Своих нельзя, мне тятенька сказал.
– Почему это?
– Свои слишком добрые. А дурохамцы эти… хоть петуху, хоть человеку срубят голову, не охнут.
И я срубил бы!
Ну, конечно, потому как папа у тебя из Дурохамского Дуролевства. Хоть ты и скрываешь, но я-то знаю.
А по сопатке хочешь?
Мимо проходил моряк, вмешался.
– А ну-ка, прекращай! А то с причала прогоню. Свалитесь в воду, драчуны, потом отвечай за вас.
Чёрный силуэт галиона нагромоздился на солнце.
Вода, зажатая между бортом и причальной стеной, поскулила и замолкла, разбегаясь к носу и корме… Густая тень упала на причал, неся прохладу. Терпко, таинственно и чудно запахло просоленными просторами и ароматными лепестками загадочной «розы ветров», которую по многу раз на дню с удовольствием нюхает каждый моряк и любой путешественник, только никто ещё не видел, где она растет и как цветёт.
Ребятишки и подростки продолжали гомонить:
Говорят, заморыши петуха заморского нам привезли.
Говорят, что он поёт куда как лучше Будимира-Будисвета!
Не заморский петух, а морской. Он петь не умеет.
Как это так – не умеет? Всякий петух поёт.
Да это не петух, а рыба. Триглотит… Или как её звать-величать?
Рыба тригла, – подсказал моряк, стоящий рядом и весело щурящийся на бестолковый разговор мелюзги.
Вы, дяденька, скажите им, скажите, разве эта тригла может кукарекать?
Обязательно, – серьёзно сморозил моряк. – Когда морского петуха кладут на раскаленную сковородку, он кукарекает громче любого сухопутного.
– Неправда ваша, дяденька.
Моряк засмеялся, ушёл.
2
На широкой палубе галиона дымил таганок. Запахло напитками из пережаренных кореньев и желудей. Доносило порохом от бортовин, поцарапанных железным абордажным когтем, порубленных секирами – глубокие шрамы видны там и сям. Чугунная бомбарда стоит на нижней палубе – каменные ядра в пирамиду сложены.
Заскрипели вязовые плахи: сходни гнулись деревянными пружинами, выталкивали на причал.
Заморыши там и тут появились. Дурохамцы табачными трубками закудрявили воздух. Тарабарщина горохом затрещала по святогрустным ушам:
Конгур бари…
Дебир куна кварнер…
Цветные шаровары замелькали. Тюбетейка. Чалма. Кольцо в носу (строптивым бугаям такие кольца вставляют в селах и деревнях святогрустной стороны). Посеребрённые пистоли, ручки кинжалов сверкают за поясом. Кривые сабли волочатся по земле. Кусками рафинада белеют ослепительные сладкие улыбки. Косоглазый чёрный уголь под ресницами горит в прищуре, дымом заволакивая чужеземный взор: попробуй, пойми, разбери, что затаилось в этих глазах. Народ всё больше мускулистый, загорелый до бронзы. Подойди, постучи по груди – зазвенит, окаянная… И где только солнце такое печёт?
– Эх, Васятка, уехать бы с ними! Там, говорят, не бывает зимы никогда! – вздохнул какой-то горемыка.
Бородатый «Васятка» резонно ответил:
От добра добра не ищут. Бога не надо гневить. Живём неплохо. Винцо, да хлеб, да крыша над головою. Чего тебе надо ещё?
Надоела мне Святая Грусть! Грешного Веселья сердцу хочется!
Дурохамец тут как тут. Подошёл, воркует:
Ломами барзас кваркуш…
Васятка, что он говорит?
Поезжай, говорит, если хочешь. Двух моряков во время шторма смыло за борт, так что им люди нужны.
Мастеровой человек Богдан Богатырь – с младшим сыном Коляней – оказался в этот день в Фартовой Бухте.
Коляня с интересом наблюдал, как местные мальчишки суетились на причале, шило на мыло меняли у захребетников и дурохамцев. И взрослые дядьки – контрабандисты – не теряли времени: из-под полы друг другу совали что-то, напряженно поглядывая по сторонам.
На бортах галиона протопилась между плахами смола, затвердела чёрными сосульками. А на ближайшей мачте – на месте срубленного сучка – пузырьками надулся янтарь, перекипев, под южным солнцежаром.
Смотрел мальчишка на корабль и чувствовал, какая, должно быть, огромная Матушка-Земля, какая заманчивая. В этой бухте недавно ледяной припай отодрался от берега, только-только снежная короста с гор сошла, в логах ещё стоят подснежники, синея от холода и приплясывая на тоненьких ножках… А где-то уже солнце пробирает землю на пол-аршина – яйца можно печь в песке, а на камнях глазунью можно жарить, говорят, как на раскалённых сковородках.
Завидует мальчишка заморскому житью-бытью и, поддавшись мимолетному влечению, мечтает бросить милый святогрустный берег.
Богатырь подошёл и погладил сынка по светлорусой голове. И точно угадал, какие мысли в ней.
– Коляня, там хорошо, где нас нету, – вздохнул он, пристально глядя в туманную даль. – За морем телушка полушка, да рупь перевоз.
Глава семнадцатая. Топор обезглавыч
1
Дрожащее чёрное облачко витало над головой палача, – расплывалось под лучами яркого солнца; кто-то заметил, а кто-то нет… Зато почти что все в одно мгновение почувствовали дурной дух, исходящий от заморыша. Особенно те, кто поближе. Особенно – мухи. Не долетая до палача, муха замертво падали…
– Идёт! – закричал мальчишка с дерева, растущего на берегу.
Разноцветная толпа шарахнулась и загудела пчелиным роем.
Идёт! Эй, расступись!
Дохлятиной что-то завоняло!
А где же красная рубаха? Где топор?
Тебе так прямо сразу всё и подавай: и топор, и голову отрубленную.
Богдан Богатырь, возвышающийся над толпою, не удержался от замечания:
– Ну-у, сморчок! А я-то думал…
– Тише, а то он тебя сделает на голову короче!
– Пускай попробует. Кишка тонка.
Толпа расступилась, ненадолго затихнув.
Показался палач. Горбоносый, плешивенький. Совсем даже не страшный.
За палачом семенили три косолапых пигмея, похожие на постаревших детей.
Как, ты говоришь, зовут его?
Топтар Обездаглаевич-Ибн-Обуглы.
Топор Обезглавыч? Так, что ли, по-нашему?
А что? Тоже красиво.
– А кто это с ним?
– Видать, с детишками приехал.
Палач – небогатого росту, незавидной осанки. Плоский широкий затылок серо-бурым бревном распирает грубую дорожную рубаху. Правое плечо косит вперед и вниз; видно, топор оттянул – профессиональная издержка. Лицо палача рыжеватое, словно кровью забрызганное. В глазах – вселенский холод, равнодушие. Белки с кровяными накрапами: то ли от морской болезни, то ли от бессонницы, то ли от водки. Сапоги сияют тупыми лакированными рылами, шаровары чёрную искру пересыпают на солнце. Будничное рубище с коротким рукавом – видны сухие костлявые руки, напоминающие продолжение топора. В зубах зажата трубка в виде человеческого черепа. Чёрный гниловонький дым над малиновой макушкой черепа – точно волосья дыбом.
Шагает важно, медленно. Ледышки глаз поверх голов скользят.
Ишь ты, как себя несёт!
Как на продажу!.. Сурьёзный дяденька.
Такому палец в рот не клади.
Да и в задницу тоже.
Мужики засмеялись. Невесело вышло, натужно.
А зачем он пожаловал? Царь как будто раздумал казнить.
А ты разве не знаешь, кум? Царь палача позвал карандаши чинить.
А может, язычок тебе окоротить?
На какое-то время в толпе стало тихо. И надо же такому приключиться: над головами, перелистывая воздух, пролетел брюхатый баклан – морской ворон; хвостом задёргал, опорожняясь…
Топтар Обездаглаевич содрогнулся, голову в плечи втянул и так наморщился, будто кислым кулаком получил по морде.
Кто был поближе и увидел – захохотали, заглушая волны и стаю чаек, стонущих вдали.
Не поднимая головы, палач погнал зрачки под брови и скуксился ещё сильнее. Руку сунул в карман – за платком.
Оглашенный Устя оказался неподалеку. Поинтересовался в недоумении:
Сынки, а что вы ржете жеребцами?
Баклан, баклан, дедуля… Ха-ха-ха…
А что – баклан?
Кучу добра набакланил на башку дурохамца. С высоты, как говорится, птичьего помёта!
Устя Оглашенный заюродствовал:
– Ай, как нехорошо встречаем гостя! Обос…
Толпа единой глоткой выдохнула хохот; на ближайшей мачте галиона опущенный парус ударил крылом, и забрехали собаки во дворах, уступами уходящих в гору.
2
И тут раздался выстрел, покрывающий всеобщее веселье.
Люди затихли и замерли, широко раззявив хохотальники.
Баклан споткнулся на меткой пуле и, теряя светлое перо, тяжело спикировал на береговой песок. Запахло дымным порохом; ветер смял синеватое облачко и протащил над причалом.
Кто это срезал его? – зашептались.
Боярин какой-тось.
Ловко, чертяка!
Навскидку стрелял, я заметил.
Боярин в богатом платье, в черной лисьей шапке подошёл к палачу. Бросил птицу под ноги. Слегка поклонился и что-то сказал на дурохамском наречии:
– Конда мезитол никиш.
Морской ворон трепыхнулся. Песчинка прилипла к открытому глазу. Из-под крыла на камень выкатилась тёплая рубиновая бусинка. Перепончатая лапа судорожно «бегала» по воздуху; потом обмякла, опускаясь на перо, взъерошенное ветром.
Палачу смотреть на смерть – всё равно, что мёд хлебать.
Топтар Обездаглаевич вцепился глазами в подыхающего баклана. Ледяные зрачки потеплели и даже слезою слегка отсырели.
Жизнь отлетела от птицы. Глаза палача улыбнулись. Он протер плешину бархатным платком – солнце на макушке заблестело.
Презрительно бросив утирку, Топтар Обездаглаевич дальше двинулся, поскрипывая лакированными сапогами. Раскочегаривая трубку, сплюнул, зачмокал серыми губами. На руке его, держащей трубку, странные пальцы – квадратные, будто поспешно и грубо вытесанные топором.
Боярин сбоку шёл. Терпеливо и подобострастно царскую грамоту держал перед собой.
И наконец-то палач соизволил повернуться к нему. Взял грамоту, прочёл, присмотрелся к печати и даже понюхал её. Сунул грамоту себе за пазуху и покачал головою: хорошо, мол, согласен.
Что за боярин шапку перед ним ломает?
Царский прихвостень.
Кто поближе был, засомневался, а кто-то узнавал:
Э, мужики, да если он боярин, то я князь, мордой в грязь. Это же фартовый парень – Серьгагулька.
Брось болтать, у него царская грамота с печаткой.
Боярин постарался – дорогими коврами устелил дорогу палача. Топтар Обездаглаевич доволен был: суровая рожа отмякла.
Слободские бабёнки с завистью смотрели, как палач попирает сапогами узорчатый мягонький путь: по таким коврам не только в сапогах – босиком-то жалко было бы топтаться бережливым бабёнкам.
Фу, какой вонький табачишше, – зароптала одна из них, прикрывая нос платком. Стоящая рядом молодка наклонилась к ней, глаза по ложке сделала и зашептала:
Кости человеческие в ступе натолкеть, натолкеть, насушит, с табаком перемешает…
У бабы от страха глаза – в пол-лица.
– Ой? – перекрестилась. – Брешешь?
Горилампушка протолкнулся в первые ряды. Ладонью отломив от глаз утренние лучи, разглядывал гостя. Сухо сплюнул, отходя.
– Одно слово – заморыш. Сам чуть больше топора.
Права была бабка Смотрилиха. Только зря карасин перевел на маяке. Знал бы, дак не светил…
Три косолапеньких пигмея, похожие на постаревших детей, вызывали в народе жалость. Седые волосы пигмеев никак не подходили к мальчишескому росту. Уродливо-миниатюрные лица, помятые морщинами, казались шутовскими масками.
– А это что за огрызки?
Оруженосцы. Видишь, бандуру несут.
Это не бандура, а скорей бандурак. Ишь, какой дорогущий футляр.
– У него серебряный струмент, я слышал. Один раз наточит – на сто лет хватает головы крушить.
А девки-то, девки-то наши, гляди, вот лахудры. Бегут к нему с цветочками!
Заморский гость. Какой ни есть, а надо встретить, как жениха.
– Ага, выйди замуж за такого, будешь суп варить из топора да из человеческого мяса.
По дороге, ведущей к причалу, закопытила тройка. Пыль поднялась.
– Карета едет!
Ох ты, царский кучер – Фалалейка.
Значит, будут казнить?
А ты думал, помилуют? Нет, брат, напакостил, наразбойничал – ступай на плаху, палач тебя погладит по башке топором.
Значит, сказка это – про доброго царя?
Ты не путай, где добрый, где добренький. Правильно делает царь, чтоб другим неповадно. Пожалей одного да второго… на шею сядут, станут погонять.
Что-то здесь нечисто, мужики. Боярин этот… Серьгагуля Чернолис. А в темнице – его дружок, атаманец.
Атаманцу этому царь, говорят, ноги моет.
Сам чёрт не разберет их! Айда, мужики, дело делать. Солнце вон уже где, а мы всё толчемся у берега.
Царская карета, сработанная специально для праздничного выезда, поразила палача: обтянутая бархатом; на крыше сияет пятиглавие из чистого золота; кучер Фалалейка «бархатный» и почти вся упряжь на конях – бархат, серебро и драгоценные увесистые камни.
Топтар Обездаглаевич остановился пред каретой. Сапоги старательно стал вытирать о цветистый ковер.
Садясь в карету, палач ослепительно сверкнул плешиной. Издалека показалось, будто на плечах топор огнём горит.
Глава восемнадцатая. Колокола никогда не картавят
1
Топтар Обездаглаевич-Ибн-Обуглы на далёкую святогрустную землю отплыл с потаённым заданием. «Секир башка царю!» – вот какой у него был приказ.
Кроме того, в каюте палача стояла железная клетка с крылатым «чёртом»; в клетке терпеливо томился здоровенный чёрный ворон – Черноворец. Был он не простою птицей. Сам чёрт, наверное, ходил в родителях этого хищного злобного Черноворца.
Когда в море-океане шторм закончился, Топтар Обездаглаевич клетку распахнул, и Черноворец полетел в сторону Царь-Города. В голубоватых рассветных сумерках бесшумно опустился на золотую крестовину колокольни; воровато избоченил голову, прислушиваясь.
Уже скрипела лестница внутри, внизу – старый звонарь поднимался, бормоча молитву. Смолистое перо на вороне вдруг стало выстветляться под действием молитвенного слова. Так, чего доброго, глядишь, и в белую ворону превратишься. Торопиться надо, подумал Черноворец, появляясь в проеме звонницы.
Колоколов здесь много. Большие, гулкие, таящие в крепких телах отголоски недавней грозы, – ворон услышал это, когда уселся на округлое колокольное темя: живая дрожь металла предавалась когтям… Дрожали дождевые серебристые капельки, перебегая одна к другой. Как будто с испугу дрожали. Чёрный глаз варначины вспыхнул огоньком злорадства.
Опуская голову, прицелился к червоточинке, образовавшейся ещё во время плавки.
Ударил клювом и отскочил, изумленный; колокол вместо привычного «бом, бом!» вдруг стал выговаривать:
– Бог! Бог! Бог!
Черноворец собрался с духом и снова оседлал центральный колокол. После третьего удара крепким клювом раздался характерный сухой щелчок – трещина скользнула в глубину металла.
Ступени стонали поблизости. Седая шевелюра звонаря выплывала облачком из открытого квадратного проема колокольни.
Расправляя крылья, Черноворец упал на ветер – скрылся. Черную грудь распирала чёрная радость. Чероворец крикнул в тихий сумрак. Эхо помножило картавое карканье, будто сатана захохотал…
Старый звонарь – дед Колокольник – содрогнулся. Недоброе что-то почуял.
До мелочей знакомая, родная колокольня пахла отсырелым камнем, мокрыми тесовыми стропилами, из которых торчала сухая трава – птичьи гнезда. Слюдяной фонарь в углу – остался вчера после вечернего звона. В другом углу, на деревянном гвоздочке, мохнатая шапка – надевает, чтобы не оглохнуть от громоподобной музыки.
Все как будто на месте. Звонарь успокоился.
Синеватый пар клубился над колоколами, словно только что их из плавильни подняли – за ушко да на солнышко.
Светлой бахромою на веревках наросли дождевые гроздья. Сверху откуда-то капля за каплей колотится в колокола, напоминая приглушенное сердцебиение…
Живут, живут, родимые! Дышат полной грудью, синеватый пар – свидетель могучего колокольного дыха.
Звонарь заулыбался, тёмную дыру в зубах погладил языком. Припомнил далекую молодость, когда происходило священнодействие и всенародный праздник – рождение колоколов. Желая причаститься к доброму делу, всякий святогрустный человек старался бросить в кипящую лаву свой скромный дар: кто серебряные серьги, кто золотое колечко, кто ожерелье, кто браслет; чем богаты, тем и рады были поделиться… Когда отлили колокола – звонарь стал видеть временами такие чудеса, о которых лучше никому не рассказывать: засмеют и посчитают сумасшедшим.
Но потом и другие, слава богу, заметили, стали рассказывать ему, смущаясь и пожимая плечами – что это, дескать, за диво дивное.
Во время золотого и серебряного благовеста по горам и долам святогрустного царства перекатывались драгоценные колечки, браслетики. Более того. У скромных и целомудренных святогрустных девчат в пору колокольных перезвонов появлялись на ушах сережки изумительной красы. А в монастырях, в нагорных кельях Свято грустной Пустыни загорались золотые колечки огня над свечами и лампадами.
Дурохамцы, захребетники и заморыши люто ненавидели этот христианский чистый перезвон: все черти падали с полатей, с печей – рога сворачивая, копытъя ломали. Болотной грязью, тиной, мхом пробовали уши затыкать, но где там – слышно. Переговоры налаживали с Царём Государьевичем. Выкупить хотели колокола, да не по карману оказалось. Цена им – горы золота.
Вот и решили попробовать Черноворца чёртова послать. Клюв у него был не простой, не костяной – крепче кремня, прочнее железа.
2
Дед Колокольник перекрестился на красный угол горизонта, где уже стояло солнце в золотом окладе. И перекрестился-поклонился на все четыре части света. Мохнатую шапку надел, ощущая, как она забирает тепло с головы – охолонула за ночь.
Многопудовый язык раскачался и вымолвил первое звонкое слово, а за ним второе, третье:
– Бог! Бог! Бог! – бросался в поднебесье басовитый голос.
А дальше – совсем чудеса. Подголоски начинали выбивать-выговаривать молитву «О живых».
Спа-си, спа-си, спаси, Господи, раб твоих! – говорили одни подголоски, а вторые и третьи подхватывали: – И всех, и всех православных христиан!..
И даруй им, даруй здравие душевное! Здравие телесное!
Бог! Бог! Бог!
Хоть всю Землю обойдите вдоль и поперёк – нигде такого благовеста не услышите.
Тишина разбудилась, голуби вышли в зенит, восторженно и громко заплескали крыльями в лазоревой глубине. Городские стрижи стриганули над крышами. Деревенские ласточки ластились к потухающим звёздам и проплывающим облакам… Умываясь радужной пыльцой, оставшейся в воздухе от раноутренней радуги, Божьи птахи смеялись в полете, пересыпая воздух живым серебрецом, словно бы тоже задорно звонили, благовестили под куполом страны Святая Грусть.
3
Звонница в небо уходит – теряется в головокружительной вышине.
У подножья, как всегда по утрам, столпился христианский люд. Бабы в праздничных нарядах. Дети в чистых рубашонках. Старики. Молодежь.
Устя Оглашенный стоял, прикрыв глаза. И почему-то кривил губу. Иконописное лицо юродивого стало мрачнеть.
– Царь-колокол нынче с надрывом поёт, с картавинкой.
Старушка рядом возмутилась:
– Ты наболтаешь! Где это видано, где это слыхано, чтобы святогрустный колокол картавил?
Ларион (гренадёр отдыхал после службы) прищурил синие глаза на колокольню, согласился:
Служить, так не картавить, а картавить, так не служить!
Колокола никогда не картавят! – заметил юродивый. – А в энтого как будто картавый бес вселился!
Бродячий музыкант с хорошим «длинным» ухом сказал, сомневаясь:
Кажется, не врет…
Кто? Колокол?
Нет, Устя Оглашенный.
Правду, правду говорит он! – вздохнула баба, подходя к соседке. – Видишь, какое колечко от первого удара откатилось?
Погнутое?
В том-то и дело. Не к добру это!
А во дворце, говорят, поросята ходют по потолку. Следы кругом. Поймать не могут.
И петуха порешили!
Кого?
Ну, Будимирку-то нашего.
Ой, да што ты?
Нечистый завелся!
Вот и колокол наш закартавил!
Тихо! Сорочье племя! – грозно крикнул Устя Оглашенный, не открывая глаз, а только поднимая к небу длинный старческий перст, похожий на свечу с темными фитилями-жилами. Покачиваясь в такт колоколам, юродивый ногою прихлопывал. Росистая муравушка под лаптем в зелёное мочало изжевалась. Муравей поднимался по серой драной штанине.
Ну? Дак чего там? – не выдержала баба. – Попал пальцем в небо? Скорей говори, не томи.
Порча на ем! – подытожил юродивый, открывая ресницы, дрожащие от напряжения. – Эй, кто скорый на ногу? Дуй на колокольню, упреди…
Ларион побежал, рассекая толпу крепким острым плечом.
Теперь уже многие слышали: воздух по-над ухом звенел с надсадным дребезгом, царапал уши, души; с каждым ударом царь-колокол говорил все глуше, глуше, будто опускался в глубину преисподней.
Гренадёр замешкался на колокольне – ногу подвернул.
Однако дед Колокольник и сам расслышал порченую музыку. Шапку скинул. Охнул… В проёме звонницы мелькнула седая голова.
– Православные! – предупредил звонарь. – Берегись!
Кто-то внизу (кто не понял ещё) откликнулся в недоумении:
Ты что блажишь? Чай не горим?
Колокол треснул! Беда!
Народ пошатнулся единым испуганным телом. Затрещали кусты на пригорке. Поломалась тонкая берёза, роняя косичку, заплетённую молоденькими листьями. Кто-то со страху явил необычайную прыть – словно горный козёл заскочил на белозубую кремлевскую стену.
Ребятишек не стопчите, ироды!
Не давите! Стенка сзаду… по стенке размажете, ох твою, прости, Господи! Баба, ну чего ты лезешь на меня, на молодого, неженатого?
Убери свои лапищи, дурень старый, тоже времечко нашёл…
Стоны и звоны перемешались в воздухе над колокольней. Народ бестолково кружился, образуя воронку.
Чёрный ворон пролетел над головами – Черноворец. В лапах у него было зажато золотое гнутое кольцо. Ворон кружился над колокольней, истошно, радостно картавил.
Колокол бился в предсмертной судороге. Трещина прорезала голосовые связки, но колокол ещё сопротивлялся, гудел перехваченным горлом, ускоряя свою погибель.
Многопудовый язык, расходившийся от края до края, последний раз дотронулся до колокольной губы – разбил до крови, сверкнувшей медно-алыми каплями. Хриплый бас захлебнулся, противненько взвизгнул. Внутренняя трещина молниеносно вырвалась наружу – располовинила «царя» колоколов. Серебристо-сахарный кусок металла заблестел, обнажаясь. С колокольни по ветру просеялась тускло мерцающая пыль.
Сердцевина отвалилась от материнского тела.
Деревянные перила затрещали в проёме звонницы – ощетинились длинными занозами.
«Ухо» оторвалось…
Колокол – ухнул…
4
Люди – едва-едва успели расступиться.
Земля у подножья колокольни содрогнулась, точно и взорванная. Вороньёй стаей в небо полетели рваные куски, трава, обломки берёзы… И вдруг из этой «стаи» выпорхнул настоящий ворон… Восторженно хлопая крыльями, Черноворец раскаркался-расхохотался, низко кружась над поверженными обломками.
Добросовестной работою разгоряченный колокол – уже убитый, но ещё не остывший – шипел на сыроватой «силе, словно силился что-то шептать. Сизый пар отлегал от колокольного «царя», как душа отлетает.
Крестообразная фигура Черноворца вдруг заслонила солнце над колокольней – страшно огромная крестообразная тень упала на головы святогрустных людей.
Гренадёр Ларион, подвернувший ногу на колокольне, прихрамывая, шёл к разбитому «царю». Выхватил пистоль и выстрелил не целясь.
Пуля попала в золотое кольцо, зажатое в лапах Черноворца. Ворон вскрикнул, уходя в зенит…
Кольцо упало.
Пожилая баба, вздыхая, подняла его. Повертела в руке и сказала:
Похоже на мое колечко. Бросала в плавильню, когда ещё в девках была.
Бери на память, – разрешил ей дед Колокольник.
Чужое? Нет, не хочу.
Устя Оглашенный взял кольцо. Насупился.
– Это моей дочуры, – глухо выдохнул, пряча.
Много лет назад у жизнерадостного башковитого святогрустного мужика Устина Оглашина случилось большое горе: и дочь погибла, и жена; с той самой поры он и сделался юродствующим странником.
– Спасибо, Лариоша, – благодарил он, обнимая гренадёра. – У меня ведь все тогда сгорело. Ни крошечки на память не осталось. А теперича – кольцо. Гайтан к нему приделаю, носить буду под сердцем.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





![Книга Святая, чужая, суженая [Пленница тамплиера] автора Полина Копылова](/books_files/covers/thumbs_100/svyataya-chuzhaya-suzhenaya-plennica-tampliera-28027.jpg)


































