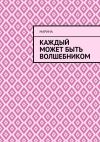Текст книги "Смех Again"

Автор книги: Олег Гладов
Жанр: Триллеры, Боевики
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
– Ну-ну, смотри, Василь, – говорили ему несколько раз в течение последующих лет.
– Ой, Васенька, как бы беды не было, – говорила его жена Варвара, качая младшенькую Катеньку. Предпоследний ребёнок, четырёхлетний Яшка, сидел рядом с мамкой.
– Что ж мне корову им отдать в ихний колхоз? – хмуро бурчал Василий. – Да ещё за так… за шиш с маком… итак зерна три четверти забирают…
А однажды забрали у него всё. Самого его назвали «кулаком», а имущество экспроприировали в пользу колхоза.
–…Тарелок оловянных – пять штук… машинка швейная «Зингер» – одна штука… – равнодушно диктовал Петька Гнездилов секретарю, бродя по избе Ежовых. Указанные предметы выносили во двор на телегу, которая тоже была ежовской. Маленькая Катенька надрывалась плачем, Яшка, вцепившись в мамкин подол, блестел глазами.
Когда выводили корову, Василий не вытерпел и кинулся с кулаками. Его сбили с ног, стукнули прикладом по голове:
– На-ка! – и увезли куда-то. Люди говорили, в Сибирь.
Варвара с горя захворала и вскорости померла. Детей её раздали по детдомам, и больше никто их не видал. Да и они друг друга не встречали более… Кто от тифа помер, кто – на войне…
Мелькал в Донбассе прям перед сорок первым некий Ячта Ё ж, с наколкой на левой руке и заточкой в кармане. Фулюганил всяко, да девок портил…
А уже после войны пришёл как-то в ту самую смоленскую деревню моряк – в бескозырке, с орденами. Зашёл к бабе Марфе, соседке Ежовых. Потом оттуда – в сельсовет.
– Говорят, Ежова Василия реабилитировали? – спросил он, широко расставив ноги и заложив большие пальцы за ремень с якорем на бляхе.
– Да, – сказал первый и единственный секретарь деревенской партячейки Сидоренко, глядя на молодца поверх очков, – а вы кто, собственно, будете?
– Я-то? – ухмыльнулся морячок. – Яков Ежов я.
И глянул своими голубыми глазами так, что у Сидоренко вспотели ладони.
– Так, значит, вещи изъятые я могу получить, как наследник? – спросил морячок. —
Списочек сохранился?
Сидоренко, который был человеком аккуратным и много лет назад сам корябал этот самый списочек под свечой в избе Ежовых, полез в шкаф и, почему-то обмирая и злясь на себя за это, достал пожелтевшие листы бумаги.
Потом Яков Ежов ушёл из деревни, неся под мышкой громоздкую швейную машинку «Зингер» и ступая так, словно не смоленская земля под его ногами, а палуба балтийского линкора.
Он стал работать на заводе в ближайшем городишке. Пытался искать своих братьев и сестёр, хотя бы младшенькую Катеньку, но так никого и не нашёл. Сгинули Ежовы… Жил он одиноко. Не женился…
Однажды в воскресенье в дверь его квартирки (отдельной: герой всё-таки) постучали. Яков, жуя краюху, пошёл открывать.
– Вам кого? – спросил он пожилого мужчину, стоящего на пороге.
– Ежов? – спросил мужчина со смутно знакомым лицом. – Яшка?
Яков перестал жевать: кусок застрял в горле. Он, услышав голос, сразу узнал гостя.
– Для кого Яшка, а кому и Яков Василич… – сказал медленно и глухо сквозь хлеб во рту, глядя прямо в глаза Петру Гнездилову, первому комиссару его родной деревни. Тот вяло улыбнулся:
– Войти можно, Яков Василич?
Хозяин, проглотив наконец кусок, помедлил и отошёл в сторону. Мотнул головой: входи…
Гнездилов прошёл на кухню. Посмотрел на сделанный от руки рисунок грозного военного корабля на стене, прокашлялся в кулачок:
– Кхм…
Яков сел напротив. Глядел, подняв плечи и спрятав руки под столом: дрожали.
Гнездилов ещё раз прокашлялся и принялся рассказывать о своей жене, детях и разное-подобное. Но не мог понять, слышит его Яшка Ежов или нет. Смотрит – да. Да ещё странно так смотрит… Отвлекаю, наверное, – подумал Пётр, – обедал человек… Лучше сразу к делу перейти…
– Я сейчас валенками занимаюсь, Яков Василич, – сказал он, – хорошие валенки делаю… понизу резиной обшиваю, чтоб не промокали… вот…
Яков молчал.
– Людям мой товар нравится, не жалуются… да только вручную резиной обшивать долго… а на машинках швейных некоторых есть такая штука… ну, прям, для этого сделана… вот…
Яков молчал.
–…Не помню, как уж она называется, но очень удобная штука… так я вспомнил, что когда-то у Ежовых был «Зингер»… как раз с той хреновиной… Я тут недалеко живу… съездил недавно к нам в деревню, а Сидоренко Егор говорит, что ты приезжал и забрал эту машинку себе…
Гнездилов заметил в глазах Якова странное: будто тень набежала. Но продолжил:
– Так это… Яков Василич… Продашь, может, мне этот «Зингер»? Тебе он ни к чему, а мне пригодится… Я заплачу хорошо…
– Мразь, – услышал он и увидел бешенные глаза напротив, – падла.
Вслед за этим мир перед глазами Петра Гнездилова померк. Первым ударом Яков Ежов сломал ему нос.
Мразь. Падла. Тварь.
Он бил этого пенсионера, пока лицо того не превратилось в кровавое месиво. Забрызгивая его протухшей кровью свою холостяцкую кухню.
Бил, пока рот Петра Гнездилова не стал похожим на поломанную расчёску с остатками беловатых искусственных зубьев.
Не чувствуя боли в израненных бугорках и впадинках, по которым некоторые определяют количество дней в месяцах.
Бил, пока красная пелена не спала с его глаз и он не понял: Пётр Гнездилов мёртв.
Потом Яков Ежов пошёл в свою комнату, взял «Зингер» и, помедлив, швырнул в голову лежащего на полу его кухни.
– Дарю… – сказал он и вышел из квартиры.
Труп старого коммуниста Гнездилова нашли на третьи сутки и не сразу смогли опознать.
А о Якове Ежове никто больше ничего не слышал.
Наган & Кровосмешение
– Тут сколько? Метров десять будет?..
Я ощущаю под задницей нагретый за день металл. Чую запах мазута и сухой травы. Глаза мои открыты, но я ничего не вижу: так долго смотрю в одну точку, что зрение расфокусировалось. Я слушаю Гекельберри Финна, который, поджав губы, покачивает головой.
– Ну что, брат? Сваливать пора, да? Уезжать отсюда, нах… Но ничё… ничё… у меня тоже не всё гладко вышло… меня этот шизоид Том Сойер вообще чуть не подставил… чё перь делать? Перь делать нечего… не перживай, брат…
Я слушаю Гека и не сразу понимаю, что Генка уже во второй раз обращается ко мне:
– Или пятнадцать?
– Чего?
Я смотрю на него. Мы сидим на одном из старых комбайнов. Их тут штук двадцать наставлено – местами проржавевших, местами ещё довольно крепких.
Комбайново кладбище. Приехали сюда минут двадцать назад. После обеда на пасеке, за которым мне кусок в горло не лез, Тольча уселся в свою «Победу» и поехал домой. Мы с Генкой чуть позже оседлали Атасную Пулялку и прикатили сюда. Пока ученик бегал переодеваться, Ануфрий сказал мне, сидящему на жёстком заднем сидении заведённого мотоцикла:
– А Сашка-то Мишин был крещёный…
И ушёл куда-то, широко и неторопливо шагая.
И вот мы здесь. Распаровозили штакетину и сидим, напялив на головы бумажные треуголки: Генка свернул из газетных страниц.
– Десять? Или пятнадцать? – спрашивает он. На его головном уборе портрет американского президента и первые буквы заголовка. Что-то про Ирак. На моей красуется реклама трубного завода и просроченная на полгода телепрограмма.
– Чего?
– Блин… – Генка указывает рукой прямо перед собой. – Вон до той хрени сколько метров? Пятнадцать будет?
На небольшом расстоянии от нас деревянный крест с табличкой. «Здесь будет храм Церкви Обвинения». Мы сейчас на участке, который выкупила община Семёна. И Генке зачем-то нужно знать, сколько метров от нашего вросшего в землю комбайна до креста. Я пожимаю плечами:
– Ну… может, и пятнадцать… а чё?
– Не… ты точнее скажи…
– Точнее?.. – я сдвигаю бумажную шапку на затылок. —…Точнее, десять великанских и четыре лиллипутских.
Генка ржёт так, что я тоже начинаю улыбаться. Блин… прикольный он чувак… но уезжать всё-таки надо. Хватит впечатлений.
– Ну и чё?.. Нах тебе расстояние?
Генка щелчком выбрасывает окурок. Лезет в глубокий боковой карман комбеза:
– Во!
Я беру чёрный тяжёлый предмет в руку. Взвешиваю:
– Ништяк…
Воронёный наган деда Ивана.
«Не дед он тебе», – бухтит Гек Финн. Я его не слушаю. Я вижу, что все шесть патронов в барабане.
– Попадёшь отсюда? – спрашивает Генка, забирая у меня пекаль.
– А ты чё, попадёшь?
– На чё спорим? – Генка снимает панаму.
– На Атасную Пулялку, – говорю я.
– Хо-хо! – говорит он. – Лихо!
Он смотрит на мотоцикл, стоящий совсем рядом, потом поворачивается ко мне:
– Ну а ты тогда ставишь свой плейер.
– О, кай… – я киваю.
Генка становится на колено, берёт ствол в обе руки и —
Бах! Бах! Бах! —
делает три быстрых выстрела.
Всё. Плейера у меня больше нет.
– Ого! – говорю я, поднимаясь. Бредём к кресту. От верхнего конца, указывающего в небо, пули откололи две здоровенные щепки. Плюс одно круглое отверстие почти по центру. Рассматриваем следы пуль. Закуриваем по сигарете.
Идём обратно. Взбираемся на прежнее место. Я жму Генке руку:
– Клёвый ты чувак.
– Ты тоже ничего, Гр.
Я поднимаю бровь:
– Гр?
– Ага… – Генка кивает. – Ты же белый? Значит «Гр»…
Я непонимающе гляжу на него несколько секунд.
– Ну а я чёрный… Значит, «неГр»…
Хохочу так, что скатываюсь с комбайна и, больно стукнувшись задницей, всё равно хохочу, задыхаясь и молотя пятками по земле. Потом, отдышавшись, забираюсь обратно. Похихикиваем какое-то время. Потом Генка говорит:
– Безотказная фишка… Все смеются… – он разминает шею рукой. – Вообще, все люди предсказуемы…
– А ты? – я смотрю на его профиль.
– И я предсказуемый, – он ложится на спину и вытягивает руку с наганом в небо. Целится какое-то время в стратосферу. Говорит:
– Единственный непредсказуемый человек – это Гитлер в двадцатые годы…
БАХ!!!
Я вздрагиваю. Генка достаёт гильзу и рассматривает её. Засовывает в карман. Говорит:
– Гитлер, – один из пунктов, на которых базируется теория Ольги.
Я лежу в полоборота к нему, чувствуя горячий металл левым бедром:
– Теория? Какая теория?
Генка снова целится в небо. Говорит:
– Теория о пользе кровосмешения…
БАХ!!!
Достаёт и эту гильзу. Нюхает. Засовывает в карман.
Молчу. Перевариваю услышанное. Гек Финн тоже навострил уши.
Генка вытаскивает все гильзы. Теперь пять гнёзд пустые. Остался всего один патрон. Он чиркает барабаном о ладонь – с лёгким треском чёрный цилиндр разгоняется и крутится до полной остановки. Генка поднимает руку в небо.
БАХ!!!
– Прикинь, если бы мы сейчас играли в русскую рулетку и была твоя очередь? – говорит он. Достаёт последнюю гильзу. Прячет в карман. Кладёт наган себе на живот, а руки скрещивает под затылком.
– Что за теория? – спрашиваю я.
– Да я, знаешь ли, подонок редкий, – говорит он, глядя вверх, – и как-то нашёл Ольгин дневник. Не смог удержаться и прочёл весь…
Ольга Мишина, как и все красивые девушки знала, что красива. В классе в неё были безоговорочно влюблены все. В школе – тоже. Она замечала, как на неё смотрит молодой физрук и как краснеет, ловя её взгляд. Взгляд этот она подолгу отрабатывала перед зеркалом. И к концу восьмого класса тёмные, как бы равнодушные, глаза стали остро отточенным оружием, словно чуткий клинок, до времени дремлющий в спальне персидской княжны. Ольга разила им избирательно, но наверняка. Так что являлась потом раненым во снах. Снах, со скрипящими зубами на мокрых простынях. Она никогда не выезжала за пределы своего района, но в своей красоте была уверена наверняка: презрительно посматривала на «городских» сверстниц в райцентре и равнодушно на фотографии актрис и моделей в ярких журналах.
Всё изменилось в последнее полугодие последнего, десятого, класса. Как раз в это время в Уткино приехал новый агроном с семьёй. И вместе с мебелью и цветным японским телевизором привёз главное богатство – дочь Настю.
Когда Настя вошла во двор уткинской школы, обомлели все. А у Ольги сразу испортилось настроение. Дочь агронома была не просто красива – она была Красивее Самой Ольги Мишиной. Да ещё и стала учиться в одном с поверженной красавицей классе. В том, что она именно повержена, сброшена с пьедестала, втоптана в грязь, Ольга убедилась уже через три дня. Когда 8 Марта все подарки в 10-м «А» были вручены новенькой. В ту ночь Ольга Мишина долго не могла заснуть, глотая слёзы и кусая ни в чём не повинную подушку. Весь следующий день она исподтишка рассматривала Настю, сидящую почти параллельно с ней на соседнем ряду, и пыталась не предвзято оценить внешность конкурентки: ровный профиль, идеальной формы глаза, чётко очерченный рот с яркими губами, ладные ушки, густые волосы – всё это было и у Ольги, но у Насти – ещё лучше. И ноги ещё ровнее. И грудь чуть-чуть, но всё-таки задорнее оттопыривала тесный и ужасно модный белый свитерок. К концу последнего урока Ольга была уверена: ну не может такое Абсолютное Сочетание Всего появиться на свет просто так. Есть тут какая-то хитрость. В чём-то её, Ольгу Мишину, обманули. Подтасовали карты. Достали пиковую даму из рукава.
Через пару месяцев в Уткине стало известно, что жена агронома – его родная сестра. «Вот оно! – подумала Ольга. – Вот! Идеальная Настя – ребёнок, родившийся после полового акта близких родственников. После Презренного церковью и обществом соития брата и сестры. Результат Кровосмешения. Конечный продукт Инцеста. Но зато какой продукт…»
Агроному с семьёй вскоре пришлось уехать: в Уткине шептались, косо посматривали, а иногда даже демонстративно отворачивались от греховодника: как-никак, а жили здесь в основном староверы, которых даже советская власть так и не смогла выбить из традиционного уклада жизни… Поэтому на выпускном вечере Ольга таки была самой красивой и являлась после него во снах всем присутствовавшим мужчинам. Но её это уже не особо волновало. Её мыслями овладела Клеопатра – прекраснейшая из женщин, царица Египта, влюбившая в себя императора Рима, заставляющая любоваться своим изображением спустя тысячи лет, и (!) – дочь родных брата и сестры. Конечный продукт Инцеста. Но какой продукт…
Пролистав кучу книг, Ольга стала на сто процентов уверена: все известные истории красавицы и яркие мужчины, – дети, родившиеся в результате Кровосмешения. И если о Гитлере это было известно наверняка (сын отца, обрюхатившего свою дочь), а в статьях о Нефертити, Дездемоне, Мерлин Монро и Кеннеди подобных фактов не наблюдалось, это Ольгу не смущало.
Это заговор. Заговор посвящённых… И теперь она, Ольга Мишина, тоже посвящённая. Тоже знает секрет. Знает шулерский фокус с картой из рукава…
Ольга Мишина хотела родить идеал – новую Клеопатру. Нового Гитлера. Ребёнка, который оставит в истории след своей красотой и деяниями. И это будет Её ребёнок…
Это была её страсть. Мечта. И уже выйдя замуж, она тайно от всех, даже от мамы, пила противозачаточные таблетки.
И лежала под мужем, смотря в потолок и держа его за плечи, пока он пыхтел. Его семя не могло пустить росток в её лоне. Ольга берегла его. Берегла и ждала, не получая от ночных супружеских ласк почти никакого удовольствия и просто ощущая время от времени небольшой твёрдый предмет, ритмично входящий выходящий чуть ниже её плоского живота.
Где Жзик?
Крик куриного самца вырвал меня из размазанного, как манка по тарелке, блуждания в ночных сараях.
Позднее утро. Почти полдень, ёп-тыть. Генка укатил вчера вечером обратно на пасеку. Я один. Один. Потому что мне надоело изображать Александра Мишина. Никакой я дяде Жене не племянник. И вообще, начнём с того, что никакой он мне не дядя Женя. Пора сваливать.
«Вот! – говорит мне внутренний Гек Финн. – Молодец! Наконец-то! А теперь трахни обеих сестёр и уезжай».
Отстань.
«Ну хотя бы одну, а?» – не унимается он.
Отстань, сволочь.
Всё равно ведь не вернёшься, – пожимает плечами он.
Я иду умываться, прихватив с собой бритвенный набор. На крыльце сидит Дашка и чистит картошку. Я молча прохожу мимо, мельком заметив, что подол в подсолнухах задрался до середины загорелых бёдер.
«Вот эту! – шипит Гек. – Вот её!»
Я чищу зубы. Полощу рот. Умываюсь. Смотрясь в прикрепленное над краном зеркальце с отколотым уголком, намыливаю лицо. Аккуратно сбриваю щетину только со щёк, оставляя баки, усы и бороду. Всё это время чувствую зелёное мерцание с крыльца: смотрит. Вытираюсь полотенцем. Поднимаюсь по ступенькам обратно в дом. Замечаю цвет белья под натянувшимся на бёдрах сарафаном: белое.
– Ой! – говорит Дашка. – Ты такой прикольный с бородкой… Тебе идёт…
Знаю. Поэтому и ношу. Когда Артём. Скоро им опять буду.
– Знаю, – говорю не останавливаясь.
Гек Финн пожимает плечами.
В кухне-столовой громко играет радио и никого. Никого, кроме Ольги, которая вполголоса подпевает своему любимому певцу, одновременно помешивая какое-то варево в большой кастрюле.
«Её! – шипит Гек. – Вот Её тогда!»
Я, не слушая его, прохожу мимо.
– Саша… – голос в спину. В спину, на которой крупными буквами для тупых и слепых написано: NEVER GONNA STOP ME.
Ольга не слепая. Я поворачиваюсь. Она, вытирая руки о передник, подходит ближе.
– Саш, Генка не сказал, когда он…
Она рассматривает меня, широко раскрыв глаза.
– Чего? – я выставляю бороду на показ.
Она протягивает руку:
– Можно потрогать? Ой!.. Колючая…
Какой же ещё быть бороде?
Ольга гладит меня по щеке:
– Какой красивый у меня братик… – говорит она.
«Трах-ни-Её!!! Трах-ни-Её!!! Трах-ни-Её!!!» – кричит Гек Финн, прыгая в блестящей, как у чиллиндерс, юбочке и размахивая мохнатыми пампушками.
– Ты тоже красивая… сестрёнка…
Красивая. Не слепая. И ладошки мягкие.
Она снова прикасается к моему подбородку. (Её!!! Её!!! Её!!! – скандирует многотысячный Гек).
– Красивый… – повторяет она, – почти такой же как Киркоров…
Гек, поперхнувшись на полуслове, валится с ног и, набрав воздуха, начинает истерически ржать, задыхаясь и молотя пятками и локтями по земле.
Ольга красивая.
Ольга не слепая.
Ольга у нас тупая.
– Повезло мне… – говорю я после некоторого молчания.
Я много раз встречал женщин с безобразно завышенным внутренним градусом: из-за своей внешности, редкого имени или двух красных дипломов (правда, не совсем понимаю, в чём особое достоинство, знать, где именно в слове «творог» ставится ударение). Я бы мог оправдать этот безобразно завышенный градус, если бы эти женщины читали книги интересных писателей, смотрели непростые фильмы хороших режиссёров и слушали хорошую музыку непростых музыкантов… Но, с сожалением, констатирую: увы. Большинство женщин, кичивщихся внешностью и образованием, – потребители мыла. Смотрят дешёвые сериалы и мелодрамы. Читают те же сериалы на бумаге. Слушают сериалы, переложенные на дешёвые ноты. Большинство.
А красивые, но глупые? Тут вообще беда… Стоит им просто набрать вес, и всё, мля! Приехали! Кто, нах, теперь будет терпеть эти глупомысленные высказывания? Или такое же глупое загадочное (иногда, правда, таинственное) молчание. Круглой попы и торчащих сисек нет? До-о-оОО Звиданья!!!
Ольга Мишина красивая.
Но она тупая.
Мне даже жутковато стало: неужели этот рот годится только для того, чтобы есть? А это тело, чтобы его трахать? Трахать, пока попа круглая и сиськи торчат?
«Тра!!! Хать!!! Тра!!! Хать!!!» – заорал опомнившийся Гек Финн.
Или это мне просто не понравилось её сравнение? Может, я просто мнительный?
«Да-да!.. – важно закивал Гек. Просто ты мнительный, да… Это тот самый завышенный градус самооценки, о котором Ты Сам говорил…»
Гек поправил профессорские очки на носу и взял указку:
«Твой, так называемый, безобразно завышенный градус, мой друг, это… – он стал загибать пальцы. – Интеллект – раз, воспитание – два… – Гек остановился и ткнул указкой в меня. – Не трахай мне мозги. Трахни её».
Отстань.
«Трахни и уезжай».
– Повезло мне… – говорю я после некоторого молчания. – Родственников своих нашёл, сестрёнка у меня, вон какая красивая…
– А я красивая? – её рука сместилась на мою шею.
А то сама, сучка, не знаешь. Вслух:
– Красивая.
– Правда?
– Правда… У вас машина есть?
Она коснулась моего уха:
– Машина? Нет… Зачем?
– А мотоцикл?
– Мотоцикл у Генки теперь…
Указательный и большой чуть сдавили мою мочку:
– Ой, у тебя серьга была, да?
– Да…
– Ещё трактор есть… за домом в сарае… хочешь покажу?
«Покажи!!! – завопил Гек. – Скажи ей „покажи“!!! Открой рот, болван, и скажи: „По-Ка-Жи Трак-Тор“!!!»
– Нет, – я мотнул головой, освобождая своё ухо из едва ощутимой тёплой хватки, – трактор мне не подойдёт…
Она плавно опустила руку и спрятала её за спину. Потом отправила туда и вторую:
– Не подойдёт для чего?
«Идиот!» – простонал Гек, схватившись за сердце, и полез в карман за валидолом.
– Я на станцию хочу съездить.
Она непонимающе затрепетала ресницами:
– Зачем на станцию?
– Билеты купить… Уезжаю я…
Слегка отстранилась:
– Так скоро?
Я пожал плечами:
– Пора мне уже. На работу. И-и-и… вообще…
Чуть не откусил язык: ещё полсекунды и брякнул бы «к родителям». Кретин бородатый.
Ольга пошарила взглядом по моему лицу, остановилась на глазах:
– Жаль…
«Щаз зарыдаю! – сказал Гек Финн и помахал удочкой. – Ладно, осёл. Я на Миссисипи, если чё… Рыбки наловлю…»
И ушёл.
– Жаль, – повторила Ольга и вдруг, словно снялась с pause, взмахнула руками, сделала шаг назад, громко сказала:
– Ну если надо… Что ж поделаешь…
И пошла обратно к плите. Взяла поварёшку. Вернулась к прерванному помешиванию варева.
– А Тольча сейчас в кузне? – бросил я в гибкую спину.
Она чуть повернула голову:
– Да где ему быть.
Я пошёл к себе. Натянул чистые носки, кроссовки и футболку с лого Tequila Sauza. Посмотрел в зеркало на почти вернувшегося ко мне Артёма. Артём недоумевающе пожал плечами после попытки рассмотреть во мне Киркорова.
Я почесал свой, а заодно и Артёмовский нос и вышел в коридор. Топая мимо Генкиной комнаты, увидел портрет Александра Сергеича и свернул к нему в гости. Подмигнул поэту. Подошёл к полкам с книгами. Вытащил слегка потрёпанный букварь. Открыл.
Так… «Дорогой друг, ты берёшь эту бла-бла-бла»… Я переворачиваю страницу:
«А» – это у нас «арбуз».
Хм… правильно.
«Б-э» – это «барабан».
Хм… тут тоже тонко подметили черти.
Переворачиваю страницу:
«В-э»… «В-э» – это у нас…
Я смотрю на «Г-э».
«Г»?
«Г-э», это «Гусь»… Я и сам вижу, – говорит Гек, помахивая ведром с миссисипскими карпами. – Что там с «В-э»?
«Г»? – капля жидкого азота, испаряющаяся в доли секунды.
Я быстро листаю страницы назад. Где?
Где тут весь алфавит? Вот он.
Где тут…
Я смотрю на алфавит.
На первую его строчку.
На ту, которую запоминают сразу.
А, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н
– О-пэ-рэ-сэ-тэ… – говорю я и выбегаю из дома.
Я пробегаю полполя по дороге к кузнице (задыхаясь и матерясь на себя за возобновлённое недавно курение), когда…
– Саша!.. Саш!.. Подожди!.. – слышу голос у себя за спиной.
Останавливаюсь: Дашка.
Стою, уперев ладони в колени, и стараюсь отдышаться, пока она приближается. Тоже задыхается – бежала:
– Ты… куда?..
– К… Тольче…
– Зачем?..
– Надо…
– Я с тобой…
– Зачем? – спрашиваю теперь я.
– Надо!.. – блин, мы чё, по кругу пошли?
Выпрямляюсь:
– Я буду бежать.
Она:
– Я тоже! – смотрит зачем-то с вызовом. Кому тут, нах, твой вызов сейчас нужен?
– Тогда побежали, – говорю я и срываюсь с места.
К Тольче я добегаю раньше на минуту. И когда Дашка, задыхаясь, влетает в кузницу, уже сижу на злобно и низко бухтящей «Кадживе», упираясь носком левой ноги в земляной пол и покручивая ручку газа.
– Куда ты? – перекрикивая урчание «Раптора» спрашивает она. Тольча стоит рядом, скрестив руки на груди. Я одной рукой достаю из кармана очки, помахиваю ими в воздухе, открывая дужки, и надеваю на глаза:
– Ты едешь?
Она кивает. Ставит ногу поверх моей правой кроссовки и переносит бедро через заднее крыло. Теперь и Тольча знает, какого цвета сегодня её бельё.
Выжимаю сцепление и киваю Тольче. Он показывает большой палец: Go!
– Йи-иххха-а-а!!! – кричу я, выкручивая короткий газ, и чуть просевшая «Каджива» рвёт с места, взревев, как раненый гоблин – GO!!!
Когда я глушу двигатель, Дашка ещё какое-то время сидит, сцепив руки у меня на животе и прижавшись щекой к спине. Не только щекой. Её грудь всю дорогу предохраняла нас от взаимного травмирования. Однако мне не до этого. Я хочу кое-что проверить.
– Блин… – говорит Дашка, размыкая наконец руки и слезая с мотоцикла. – Всю жопу себе отбила…
«Каджива», знаете, и внешне на бл*довоз с рюшками совсем не похожа.
– Мы что, к Ивану? – спрашивает она, осматриваясь.
– Да, – говорю я, ставя мотоцикл на подножку, – я к Ивану. А ты посторожишь мотык.
– Ну конечо, – она догоняет меня у ворот, – я с тобой пойду.
Киваем сторожу: здрасьте. Он тоже здоровается: приподнимает бутылку с водой в ответ.
Входим в здание. Подходим к конторке справа от входа. Лестница на второй этаж пуста. Медсестра, пишущая что-то в толстой тетради, – вчерашняя.
– Здравствуйте.
Она поднимает голову:
–…Здравствуйте…
– Мы к Ивану Мишину. Можно его увидеть?
Она переводит взгляд с меня на Дашку. По затягивающейся паузе понимаю: сейчас начнётся лекция об утверждённых раз и навсегда днях и часах посещения.
– Можно. Почему же нельзя, – говорит вдруг она просто и захлопывает тетрадь, – я вас провожу.
Поднимаемся на второй этаж. По коридору движутся пациенты. Каждый по своей траектории, заданной определённой дозой определённого препарата. Огибая их, приближаемся к палате Ивана. Третья с конца. Входим.
Иван сидит на кровати, сложив руки на коленях и смотря в стену.
– Ну вот… – медсестра делает плавный взмах рукой и уходит на свой пост.
– Здравствуй, Ванечка, – Дашка садится рядом с Иваном и целует его в щёку.
Обнимает его обеими руками за шею. Кладёт голову на плечо. Я упираюсь задницей в подоконник.
Дашка гладит брата по голове:
– Как ты тут? А я уже соскучилась, видишь… Не жарко?.. А то волосики мокрые…
Она воркует ещё что-то, а я лезу за сигаретами. Потом взвешиваю пачку на ладони и засовываю обратно. Блин, тут же нельзя курить…
Смотрю в сторону: на тумбочке стоит вспотевшая изнутри пластиковая бутылка.
– Дарья, – говорю я, прерывая её на полуслове, – ты знаешь, где тут кухня?
Она поворачивается ко мне, остановив ладонь на затылке Ивана:
– Знаю.
Я киваю в сторону бутылки:
– Пойди, водички холодной попроси… Видишь, там пусто уже…
Она легко поднимается:
– Сейчас…
– Только кипячёной! – говорю я ей вслед.
– Ладно… – исчезла за дверью, помахивая бутылкой.
Я смотрю на Ивана.
Я жду.
Ну?
– Где Жзик?
Наконец-то!
– Эл, эм, эн, – быстро говорю я, внимательно глядя на его ресницы, – Опр Стух.
Пауза.
Слышны шаркающие о ковровую дорожку шаги пациентов в коридоре.
– Опр Стух, – повторяю я.
Тишина. Муха бьётся в окно за моей спиной. Курить охота.
– Нет.
Курить перехотелось:
– Нет?
– Нет.
Я смотрю на его губы. Он поворачивает голову в мою сторону. Берётся за виски обеими руками. Смотрит на меня, говорит с усилием:
– Опр Стуфх… эС-Тэ-У-эФ-Ха…
Я подхожу и присаживаюсь перед ним на корточки. Беру его за колено рукой:
– Это алфавит, да Иван?
Он следит за мной, сдвинув брови и держась за голову. Он шевелит губами, и я слышу: он шёпотом проговаривает:
–…твёрдый знак… ы… мягкий знак… э… ю… я…
Пауза.
– Всё? – спрашивает он меня.
Смотрит мне в глаза. Потом:
– Ты кто?
– Я Саша.
Он моргает.
– А где Тот?
– Кто?
Он не отвечает. Оглядывается.
– Кто «Тот»? – спрашиваю я ещё раз.
Он отпускает свою голову и смотрит на мою руку, держащую его колено:
– Тот… – он вздрагивает. – Из сарая…
Я чувствую, как капля жидкого азота, не желая испаряться, медленно просачивается сквозь извилины в моём мозгу.
– Я вошёл в сарай… и Тот был там… в углу…
Чапаев посмотрел вслед удаляющемуся на разведку Петьке и вошёл в тёмный провал заброшенного курятника… Чернухинская птицефабрика не работала уже лет двадцать. Часть шифера сняли, поэтому где-то что-то тихонько капало после недавнего дождя, который всё намеревался заморосить снова. Ванька отошёл от входа на несколько шагов и, зажав под мышкой шашку (если нужно, служила пулемётом), достал коробок спичек. Чиркнул одной, осветив совсем маленький участок у себя под ногами и часть заросшего пыльной паутиной насеста. Спичка скоро погасла. Так, зажигая одну за одной спички и перебивая неприятные запахи слежавшегося помёта и перьев запахом серы, Ванька медленно дошёл до конца сарая. Затаился, прислушиваясь: белые ещё не подошли?
Тихо. Капает что-то.
Он зажёг ещё одну спичку и, найдя более-менее чистый участок пола, сел, положив пулемёт перед собой и обхватив руками колени. Зажмурился изо всех сил. А когда открыл глаза, смог различить только светло-чёрные прямоугольники длинных окон без стёкол в общей черноте курятника: дальше этой отметки зрение отказывалось сдвигаться.
если доведётся остаться одному
в тёмном пустом помещении сделай его ещё темнее
заткни все щели ватой и толстыми полотенцами
занавесь окна одеялами не пропускающими свет
закрой глаза чтобы не видеть тени замолчи;
если доведётся остаться одному в тёмном
пустом помещении сделай его ещё
пустынней выдерни холодильник из розетки
закрути все краны в квартире до упора
вынь батарейку из часов
выровняй своё дыхание
сделай его лёгким, как паутина
попробуй не дышать совсем
приглуши громкость своего сердца.
Прислушайся.
Слышишь?
Поверх тишины?
Слышишь?
Как кто-то дышит в твоей комнате?
В комнате или в
курятнике, давно уже здесь, давно…
есть хочу, есть… было много еды здесь давно…
много яис, люблю яйса… много птис было, много
яис, давно…
Необъёмная, плоская фигура с нечёткими
контурами. Набросок Простым Карандашом
на серой бумаге… Словно намеченное слабыми
линиями… смутное пятно… в углу – прямо
здесь давно птисы были много и яйса
много… тёплые… есть можно было
фсегда… теперь – нет… есть хочу…
у тебя яйса есть?.. есть яйса?..
Серым карандашом на серой бумаге
нечёткими контурами плоская,
необъёмная фигура… дуновение
мрака в тёмном углу…
у тебя яйса есть?.. есть яйса?…
люблю яйса… нет яйса?.. есть яйса?..
Голод. Сосёт изнутри… Давно…
Когда ещё много птис было и
яйса много… есть яйса?..
– Ты кто?
Холодок по коже-ш-ш-ш-ш-ш
ш-ш-ш-ш-под ложечку-ш-ш-ш
ш-ш-в живот… свернулся там
Холодок: выпустил щупальца
…ползёт по спине к затылку…
за ушши-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш
ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш.
Серый контур здесь, рядом…
чёрные провалы-дыры вместо глаз и
рта… шелест мокрого полиэтилена.
кто?.. ты кто?.. есть хочу…
яйса есть?.. есть яйса?..
– Есть.
дай яйса… дай… давно есть
хочу… дай… сейчас нет?..
а где есть?.. дома есть?.. много?..
хорошо!.. пошли к тебе домой…
тут плохо… нет птис… тут не хочу
быть… у тебя хочу быть… пошли
к тебе… у тебя теперь буду…
– А ты мне что?
ты жадный… что тебе нужно?..
ш-ш-што хочешь?.. я яйса хочу…
хочешь яйса?.. пошли уже… пошли…
– Нет.
жадный ты… не зли меня… пошли уже
…пош-ш-шли… не зли меня… а то сделаю
тебе Вред… и буду у тебя жить всё равно
…пошли уже… а то сделаю Вред… я могу…
– Нет.
Нет?
Всё рассыпается… разлетается на маленькие осколки… буковки измазывают лапки в масле и скользят по полированной поверхности мыльного пузыря… всё, что было разложено по полочкам, свалили в шевелящуюся кучу… ам… ам… ал… ас-с-слова расползаются из предложений в разные стороны… не хотят складываться… буквы уползают из слов, словно слепые котята из коробки… тыкаются… скользят лапками… тонут в ведре… захлёбываются…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.