Текст книги "Достоевский над бездной безумия"
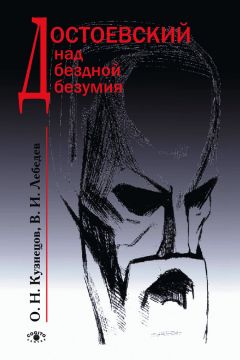
Автор книги: Олег Кузнецов
Жанр: Социальная психология, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
«Расстройство нервов, нервный смех и мистическая грусть», «сильная ипохондрия по ночам», «мучительное, буквально невыносимое давление в груди» после припадка, «нервность… умиленное и туманное, как бы созерцательное состояние», «беспредметная ипохондрическая грусть» и даже «сильный открытый геморрой» включаются Ф. М. Достоевским в описания состояний, характеризующих его наиболее «злокачественный фазис» учащения припадков (27; 100–101). Типичная для него мнительность перерастала в суеверие. Он часто открывал наудачу Евангелие и прочитывал то, что было написано на левой странице. Стихи Огарева, начинающиеся со слов: «Я в старой Библии гадал…», были ему очень близки.
Красивая, романтическая, но мрачная легенда о тяжелой эпилепсии Достоевского распространялась из разных соображений как самим писателем, так и его близкими, друзьями, а впоследствии критиками и литературоведами. При этом «самый страшный недуг», от которого он не лечился, не вызвал слабоумия, которого писатель боялся. Он умер на вершине своей творческой активности, чего никто не может оспорить. Этот недуг не имел никакого влияния на его преждевременную смерть. Он умер от осложнения легочного заболевания, от которого настойчиво лечился, уезжая на заграничные курорты. Следовательно, он достаточно здраво и адекватно оценивал тяжесть каждой из своих болезней.
Диагностика даже непосредственно обследованного больного с применением дополнительных методов исследования часто бывает далеко не бесспорной. Те м более дискуссионна диагностика по оставшимся отрывочным и противоречивым материалам заболевания великого человека, который умер более ста лет назад. Однако необходимость разрушить или хотя бы поколебать легенду, мешающую более полноценно использовать наследие великого писателя в гуманистических целях, побудила нас решиться на такой рискованный шаг.
В содержании «пророческого» сна Достоевского от июня 1870 г. как бы подытоживаются, подтверждаются высказанные нами мысли об основной болезни великого писателя. В своей записной книжке он пишет: «…Я будто… чувствую, что со мной как бы что-то неладно: потеря сознания (памяти), точно после обмороков. Я пошел в какую-то ближнюю больницу посоветоваться с доктором… Проснулся, заснул опять и как бы продолжение сна: вижу отца… Он указал мне на мою грудь, под правым соском, и сказал: у тебя все хорошо, но здесь очень худо. Я посмотрел, и как будто действительно какой-то нарост под соском. Отец сказал: нервы не расстроены…»
Опасность таится не в нервной системе (психике), а в том, что скрыто в грудной полости (в легких!). Причем эту оказавшуюся роковой истину немного более чем за десять лет до смерти Достоевского ему возвестил во сне отец, явившийся к страждущему сыну прежде всего как обладающий искусством проникновения в таинства болезни врач. Следовательно, в сновидениях писателя отчетливо прозвучала та явно недостаточно и односторонне исследованная связь его переживаний, отразившихся в творчестве, с врачебной профессией отца. Та к проникновенно и глубоко, заинтересованно заглянуть в тайны переходов от здоровья к болезни Достоевский, на наш взгляд, смог прежде всего как сын врача, навсегда включивший «врачебную» пытливость в структуру своего человековедения. В этом, а не во фрейдовской концепции эдипова комплекса и не в наличии у Достоевского «священной болезни» истоки своеобразия гения писателя, сумевшего органически включить проблему здоровья в свой неповторимый художественный мир.
Глава II
Трагедии «заболевших» идей
Достоевского надо читать, когда мы глубоко несчастны, когда мы исстрадались до предела возможностей и воспринимаем жизнь как одну-единственную пылающую огнем рану, когда мы переполнены чувством безысходного отчаяния.
Г. Гессе
Больные мысли – ключевая идея нашей книги и актуальная проблема XX века. Задумываясь о социальных последствиях высказываемых, а иногда навязываемых мыслей, мы все больше начинаем понимать свою ответственность. Слишком дорого пришлось нам заплатить за легковерную убежденность в, казалось бы, «неопровержимых» идеях. В период отрезвления, исстрадавшись за нашу неизжитую боль, мы все больше понимаем, что думать не так уж и просто, хотя и не думать нельзя. Как остроумно сказал Г. Гессе, люди «…рождены для того, чтобы жить, а не для того, чтобы думать!»[41]41
Гессе Г. Степной волк // Иностранная литература. 1977. № 4. С. 152.
[Закрыть] Его предостережение о том, что можно «утонуть» в мыслях, если «путать» устойчивую «сушу» с зыбкой «водой», вплотную подводит нас к Достоевскому.
Достоевский, по меткому определению Г. М. Фридлендера, показал, что идеи – это своего рода живые существа, одаренные кровью и плотью. «Они могут быть благородны, но могут стать и ядовитыми трихинами, разрушительной силой в жизни и отдельного человека, и общества в целом»[42]42
Фридлендер Г. М. Достоевский и мировая литература. Л., 1985. С. 118–119.
[Закрыть].
Недаром выдающийся философ Н. Бердяев, искавший в мире идей Достоевского ответ на животрепещущие вопросы начала XX в., обратился к наследию писателя. Он понимал, что идейная диалектика занимает в нем не меньшее место, чем необычайное психологическое мастерство.
В своих романах Достоевский исследует динамику зарождения, формирования и функционирования идей в их взаимодействии с эмоциями и волевыми процессами. Совсем не случайно, что его герои в ряде случаев оказались прообразами философов будущего, которым еще предстояло возмутить своими мыслями мещанскую успокоенность, предельно остро поставить критические вопросы бытия человека. Так, например, Ф. Ницше, лично соприкоснувшийся с миром безумия, со всем его циклом идей, по мнению В. В. Дудкина, всего лишь один из героев Достоевского, Достоевский – автор Ницше со всем превосходством автора над его героем.
В страшном мире Достоевского, по меткой метафоре Н. Н. Вильмонта, «уподобившемся трагическим театральным подмосткам, лежат бездыханные жертвы звериной житейской борьбы и интеллектуальной титаномахии»[43]43
Вильмонт Н. Н. Достоевский и Шиллер. М., 1984. С. 143.
[Закрыть]. Раскрытию великих трагедий «заболевших идей» в творческом наследии Достоевского посвящена настоящая глава.
1. Смерть несущие
Идея приобретает громадную «силу» в поэтике Достоевского только тогда, когда она достигает крайнего напряжения, становясь манией или даже мономанией.
В. Кирпотин
Герои Достоевского напряженно думают, выдвигают идеи, в ряде случаев ошибочные, которые, нарушая нравственные устои, провоцируют убийства и самоубийства. Можно согласиться с Н. Н. Вильмонтом, что идеи в романах Достоевского умерщвляют человека не менее кровожадно, чем злодей с топором (Раскольников), с револьвером (Петр Верховенский) или с чугунным пресс-папье (Смердяков). При этом за преступлением Раскольникова стоит идея, за убийцей Смердяковым – идеолог Иван Карамазов. Идеи оказываются смерть несущими. И не так легко бывает решить: обусловлены эти идеи заблуждениями здорового человека или психическим расстройством?
Уже хрестоматийная «наполеоновская» идея Раскольникова, допускающая право на пролитие «крови по совести» и разделяющая людей на высший и низший разряды (предсказав тем самым ницшеанскую теорию сверхчеловека), обладает особыми, типичными не только для здоровья, но и для патологии характеристиками.
Эта идея, приведшая к двойному убийству, построенная Раскольниковым на логически обоснованных суждениях, с теоретических позиций оказывается достаточно разработанной для того, чтобы ее опубликовали в юридическом журнале. Следовательно, эта идея понятийно содержательна.
Вместе с тем она связана с определенным эмоциональным настроением Раскольникова перед совершением преступления. Он резко отрицательно относится к старухе-процентщице, которая представляется ему вошью, препятствующей счастью униженных бедностью. В то же время он горячо сочувствует своей сестре и несколько абстрактно всем беднякам. В самооценке он в высшей степени положительно относится к тем своим качествам, которые характеризуют его как человека «высшего порядка», способного преступить через нравственные барьеры, и в то же время расценивает свою жалость к намеченным жертвам, угрызения совести как слабость, признак человека «низшего порядка».
Эта эмоционально-насыщенная идея, «идея-чувство», по терминологии Достоевского, не замыкается в области воображения, а требует реализации в преднамеренном волевом действии. Причем все перечисленные эмоциональные отношения и волевые процессы существуют не раздельно, а в тесной связи, в едином ключе с понятийным содержанием сформировавшейся идеи.
Оценить идею Раскольникова с позиции психического здоровья не так уж просто. Д. И. Писарев даже ставит для этого «мысленный эксперимент». Он предлагает вообразить, что в то самое время, когда все уже решено, когда Раскольников чувствует себя приговоренным к совершению убийства, в его каморку входит почтальон и подает ему повестку на получение 500 рублей и письмо от его матери. Из письма он узнает, что их семейству досталось наследство на 20000 рублей и что мать с сестрой едут к нему в Петербург для немедленного поправления его расстроенных обстоятельств. При этом Писарев спрашивает: «Как вы думаете, что предпримет Раскольников, получивши такие известия? Будет ли по-прежнему считать вопрос о старухе бесповоротно решенным и смотреть на самого себя как на человека, окончательно приговоренного к отвратительному купанью в грязной и кровавой луже?» И отвечает: «Я не думаю, чтобы кто-нибудь из читателей серьезно ответил на этот вопрос: да».
Эти рассуждения Писарева не вызывают никаких возражений, но вывод, который из них делается: «Если же вы допустите, что письмо и повестка могли перевернуть все планы и намерения Раскольникова в то самое время, когда он уже готовился приступать к их выполнению, то вы тем самым лишите себя всякой возможности считать его помешанным…»[44]44
Ф. М. Достоевский в русской критике. С. 171.
[Закрыть] – не выдерживает критики с позиций современной психиатрии.
Писарев в этом эксперименте действительно доказал, что степень отклонения идеи Раскольникова от психического здоровья не достигла стадии бредовой убежденности. Развитие идеи поддерживалось преимущественно аффективной напряженностью, связанной с конкретно развившимися психотравмирующими условиями. Это, однако, дает основание не исключать ее из психиатрического анализа, а рассматривать как сверхценную идею, которая может наблюдаться как при психических расстройствах, преимущественно пограничного характера, так и у здоровых людей в экстремальных ситуациях.
Небезынтересно, что трактовка идеи Раскольникова как болезненной нашла свое подтверждение на «общественном суде» над ним, состоявшемся в 1921 г. в Петрограде. «Суд», включавший эксперта-психиатра, признал, что Раскольников «действовал в состоянии умоисступления», был жертвой социальных условий, и оправдал его[45]45
Смолянский Л. Наши собеседники: Русская классическая драматургия на сцене советского театра 70-х годов. М., 1981. С. 234.
[Закрыть].
Раскрывая закономерности формирования ошибочных умозаключений (сверхценных идей, идей отношения) и других интерпретационных нарушений у здоровых людей в экстремальных условиях (подводное плавание, космические полеты, пребывание в Арктике и Антарктике) и модельных экспериментах (в сурдокамере, групповой изоляции и др.), мы развивали вопросы теории «психологии отношений» В. Н. Мясищева. Нами сформулировано следующее определение понятия «отношение личности»: это есть единство понятийного, эмоционального и волевого отражений действительности, выработанное в процессе накопления личного опыта и воспитания, определяющее поведение человека в конкретных ситуациях. Выработанные отношения, с одной стороны, помогают ориентироваться и действовать в различных ситуациях, являясь как бы «психологическим орудием», с другой – при определенных обстоятельствах (неадекватность выработанного отношения к изменившейся ситуации, эгоистичность и т. д.) приводят к неврозам, параноическим разновидностям бреда и сверхценным идеям.
Наша концепция «отношения личности» как особого психического образования или единства, помогает понять психологическую сущность «идей-чувств» у героев Достоевского как в норме, так и при переходе ее в патологию. Это единство возникает под влиянием личного опыта и воспитания героя. Так, например, «наполеоновская» идея Раскольникова возникла прежде всего как результат его юридического образования и осмысления своего личного опыта в контактах с людьми в трагической ситуации. Весь этот период развития «отношений» Раскольникова можно рассматривать в рамках анализа его психического здоровья.
Итак, «наполеоновская» идея, разработанная Раскольниковым в качестве психологического орудия для преодоления кризиса, подчиняет его себе и неотвратимо влечет к преступлению. В помутившемся сознании Раскольникова его действия субъективно представляются ему как рок. После встречи с Лизаветой, от которой он узнал, что на следующий день старуха-процентщица останется одна в квартире, он вошел к себе «как приговоренный к смерти» и всем существом вдруг почувствовал, что «нет у него более свободы рассудка, ни воли и что все вдруг решено окончательно» (6; 52). Именно в этом состоянии «сознания, измененного патологическим отношением», по терминологии В. Н. Мясищева, проявилось его психическое расстройство, ограничившее свободу личности в выборе действия.
У Раскольникова, как и у описанных Мясищевым больных, сознание во всем адекватно действительности, за исключением пункта измененных отношений. «Ни восприятия, ни способности суждения и умозаключения первично не поражены, искажено отношение к некоторым предметам действительности, которые не потому искаженно отражаются в сознании, что первично изменена отражающая способность, а потому, что эмоциональные отношения – страсть, любовь, ненависть, желания – давят на познавательные процессы и искажают отношение»[46]46
Проблемы сознания. М., 1966. С. 132.
[Закрыть], – разъясняет этот вид расстройств В. Н. Мясищев.
Обсуждая в романе «Подросток» диалектику понятийного и эмоционального при развитии «идеи-чувства», Достоевский показывает, как сознание изменяется под давлением чувств и у человека из мысли, заблуждения, ошибки возникает болезненный феномен.
Сверхценные идеи возникали во время наших исследований у психически здоровых испытуемых в условиях экспериментального одиночества в сурдокамере. При возвращении их в обычную обстановку сверхценные идеи у этих лиц достаточно быстро исчезали[47]47
Кузнецов О. Н., Лебедев В. И. Психология и психопатология одиночества. М., 1972.
[Закрыть].
Сверхценность идеи Раскольникова вполне доказывается мысленным экспериментом Д. И. Писарева. Дополнительное доказательство ее сверхценности – обратное развитие «наполеоновской» идеи с осознанием ее ложности в его общении с Сонечкой Мармеладовой. Заблуждения Раскольникова были преодолены ее высокой нравственностью и моралью. С этих позиций интересна динамика эмоциональных взаимоотношений Раскольникова с Сонечкой.
Наивные, почти нечленораздельные, но эмоционально уверенные Сонечкины утверждения («…Нет, это не так, не так! …Это человек-то вошь! …Убивать? Убивать-то право имеете? …Экое страдание!» и т. д.) полностью разрушают сложную систему доказательств, которой Раскольников объясняет и оправдывает свое преступление. Как формула «Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил», так и перенесение Наполеона в свою ситуацию для разъяснения мотивации убийства оказываются несостоятельными перед убежденностью Сонечки.
«Это все ведь вздор, почти болтовня… а – впрочем, я вру, Соня, – давно уже вру… Это все не то, ты справедлива…» – только такими словами может отреагировать Раскольников на эмоциональную реакцию Сони на его рассказ о преступлении. Следовательно, эмоциональная убежденность Сони в незыблемости нравственных позиций, облеченная в отрывочные слова, вопросы и восклицания, разрушила философски изощренную теорию Раскольникова, достойную по своей разработанности сравнения с философией Ницше. Отношение личности к нравственным законам, запретам и предписаниям, понятия о добре и зле (противоположные у Сони и Раскольникова) победили на уровне чувства, вернее, мысли, пускай словесно несовершенной, но интуитивно непоколебимо чувствующей истину.
Раскольников после моральной победы Сони не мог уже долго и постоянно о чем-нибудь думать. Он только чувствовал, что вместо абстракции в сознании должно было «выработаться что-то совершенно другое» (6; 422).
По отношению к Соне «одна мысль промелькнула» (а не порождена логически) в нем: «Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней мере…» (6; 422). Причем единодушия с Раскольниковым она добивалась не религиозными наставлениями. «В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но, к величайшему его удивлению, она ни разу не заговорила об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелия» (6; 422). Кротостью и мягкостью была побеждена грандиозная, мрачная, сверхценная идея интеллектуала с книжными мечтами и «теоретически раздраженным» разумом.
Механизм внедрения ложной истины в сверхценные идеи личности Достоевский раскрыл, опираясь на разбор своей любимой книги «Дон Кихот» Сервантеса, сообщающей, на его взгляд, глубочайшую и роковую тайну человечества. Тайна же эта заключается в том, что красота человека, чистота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество и ум – все это нередко теряет значение без пользы для человечества и становится предметом осмеяния. И это, по мнению Достоевского, происходит единственно потому, что всем этим благороднейшим и богатейшим дарам, которыми награжден человек, недоставало одного только последнего дара – гения, чтобы направить все это могущество на правдивый, а не на фантастический путь деятельности, во благо человечества.
Развивая эту мысль, Достоевский обращает внимание на любопытнейшую черту, которую подметил Сервантес в сердце человеческом: «…Дон Кихот, до помешательства уверовавший в «самую фантастическую» мечту, какую лишь можно вообразить, вдруг впадает в сомнение и недоумение, почти поколебавшее всю его веру». И поколебали Дон Кихота «…не нелепость его основного помешательства, не нелепость существования скитающихся для блага человечества рыцарей, не нелепость волшебных чудес, которые о них рассказаны, а самое постороннее и второстепенное, совершенно частное обстоятельство…» Смутило его лишь верное математическое соображение, что «как бы ни махал рыцарь мечом и сколь бы ни был он силен, все же нельзя победить армию в сто тысяч в несколько часов, даже в день, избив всех до последнего человека» (25; 26). И тут Достоевский, опираясь на домысленный им эпизод романа, выводит крайне важный для понимания диалектики противоречий у мечтателей тезис: «…Фантастический человек вдруг затосковал о реализме!» По Достоевскому, Дон Кихот не может принять то, что в книгах, которые он считает правдивыми, что-то окажется ложью. «А если уж раз ложь, то и все ложь», – мучится он и придумывает для спасения истины другую мечту, но уже вдвое, втрое фантастичнее первой, грубее и нелепее, придумывает сотни тысяч людей с «телами слизняков… по которым острый меч рыцаря может вдесятеро удобнее и скорее ходить, чем по обыкновенным человеческим» (25; 26). Универсальность психологического механизма преодоления противоречий закономерна. «Реализм… удовлетворен, правда спасена, и верить в главную мечту можно уже без сомнений… благодаря второй уже гораздо нелепейшей мечте, придуманной лишь для спасения реализма первой».
В варианте наборной рукописи «Дневника писателя» за сентябрь 1887 г. Достоевский в том же ключе убедительно разбирает и механизм научных заблуждений. Согласно его представлениям, наука основана на реализме, на ясных и точных показаниях наших чувств. Однако в иной науке может быть гораздо больше гипотез, чем доказанных фактов. И когда фактов еще недостаточно для вывода, но из совокупности их уже засияла блестящая истина, то, для того чтобы объяснить ее, человек бросается на эту истину, придумывается новая блистательная гипотеза, в которой может быть все ложь, но которая пока остроумно и хитро объясняет и доказывает первую истину. Достоевский верно оценивает психологию заводящих в тупик научных исследований, когда пишет: «А между тем та первая истина, ослепительно проглянувшая из недостаточных для подтверждения ее фактов, и вас соблазнившая истина, может быть тоже ложь и не истина, но она вас так увлекла, и вы, чтобы поверить ей окончательно, немедленно придумали вторую ложь и уверовали в нее пожалуй еще пуще, чем в первую…» (25; 238).
Еще с большей социальной остротой этот психологический механизм раскрывается им на примере формирования морально-нравственных идей. Не только «женщина, околдовавшая мужчину», мечта, какой-то факт или явление, а любой человек может оказаться объектом культа (все то, что мы «возлюбили» без здравой критики). Заменим слово «любовь» на «поклонение» в приведенном ниже тексте Достоевского, и что-то укоряющее самих себя появится в нас, так недавно переживших культ личности: «Правда, как ни ослеплены вы, как ни подкуплены сердцем, но если есть в этом предмете любви вашей ложь, наваждение, что-нибудь такое, что вы сами преувеличили и исказили в нем вашей страстностью, вашим первоначальным порывом… то, уже разумеется… сомнение тяготит вас, дразнит ум… мешает жить вам с излюбленной вами мечтой. И что ж, не помните ли вы… чем вы тогда вдруг утешились? Не придумали ли вы новой мечты, новой лжи… страшно… грубой, но которой вы с любовью поспешили поверить, потому что она разрешила первое сомнение ваше?..» (26; 26–27).
Если вернуться к значению метафорического образа «человек-вошь» в сверхценной «наполеоновской» идее Раскольникова, то это оказывается сопряжено с нравственным облегчением решимости на убийство. Не так ли необоснованно, бездумно и зловеще использовались понятия «враг народа», «кулак», «изменник», предатель», «диссидент», «психически больной» и т. п. для «упрощения» ситуации и формирования смертоносных, античеловеческих идей, оправдывающих беззаконие и злодеяния?
Таким образом, универсальность вскрытого Достоевским психологического механизма развития человеческих заблуждений, в том числе достигающих и уровня болезни, очевидна. Этот же механизм в разных вариациях используется им для воссоздания логических заблуждений в «идее-чувстве» тех своих героев, у которых она становится «сверхценной». Особенности формирования «идеи-чувства» в период созревания личности мы находим в романе «Подросток».
Идея «ротшильда» подростка Аркадия Долгорукого, порожденного «случайным семейством», незаконного сына родного и законного «сына» приемного отца, одновременно сравнима и несравнима с «наполеоновской» идеей Раскольникова. Наполеон и Ротшильд – олицетворение двух ипостасей владычества над миром: подчинение власти сверхчеловека, преступающего через нравственность, и власти денег. У героев обоих романов альтруистические и эгоистические мысли и эмоции тесно переплетены и органично входят в сконструированную ими «идею-чувство».
Сами идеи на уровне социальном вполне сравнимы. Как отметил Н. Н. Вильмонт, в них соединены «мстительная ненависть к тем, кто их унизил и изуродовал, и преступная решимость «наполеоновской» или «ротшильдовской» ценой приобщиться к тем «счастливцам», кто «не унижен, а, напротив, сам унижает»»[48]48
Вильмонт Н. Н. Достоевский и Шиллер. С. 152.
[Закрыть].
С другой стороны, Раскольников и Долгорукий различаются по возрасту или, скорее, периоду формирования личности. Раскольников – созревший теоретик, фанатик им же сочиненной теории. Подобно Ивану Карамазову, Раскольникову «надо не миллион, а надобно мысль разрешить». В отличие от «фанатика» Раскольникова Долгорукий еще ищущий. Для него конструируемая и прозреваемая с самых общих, наивных позиций идея богатства есть прежде всего путь к самостоятельности, к обеспечению положения в жизни. Недаром он с детским восторгом восхищается идеей Крафта: «Я бы на вашем месте, когда у самого такая Россия в голове, всех к черту отправлял: убирайтесь, интригуйте, грызитесь про себя – мне какое дело» (13; 60).
Несмотря на то что изложение идеи Аркадия занимает целую главу романа, его объяснение, как и зачем «стать богатым именно как Ротшильд», представляет собой набор нечетких мыслей, противоречивых эмоций и по-детски наивных поступков. Более того, самому подростку понятно, что вышло у него это объяснение мелочно, грубо, поверхностно и даже как-то моложе его лет, тривиально и пошло.
Юношеская неуравновешенность и максимализм волевых процессов, мало увязанных с наименее лабильными эмоциями и отрывочными, несистематизированными понятиями, типичны как для «идеи-чувства», так и для отношений личности подростка. Инфантильная незрелость понятийно-логической стороны идеи зла очевидна. Тривиальны ключевые ее позиции: «упорство и непрерывность», наивно их олицетворение: нищие богачи, ходящие в отрепьях и просящие милостыню, несмотря на имеющийся капитал. Прямолинейны два вывода формулы: «упорство в накоплении даже копеечными суммами впоследствии дает громадные результаты» и самая нехитрая и непрерывная форма наживания «обеспечена в успехе математики».
Аффективная основа идеи «ротшильда» не менее хаотична. Чувство грусти, недоверчивости, угрюмости, «несообщительности», переходы от обвинения других к самообвинению (эмоциональные состояния при разработке идеи) сменяются восторгами, упоением и «непрерывным тайным восхищением» при попытках осуществления этой идеи.
О волевой незрелости отношений у подростка, их разнобое с эмоциями свидетельствует их противоречивость: с одной стороны, идея «может увлечь до неясности впечатлений и отвлечь от текущей действительности» (13; 81), с другой – никакая идея не в силах увлечь его до того, чтобы он не остановился вдруг перед каким-нибудь подавляющим фактом и не пожертвовал ему разом всем тем, что уже годами труда сделал для разработки и осуществления идеи. И уже совсем нелепы, по-мальчишески забавны сами поступки Аркадия, связанные с осуществлением идеи накопительства. Касается ли это режима питания (он «сидел» в течение месяца на одном хлебе и воде, выбрасывая обед и ужин, который получал, в то же время покупая хлеб), удлинения срока ношения платья (он чистил одежду щеткой пять-шесть раз в день, извлекая пыль – «микроскопические камни») и обуви (по его рассуждениям, «тайна в том, что надо с оглядкой ставить ногу всей подошвой разом, как можно реже сбиваясь набок. Выучиться этому можно в две недели, далее уже пойдет бессознательно. Этим способом сапоги носятся, в среднем выводе, на треть времени дольше» – 13; 69).
На фоне этих еще не сформированных отношений личности аморфная «идея» Аркадия – это этап развития, субъективно переживаемый как что-то очень значительное. Недаром подросток пишет: «Мне скажут, что тут нет никакой «идеи» и ровнешенько ничего нового. А я скажу… что тут бесчисленно много идеи и бесконечно много нового» (13; 71).
Для сформированных отношений у подростка не хватает опыта, знания жизни, которые могут не только существенно видоизменить, но даже совершенно подавить, уничтожить «подростковую» идею, заменив ее зрелыми, адекватными и дифференцированными представлениями. Это нелегкое и противоречивое развитие подростка и освещено в основной части романа.
Сложившаяся установка «никогда не бить на максимум барыша, а всегда быть спокойным, не рисковать» проявилась и в отношении Аркадия к игре в рулетку: «Ведь уж ты видел, что миллионщиком можно стать непременно, лишь имея соответственно сильный характер; ведь уж ты пробы делал характеру; так покажи себя и здесь; неужели у рулетки нужно больше характеру, чем для твоей идеи?» (13; 229).
Инфантильное убеждение подростка, что в азартной игре при полном спокойствии характера, при котором сохранилась бы вся тонкость ума и расчета, невозможно не одолеть грубости слепого случая и не выиграть, позволяет нам, войдя во внутренний мир самого писателя, понять, каким путем он сумел постичь психологические тонкости коварства смертоносных сверхценных идей.
Общеизвестен и не меньше, чем «эпилепсия», используется в спекулятивных целях тот факт, что сам Достоевский пережил период увлечения игрой в рулетку. Это страстное увлечение было обусловлено, на наш взгляд, преимущественно материальной малообеспеченностью, из которой Достоевский безуспешно искал выход. «Мне надо денег, для меня, для тебя, жены, для написания романа. Тут шутя выигрываются десятки тысяч. Да, я ехал с тем, чтобы всех вас спасти и себя от беды выгородить» (28; 2; 46), – писал он брату.
Страсть к рулетке, ставшая своеобразным психическим недугом, была причиной не только тяжелых личных переживаний, но и серьезных трудностей в отношениях с близкими и издателями.
Из его писем ясно, что Достоевский обосновал свою убежденность в выигрыше, свою «систему игры» на нескольких казавшихся ему бесспорными положениях: «Все проигрывают дотла, потому что не умеют играть», ему известен «…секрет, как не проиграть, а выиграть», который «ужасно глуп и прост и состоит в том, чтобы удерживаться поминутно, несмотря ни на какие фазисы игры, и не горячиться» (28; 2; 40). Или «если быть благоразумным, т. е. быть как из мрамора, холодным и нечеловечески осторожным, то непременно, без всякого сомнения, можно выиграть сколько угодно…» (28; 1; 86).
Эта «вера в систему» укреплялась тем, что «употребив ее в дело», он тотчас выиграл 10 тысяч франков в Висбадене и 600 в Бадене. Свой проигрыш же он объяснял не порочностью «системы», а тем, что перестал следовать ей, разгорячившись. Многие письма кончаются описанием его очередного краха: «взял последние деньги и пошел играть; с 4-х наполеонов выиграл 35 наполеонов в полчаса. Необыкновенное счастье увлекло меня, рискнул эти 35 и все проиграл. За уплатой хозяйке у нас осталось 6 наполеонов на дорогу. В Женеве часы заложил» (28; 2; 46–47).
Причем Достоевский обосновывает свое овладение секретом практикой (наблюдение за игроками). Здесь намечается принципиальное отличие как самого Достоевского, так и созданных им образов игроков от Германна из «Пиковой дамы» Пушкина. Свою уверенность в выигрыше Германн черпает в мистике (тайне трех карт), в то время как Достоевский и герой его романа «Игрок» пытаются опереться на объективные («научные») закономерности. Теория вероятности, в значительной степени обработавшая опыт азартных игр, показала, что, несмотря на «научность», расчет Достоевского на безусловный выигрыш был не только утопичным, но и ложным.
Следовательно, «идея-чувство» самого писателя – выиграть на «научной» основе – была несомненно сверхценной, отказаться от нее мешала, с одной стороны, мнимая закономерность, как бы проступавшая за случайностью игры в рулетку, с другой – доминантность (напряженность и инертность) эмоций, обусловленная потребностью найти выход из хронического безденежья. Причем его теоретические рассуждения реализовывались только в определенных ситуациях (заграничных путешествиях, проходящих через или около тогдашних «Рулетенбургов» в атмосфере общего азарта и ажиотажа). Его проигрыши еще более усугубляли тяжелое материальное положение и отрицательно сказывались на литературном творчестве.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































