Текст книги "Писатель и балерина"
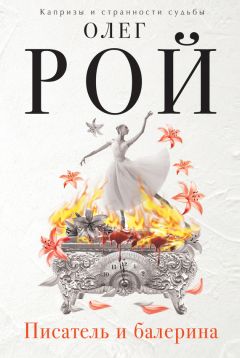
Автор книги: Олег Рой
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Теперь только бы не расплескать, не растерять, сохранить это драгоценное ощущение! «Баланс»! В этом сугубо предварительном названии проявился вдруг еще один, незамеченный доселе смысл. Чтобы пройти над пропастью, канатоходец должен быть превосходным мастером, для свершения ему потребуются все силы, все его навыки. Но если он не будет уверен, что пройдет, ему не помогут никакие навыки, никакой опыт. Малейшая неуверенность подкосит, как подвернувшаяся нога, скользящий по канату акробат зашатается и рухнет в пропасть небытия.
И ему, Марку, тоже придется ни больше ни меньше как пройти над пропастью по тонкой позванивающей от натяжения струне – практически по лунному лучу. И без уверенности в собственном могуществе лучше и не пытаться…
Но он все-таки рискнет – и сможет. Сейчас Марк видел это так же ясно и отчетливо, как простершиеся перед ним ровные дощечки паркета, как легкий, похожий на дымную струйку завиток на виске Полины, как алого снегиря на березовой ветке.
Полина вдруг замерла, сделала шаг назад, еще один, еще… Остановилась на границе золотого паркетного моря, прикусила губу, сморщилась и опять помотала головой – тихонько-тихонько – нет, нет. Забормотала бессвязно, еле слышно:
– Не надо… с какой стати… нельзя… почему… я не могу… нельзя…
– Да ладно! – Марк улыбался. Растерянность Полины его, кажется, забавляла. – Почему вдруг «нельзя»? Гляди!
Еще одна дверь – в углу прихожей – вела в комнатку, раньше, должно быть, служившую кладовкой. В ее крошечной коробке только-только помещались кресло, узкая кушетка да крошечный комодик между ее изголовьем и стеной. От широкого подоконника откидывалась доска – стол.
– Видишь? Это же гораздо удобнее, чем каждый раз в каких-то кафе встречаться. Одного времени какая экономия! И тебе можно репетировать, сколько захочется. И я могу сразу садиться писать.
Поначалу так и было.
Потом Марк однажды задержался за полночь… и заночевал.
Потом еще раз. И еще.
Разумеется, он каждый раз, как было заведено, отзванивался Татьяне – не беспокойся, я в порядке, к ужину не жди. Это была такая привычная формула – «к ужину не жди». Так у них было заведено. Она, даже не пытаясь что-нибудь уточнить, отвечала что-то вроде «ага, хорошо». Хотя что ж тут хорошего? Марк старался не задумываться: что, если бы Татьяна вдруг спросила: «В логове ночуешь?» Что тогда? Врать открытым текстом, что, мол, да, в бабушкиной квартире? От одного предположения во рту становилось горько и противно, словно отравился чем-то. Марк отодвигал эту мысль в самый дальний угол сознания: когда спросит, тогда он и решит.
Ну и, в конце концов, почему бы и не сказать про Полину? Так, вскользь, с улыбочкой: знаешь, я тут немножечко влюбился (хотя влюбился ли? – тоже вопрос открытый).
Но Татьяна не спрашивала. Как будто ей было… все равно. Все равно?!
Потихоньку привычный вежливый ритуал начинал Марка раздражать: что такое, в самом-то деле? Он что, малолетний несмышленыш или преступник на условно-досрочном? Почему он должен «отмечаться»?
Друг Женька в стародавние времена, помнится, говорил про какую-то навязчивую девицу: «Они, Маркушка, из всей мировой литературы выучили одну фразу про «мы в ответе за тех, кого приручили» и приручаться так и спешат, прямо со всех ног». Правда, Татьяна вовсе не «спешила приручаться со всех ног». Скорее наоборот. Держала марку, дистанцию и что там еще полагается держать.
Да, быть может, дело было еще и в этом. Рядом с Татьяной Марк чувствовал себя не то чтобы ее «творением», но все-таки не совсем «своим собственным». Десять лет назад, в момент той судьбоносной встречи посреди издательской конференции (или презентации, черт их разберет), он был… никем. Когда, незнамо как отважившись, он ухитрился сунуть ей свою рукопись, и мучился, и готовил себя к вежливому «небезынтересно», и, услышав сухо-деловое «хм, очень даже ничего, с этим можно работать, давай попробуем», шатался по городу такой счастливый, словно ему дали Нобелевку… И до сих пор, если честно, он писал – ну… отчасти – ради этого «очень даже ничего».
Конечно, не Татьяна сделала его знаменитым. Текст, в отличие от колбасы или, к примеру, телевизоров, «продает» себя сам. По большей части. Можно миллионы вбухать в рекламу, но если человека не тронуло, как пишет условный Вася Пупкин, больше одной Васиной книжки (приобретенной благодаря тем самым рекламным миллионам) этот условный читатель не купит.
Но, с другой стороны, кем бы он, Марк Вайнштейн, был без Татьяны? Скорее всего – со всеми своими талантами и умением писать – оставался бы все тем же прекрасным «никем». И кроме того, если честно, заканчивая очередной роман, он каждый раз слегка подрагивал… Потом с равнодушной улыбкой выслушивал очередное «очень даже ничего» – и успокаивался. И «очень даже ничего» давно вошло у них в традицию, и улыбался Марк вполне безразлично, но, с какой стороны ни посмотри, он от Татьяны зависел. И вчера, и сегодня, и, вероятно, так будет и завтра.
С Полиной все было ровно наоборот. При всех «доказательствах» – робость, перерастающая в страсть, и все такое – Марк не слишком верил, что юная девочка может вдруг «по уши» влюбиться в сорокалетнего, совсем не блестящего, как бы это помягче, кавалера. Будь девочка «книжной», оно бы еще ладно. Но Полина за всю свою жизнь прочитала, кажется, две с половиной книжки, ибо интересовал ее только балет, от «умных» разговоров она мгновенно начинала скучать и даже не всегда понимала, о чем, собственно, идет речь. Ну какая тут, право, coup de foudre?[10]10
Coup de foudre (фр.) – удар молнии, устойчивое выражение, то же, что «любовь с первого взгляда».
[Закрыть] Откуда бы? Но почему непременно должна быть любовь с первого взгляда, неудержимая и всепоглощающая? Любовь куда как разнообразна. Ведь и чувство признательности просто так с весов не скинешь. Марк был нужен, очень нужен этой никому не известной танцовщице, которой для счастья довольно было «сколько хочешь бери пуантов». Сейчас он очень хорошо понимал разнообразных эстрадных мэтров, подбиравших на обширных просторах страны нищих, никому не известных девчонок и делавших из них звезд. И, что удивительно и тем не менее очевидно, – девочки своих мэтров… любили. Да, потом, сколько-то лет звездности спустя, они нередко с заведенных орбит соскальзывали: ибо в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Но это – потом, после. И, язвительно размышлял Марк, неизвестно, кто к моменту «побега» тяготился этой самой «любовью» больше: вытащенная из грязи в князи девочка или благодетельный мэтр.
Да и какая разница – что там будет через сколько-то там лет? Сейчас-то Полина ему необходима ничуть не меньше, чем он ей! Сейчас-то он наслаждается обретенным вдруг чувством всемогущества! И не все, ох, не все облагодетельствованные девочки ускользали от своих покровителей. Как знать, ведь взаимная необходимость может и сохраниться, может еще и усилиться. Так ведь тоже бывает. «Помедли, помедли, осенний день! Продлись, продлись, очарованье!» Марк никогда – или ему казалось, что никогда – не чувствовал себя настолько сильным, как сейчас. Здесь и сейчас. Рядом с этой хрупкой девочкой, которой он – совершенно очевидно – необходим.
По сути, он играл рядом с Полиной ту же роль, что когда-то сыграла рядом с ним Татьяна.
Когда-то? Или играет по сей день?
Да нет, глупости. Ну да, он зависит от Татьяны – но ведь и она от него зависит, разве нет?
И вообще все это – пустяки. Он всего-навсего ведет себя по-человечески. «Заставлять других о себе беспокоиться – недостойно», – звучало в голове бабушкиным голосом. И не над чем тут размышлять! Но Марк… размышлял.
В почти ежедневном телефонном «к ужину не жди – ага, хорошо» не было ведь ни капли вранья. Но… как будто… было.
Наверное, надо сказать – вот просто взять и сказать, – в конце концов, Татьяна же сама говорила про «вдохновляйся где хочешь». Но как это – ни с того ни с сего? Усесться на кухне с серьезным лицом – нет, дома как-то нехорошо, где-нибудь в кафе – и заявить трагическим или, наоборот, веселым голосом: нам нужно поговорить. Фу, как глупо! Как будто в сериале каком-нибудь, который крутят по телевизору в прайм-тайм: дорогая, нам надо поговорить. Разве – надо? Ничего же не происходит. Ну… серьезного. Такого, чтоб оправдывало эту бессмысленную торжественность. Или, как формулировали лет сто назад, «нам нужно объясниться». Чего объясняться-то?
Хотя… «объясняться» – это же от «ясность». Прояснить ситуацию. А то в самом деле неловко: вроде и неправды не сказано, а во рту противно, как будто наврал с три короба. Марк очень остро чувствовал эту неловкость. Не зря же он был писатель, и – десять миллионов поклонников, усмехнулся он, не могут ошибаться – писатель даже вроде бы хороший. Еще бы ему не чувствовать «движений души». Но и заявлять вдруг: знаешь, я тут, кажется, влюбился – казалось очень глупым. Вот если бы Татьяна спросила: где ночуешь? – он бы и сказал. А так, ни с того ни с сего… И Новый год скоро уже, меньше месяца осталось. Вот, может быть, после…
И Марк старательно отодвигал тягучие, упрямые, неотвязные мысли. Вот если бы Татьяна закатила скандал, сыпала гневными, обидными словами, обвиняла, чего-нибудь требовала. Вот тогда он перестал бы бесконечно перемалывать нудные самооправдания, пропала бы царапающая, как сломанный ноготь – пустяк, не стоящий внимания, но жить мешает невыносимо, – неловкость, испарилось бы неуютное ощущение фальши. Все стало бы правильно. Она нападает – я защищаюсь.
Да хотя бы осведомилась, недовольно поджимая губы, – где это Марк столь систематически пропадает. Хоть так.
Но Татьяна ни о чем не спрашивала.
* * *
Отвечая на нажатие кнопки, автомобиль подмигнул фарами: я, мол, закрылся, никто в меня не заберется, иди спокойно по своим делам.
– Это ваша машина?
Татьяна вздрогнула и резко обернулась.
Подошедший сзади сержант сиял молодостью – даже юностью – и буйным румянцем: морозы в последнюю неделю установились вполне декабрьские, к вечеру даже снег начинал поскрипывать, а вокруг фонарей расплывалась голубоватая туманная дымка. Прямо рождественская открытка, а не городской пейзаж. И парень – со своими сверкающими глазищами в чуть заиндевевших ресницах, с веселым улыбчивым ртом, с неправдоподобно розовыми щеками – казался не совсем настоящим. Эдакий лубочный персонаж. Деревенский парубок. Впрочем, нет. Парубок – в этом есть некая лихость, а сержант глядел вполне почтительно. Не парубок – отрок. В другой момент Татьяна отроку наверняка улыбнулась бы – он был очень… мил. Даже забавен. Герой мультфильма посреди городской улицы.
Но улыбаться сейчас совсем не хотелось.
– А в чем, собственно, дело? – бросила она, едва сдерживая раздражение.
Сержантик молча показал взглядом: в двух метрах от бампера высился столбик с красно-синим кругом – «остановка запрещена».
– Права ваши, будьте любезны?
Она вытащила из бумажника водительское удостоверение.
– Нехорошо, Татьяна Александровна. – Розовощекий юнец улыбался так дружелюбно, словно встреча с ней была лучшим событием сегодняшнего вечера. – Права не вчера получили, со зрением проблем нет.
– Я… я только на секунду… на минуту, – забормотала она, казня себя за глупую оплошность. И, заметив неподалеку сияющий зеленым и белым крест, торопливо пояснила: – Мне только в аптеку. Мне нужно…
– Ну так и доехали бы до аптеки, там рядышком вполне можно встать.
– Да-да, конечно, я… простите… я не сообразила.
Она действительно выскочила из машины, не очень-то соображая – зачем.
– Вам помощь не нужна? – обеспокоенно поинтересовался розовощекий лубочный персонаж. – Вы нормально себя чувствуете?
Чувствовала Татьяна себя далеко не нормально, но чем бы ей помог этот… отрок?
– Да-да, все в порядке, извините. – Она опять ткнула кнопку, фары мигнули словно бы недовольно: чего туда-сюда тыкаешь, то стой, то открывайся – надоело.
Сержант вернул ей права:
– Повнимательнее, пожалуйста, Татьяна Александровна.
Она проехала чуть дальше аптеки – ага, вот удобный «карманчик». Огляделась – да нет, вроде ничего запрещающего. Но вылезать из машины на этот раз не стала. Вытащила из бардачка припасенный на всякий случай бинокль. Недлинная улочка просматривалась отсюда целиком, только знай крути окулярами влево-вправо.
Когда Женька доложил ей – о, исключительно по-дружески, да-да-да! – о том, что у Марка появилась «балетная пассия», Татьяна расхохоталась:
– Ну наконец-то! Я ж ему сто раз говорила – сбегай налево, развейся. Развлечешься не развлечешься, но небольшая интрижка писательский имидж весьма оживляет. А то что это такое: выставки, презентации, встречи с читателями. Нужны ж какие-то не столь скучные информационные поводы. Девица-то хоть ничего, приличная? – поинтересовалась она как бы вскользь. Нет, ну в самом деле, она же издатель, она же должна контролировать прессу и вообще быть в курсе. Ничего личного, просто бизнес.
Рассмеялась она очень, очень искренне.
В первый момент – потому что просто не поверила. Марк только что закончил очередного Вяземского, а в такие времена он обыкновенно бывал не в духе, молчал целыми днями и целыми же днями мог сидеть угрюмый, как сыч, и пялиться в камин. Шутка про «пример Гоголя» вертелась на языке, но Татьяна, разумеется, никогда вслух подобного не произносила. Юмор – дело хорошее, но больные мозоли трогать нельзя. Нехорошо это. Недостойно. В доме повешенного не говорят о веревке. Вот, кстати, похоже. Завершенная книга и впрямь словно бы выжимала из Вайнштейна жизнь. Точно как петля висельника. Вместо логичного и естественного – если глядеть со стороны – триумфального восторга «я сделал это!», Марк впадал в какое-то «триумфальное уныние» или, как Татьяна это называла по аналогии с седьмым днем творения, «воскресную депрессию». Если удавалось оторвать его от дивана и камина, чтобы вышел, поглядел на белый свет, развеялся, отвлекся, мог и дома по несколько дней не ночевать. Скорее всего, прятался в бабушкиной квартире. Как зверь в берлоге: тихо, темно и никто не трогает.
В этот раз, что правда, то правда, триумфальное уныние изрядно затянулось. Уж и времени довольно прошло, и традиционное «очень даже ничего» было сказано – совершенно искренне. Но Марк все хмурился, уходил в себя, супился мрачно. Когда вообще появлялся дома. А появлялся редко.
Похоже, сразу впрягся в новый текст. Это тоже был нелегкий период – начало. Когда кажется, что пласт – неподъемный, что ничего не выйдет, потому что непонятно даже, с какого боку браться. Это Татьяна понимала даже лучше, чем триумфальное уныние. Потому что сама пробовала писать – и довольно быстро бросила. Со стилем у нее все было в порядке, и фантазией бог не обидел, но вот однако же. Сперва-то казалось, что это даже весело – придумывать персонажей и их поступки, дергать за ниточки, двигать сюжет туда или сюда. А потом вдруг оказалось, что ни о каком придумывании и помину нет, что сюжет двигается не по ее желанию, а по своему собственному, что поступки не придумываются, а случаются как будто сами. Знаменитое пушкинское «Представь, какую штуку удрала со мной моя Татьяна! Она замуж вышла!»[11]11
История про независимое «поведение» пушкинской героини известна по рассказам Льва Толстого. Когда его однажды упрекнули в том, что он слишком жестоко поступил с Анной Карениной, он в ответ привел эту фразу Пушкина, сказанную, по словам Толстого, «одному из его приятелей».
[Закрыть] оказалось не поэтическим кокетством, а чистой правдой. Неприятной правдой. Тяжелой. Практически невыносимой. Вот она и «не вынесла». Издательство – нелегкая работа, но писательство… Нет уж, это не для нее.
Так что, если Вайнштейн действительно начал работать над новой книгой, и хмурость, и молчаливость, и «сегодня к ужину не жди» – все это было очень объяснимо. Изначально у Татьяны была с ним договоренность: предупреждать, чтоб она не волновалась. Ну так он и предупреждал.
Так что про «пассию» – это было в самом деле смешно.
Но главное – даже если все-таки не «смешно», а правда – что ж, плакать, что ли? На круглом плече легкомысленного Летяйкина, который давным‑давно превратился в солидного, уважаемого в театральных кругах Корша, – но ничего ведь, ничегошеньки это не изменило. Как глядел на нее собачьими глазами двадцать лет назад, так и сегодня глядит все так же жалобно – не бросят ли «косточку». А уж возможность поутешать расстроенную Татьяну – это не просто «косточка», это прям целый шмат парного мяса.
Нет уж, не дождетесь! Последний раз Татьяна плакала… ох, вот уж и не вспомнить когда. Во время беременности – да, помнится, бывало. Гормональные бури, перепады настроения, перестройка организма и все такое. А с тех пор, может, ни разу и не плакала. Вот еще!
– Жень, – проникновенно проговорила она, чуть отодвигая от уха как-то сразу нагревшуюся, даже повлажневшую трубку, – Вайнштейн только что пятого Вяземского закончил, чего ж ему не развлечься? А если он сейчас новую книжку задумал, так тем более. Кольцо у него на пальце, а не в носу, ты же меня знаешь.
– Ой, Танечка, тебя никто не знает! Ты у нас – вещь в себе, – привычно пошутил Женька. – А новая книжка – про балет, что ли?
Она слегка удивилась:
– Почему про балет? В смысле, с чего ты так решил?
– Да так, подумалось. Тогда, на премьере, с месяц назад, помнишь? Мы за кулисами когда гуляли, на него журналисточка наскочила. Почему бы вам, говорит, не написать роман о балете. И Вайнштейн, ну мне показалось, как-то вдруг выпал из реальности: молчит, и глаза отсутствующие, никакие. Потом – раз, и включился. Но, видать, зацепил его вопросик-то.
– О балете, – задумчиво повторила Татьяна. – Знаешь, что-то вроде бы такое мелькало… не помню. А что, может быть. Кому ж и писать о балете, как не ему. Но тогда уж сам бог велел с балетной девочкой погулять, а, Жень? Вайнштейн, конечно, из балетной семьи, но это ведь совсем другое дело. Это ж источник живой информации.
– Ценный, видать, источник, – хмыкнули в трубке. – Квартиру ей купил. А может, снял, разное говорят. В трех кварталах от тетра, на Вознесенской.
Татьяна не сразу сообразила, что Вознесенская – это бывшая улица Калинина, которой вернули еще более «бывшее» название. Волна переименований до сих пор заставляла людей изрядно путаться, так что на многих табличках значилось по два названия: возврат к истокам – дело почтенное, однако ж водители, к примеру, «Скорых» не слишком довольны.
– С репетиций ее встречает. Ну… частенько, – продолжал бубнить в телефоне Лентяйкин, ах да, простите, Корш. – А уж после спектакля – как штык. Когда она там занята, конечно. Да сама можешь убедиться, она сегодня пляшет. Ну и твой, кстати, уже здесь.
– В чем убедиться, Женечка? – очень, очень сладким голосом осведомилась Татьяна, начиная понемногу раздражаться. – В том, что мой муж получает удовольствие от жизни и, весьма вероятно, материал для будущей книги? И как добрая супруга, и как издатель я могу этому только порадоваться. А свечку над вайнштейновскими забавами держать мне, извини, недосуг. Я тебе, друг дорогой, и на слово верю. К чему вот это твое «сама убедись»? Тебе мало драм во вверенном коллективе и на сцене, захотелось на реальный скандальчик поглядеть? Ну так ты меня не первый день знаешь, скандальчики – не мой жанр. Или у тебя еще какие-то мысли? Помочь вайнштейновские тапки из дому выкинуть? Ну так мы с тобой этот вопрос сто лет назад обсудили и закрыли. – Она знала, что обижает верного Женьку, что ему сейчас больно, но на войне как на войне, а лучшая защита – нападение. – Извини, Жень, – добавила она, смягчая предыдущую резкость. – Я не хотела тебя обидеть. Спасибо, что доложил, – она слегка улыбнулась, зная, что по голосу это будет слышно, – я, ты знаешь, люблю быть в курсе.
Женька вроде бы поверил. Должен был поверить. Что-что, а быть убедительной Татьяна умела.
Возле Николаевского театра – поодаль, с отличным видом и на главный, и на служебный вход – она простояла минут сорок. Посмеиваясь про себя: почему «простояла», если я сижу? Хорошо сижу, комфортно, даже уютно: в машине тепло, в термосе кофе, из динамиков Элла Фицджеральд вполголоса мурлычет.
На парадном крыльце заклубилась наконец толпа балетоманов и просто «сочувствующих», тех, кто посещал балетные спектакли из статусных соображений. «Сочувствующие» составляли, разумеется, большинство. Ну вот если честно, сколько у нас истинных, искренних любителей балета? А тут – действительно толпа. Заклубилась, растеклась ручейками к припаркованным вокруг машинам, к остановкам городского транспорта, к череде ожидавших такси. Ручейки поредели, превратились в капли, в капельки…
Болтун Женька, болтун и балабол. Балабол, и ничего больше.
И тут она их увидела.
Девушка даже в шубке выглядела тоненькой. Впрочем, шубка была приталенная. Не то чтобы неприлично дорогая, но и не из дешевых, наметанным взглядом определила Татьяна. Окантовка из серебристого песца придавала хозяйке шубки некий, гм, неземной вид. Интересно, это уже Марк подарки преподносит или от прежнего спонсора «гонорар»? Не на зарплату же третьеразрядной плясуньи это «неземное» великолепие куплено.
А девочка-то… не бог весть что. Ну глазки большие, это да. Личико в серебристой рамке капюшона нежненькое – насколько можно через улицу разглядеть, – но, в общем, ничего особенного. Преснятина. Девочка-принцесса. Маленький эльф.
Марк, нежно поддерживающий принцессу-эльфа под локоток, казался рядом с ней странно долговязым.
М‑да. И что дальше? Ползти на машине за пешей парочкой – верх идиотизма. Даже самый сосредоточенный на предмете обожания влюбленный заподозрит неладное. И уж тем более Марк не может не заметить ее, знакомую ему до последнего молдинга машину.
Пока Татьяна размышляла, парочка нырнула в уже обведенную разноцветной новогодней гирляндой дверь небольшого кафе. Ну да, конечно, девочка же устала, ее же покормить нужно. Заботливый ты наш, тьфу.
В памяти начали всплывать ситуации разной степени паршивости. Или хотя бы трудности. Не те, из юности, когда Татьяна, насмерть перепуганная внезапно свалившейся на нее беременностью, до слез стискивая зубы, ждала хоть какой-нибудь поддержки. Ну хоть не поддержки – ободрения. Да хоть просто понимания! Тогда молодой Вайнштейн так терзался собственными страхами и переживаниями, что – ладно, проехали. Но ведь и в последние десять лет, когда они вроде бы вместе, а терзания уже более-менее поутихли, и сейчас – все ровно то же самое.
Придет ли она вымотанная тяжелыми переговорами или просто бесконечным рабочим днем, ломает ли себе голову, как минимизировать последствия очередной глупости, сотворенной в типографии, или… Да мало ли в жизни «ситуаций»?
И что?
И ничего.
Ладно, он «не понимает в бизнесе», пусть. Но ей ведь не советы нужны – просчитать и спланировать она вполне в состоянии. Но – обнять, утешить, сказать, что нечего мучить себя из‑за всяких дураков, что все наладится… Да хоть бы чаю налил! Ага, как же! И в голову не придет. Сильная женщина всегда сама о себе позаботится. Да, да, да, она сама так все устроила: сильная женщина, которая справится с чем угодно. И ее такое положение дел более чем устраивает. Разве что иногда хочется расколошматить это самое установившееся положение дел – вдребезги! Стать нежным созданием, которое холят и лелеют, ибо наша земля для воздушных созданий слишком сурова, они же привыкли ступать исключительно по облакам. В крайнем случае – по венчикам цветов. Татьяна представила себя скачущей по облакам и венчикам гигантских ромашек и несколько развеселилась.
Интересно, чем соглашаются питаться такие вот эльфы? Среди бесконечных слащаво-изысканных «обед балерины – капелька росы на лепестке розы» только великая Плисецкая могла себе позволить гомерическое «сижу не жрамши». А это голубоглазое нечто в неземной шубке, небось, по крошечке клюет. Татьяна вспомнила про клюющую по зернышку курочку[12]12
Полностью поговорка звучит: «Курочка по зернышку клюет, а весь двор в помете».
[Закрыть] и даже расхохоталась.
От смеха запершило в горле, защипало в глазах… да что ж это такое? Какие слезы, откуда? Вот еще! Думать надо, а не слезами умываться!
Легко сказать – думать. В голове было больно – то ли от мыслей, то ли от старательно загнанных внутрь слез, то ли от мороза. В машине было тепло, но ее почему-то познабливало.
После трапезы, соображала Татьяна, морщась и подтягивая потуже полы наброшенной на плечи дубленки, парочка, вероятно, направится в «гнездышко». Она стиснула зубы, подышала открытым ртом, как вытащенная из воды рыба. За глазными яблоками что-то саднило, давило, казалось, что глаза сами собой выпучиваются – тоже как у рыбы. Она глянула в зеркало над лобовым стеклом – да нет, вроде не выпучиваются, глаза как глаза. Даже не покраснели.
Дожидаться возле кафе глупо, лучше двигаться прямо на Вознесенскую.
Улочка была, к счастью, недлинная, просматриваемая насквозь, вот Татьяна и встала посередине. И надо ж так угодить – прямо под «остановка запрещена». А ведь там, кажется, еще и камеры наблюдения неподалеку были? Как будто ослепла, честное слово! И что ты собиралась дальше делать? Кинуться к парочке, расцарапать обе лучащиеся счастьем физиономии? Или прокрасться следом, в «гнездышко»? Зачем? Скандал устроить? Или уж сразу поубивать всех? Угу. Очень умно. С машиной, брошенной впритык к запрещающему знаку под бдительным оком камер наблюдения? Ай, молодца!
Тебе мозг, что ли, отшибло, обругала Татьяна сама себя. Обругала – и как будто стало легче.
Хорошо, что этот сержант к ней подошел, а то ведь в таком состоянии черт знает еще каких глупостей могла бы наделать.
Да, сперва она действительно не поверила Женькиному сообщению. Долго не верила. Минуту. Или даже две. Женькин голос еще бубнил в трубке про «сама можешь убедиться», а Татьяна уже все просчитала, прикинула детали и обстоятельства, сравнила прошлые с нынешними – и поверила. Точнее, признала, что услышанное, вероятнее всего, правда. Так что разговор пришлось заканчивать, что называется, «на зубах».
В школьные времена Татьяна бегала на лыжах, поэтому очень хорошо знала, что такое – заканчивать дистанцию «на зубах». Старт и первые километры – чистый восторг: стремительное скольжение, почти полет, ветер в лицо, радостные вопли болельщиков, высоченное синее небо, сверкающий снег. Потом перестаешь видеть и небо, и снег, и даже лица по сторонам трассы сливаются в однообразную, тошнотворно пеструю массу, которую тоже, в общем, не видишь. Остаются только ноги и руки. И стиснутые зубы. И лыжня перед глазами. Правой, левой, правой, левой, правой, левой…
Ни Кулаковой, ни Вяльбе из нее, к счастью, не вышло. Да и что это за профессия – на лыжах бегать? Но, когда по телевизору показывали лыжные гонки, Татьяна очень хорошо понимала, почему, перетащив себя за финишную черту, спортсмены падают на снег, убитый десятками ног до асфальтовой твердости. Падают, потому что нет сил даже отстегнуть лыжи, только – чтобы втягивать сквозь зубы колючий неподдающийся воздух, еле-еле проталкивая его в пересохшее горло. Это и называется добежать «на зубах».
Может, если бы Женька рассказывал не по телефону, ей и не удалось бы столь успешно изобразить веселое равнодушие. Скрыть навалившееся пыльной сухой тяжестью отчаяние. И ненависть. Испепеляющую неудержимую ненависть. За каким чертом он вообще позвонил?!
О да, да, конечно, не убивай вестника, он просто вестник, он ни при чем.
Вот только этот «вестник» был очень даже «при чем». Может, Женька даже и сам искренне полагал, что рассказывает ей о вайнштейновских «шалостях» по-дружески, из хорошего отношения, он же верный рыцарь, они старые друзья, как же иначе! Но в самой глубине сознания, где гнездятся самые тайные – самые истинные! – побуждения, наверняка, наверняка копошилась-таки мыслишка – а вдруг? Это и дураку ясно. А дурой Татьяна не была. Никогда. И ей совсем не стыдно было колоть верного Женьку в стародавнее, тайное больное место. Сам виноват.
Разумеется, она сыграла все безукоризненно. Веселое недоумение, самая капелька брезгливости, ленивое равнодушие – все натурально и абсолютно убедительно. Да и инерцию мышления никто не отменял. За прошедшие двадцать лет все – и Женька в первую очередь – твердо уяснили: она, Татьяна Иволгина, ни в ком не нуждается. Если «нуждаться» означает – чувствовать необходимость. «Как пища в голод, мыслям ты необходим»[13]13
Шекспир. Сонет № 75.
[Закрыть] – о нет, нет. Ничего подобного!
Никто ей не «необходим», в том числе и Вайнштейн. За десять лет после рождения дочери она совершенно точно убедилась: без «него» жить не только можно, но и очень даже распрекрасно. Может быть, даже еще и лучше, чем с ним. Во всяком случае, легче, это точно. Свободнее, веселее, безмятежнее. «С ним» было тяжело. С ним и сейчас тяжело. Творческая личность, чтоб его черти взяли со всеми его страхами, сомнениями и сосредоточенностью исключительно на собственных мыслях.
Так почему же сейчас?.. Зачем ей Вайнштейн?
А вот затем. Потому что она сама так выбрала. Не потому что не могла «без него», а потому что предпочла «с ним».
Чай и сам по себе хорош. Но чай с лимоном – вкуснее.
Когда-то давно, в «прошлой» жизни, Татьяна называла его и Марком, и Морковкой, и даже Ваней – потому что Вайнштейн – да как только не называла! В нынешней, сегодняшней действительности – по крайней мере вслух, кроме разве что спальни – только Вайнштейном. В этом была некая отстраненность, некая холодноватая ироничность. Мы же взрослые люди, какие-такие нежности?
Но жить она выбрала – с ним. Потому что чай с лимоном – вкуснее. Душистее. Более чайный, что ли.
Очень вкусно было сидеть неподалеку, смотреть и ждать, когда он улыбнется. Улыбка преображала Марка совершенно. Длинное хмурое – почти унылое – лицо становилось вдруг открытым, радостным и немного удивленным. Как у мальчишки, который уверен, что мир состоит из миллиона интереснейших вещей, и страшно хочет каждую из них заполучить, разобрать, а потом собрать, и готов принять в это увлекательное дело любого, ведь вместе гораздо веселее! Правда, улыбался он редко. Но вкусно было даже просто глядеть и знать: там, в этой вот до сих пор лохматой голове, под кожей, за тонкой костью – сколько там того черепа? несколько миллиметров? – там бродят странные, непредставимые, непостижимые мысли. Конечно, бродят. Откуда бы иначе брались книжки?
Столкнувшись тогда с Марком на издательской конференции (или презентации, что ли?), Татьяна сперва почувствовала изрядную неловкость. Дружелюбно улыбалась, с хорошо сыгранным интересом расспрашивала о делах, изображала радость встречи – а сама только и думала, как бы свести эту самую встречу к нулю. Мало ли что там было десять лет назад! Что было – все отгорело, и пепелище быльем поросло.
Неинтересно. Не нужно. Смотреть нужно только вперед – какие бы радости и вкусности ни оставались там, в прошлом. Если оглядываться – непременно споткнешься и упадешь. Только вперед.
Как это он ухитрился всучить ей свою рукопись?
Какое там – оглядываться! Это было такое «вперед», что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Впрочем, почему – было? Татьяна чувствовала это стремительное, неудержимое, увлекающее и увлекательное движение каждый раз, когда погружалась в новую рукопись.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































