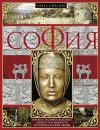Текст книги "Михайловский замок"

Автор книги: Ольга Форш
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
– Однако для Суворова будет тут плохо, – сказал Воронихин, – придется ему из австрийских рук смотреть.
– Посмотрит он, черта с два, – вспыхнул обидой майор, – да разве ему не привычно без австрийцев дело решать? Он баталию на один собственный страх любит вести. Было дело в восемьдесят девятом, разгромил он турецкий фланг и решил фронт переменить. Нам сказал, австрийцам же ни гу-гу, вот обиделись! Зато баталия без проволочек – победная. И посмеяться над ними умеет. Под тем же Рымником набрали мы турецких пушек. Австрийцы вцепились к себе, а наши, натурально, – к себе. Как обычно, наш старик в самую гущу ввинтился, кричит: «Нашли о чем спорить! Дари, ребята, все пушки союзнику, где ему, бедному, еще взять! А мы себе получше добудем». Хохочут ребята: давись, Австрия, турецкими пушками.
Майор хохотом, словно громом, наполнил чопорный кабинет Воронихина, всем стало весело.
– Суворов ни в чем общему порядку не следует, так осудительно говорят про него при дворе, – заметил Воронихин, то-то загнали его в Кончанское. Без своего дела давно сидит…
– Да не усидел, – подхватил майор, ему вот семьдесят стукнет, а помоложе-то никого, чтобы русское войско прославить, когда час пробил. Сам государь в карман гонор спрятал, на все суворовские причуды сквозь пальцы глянул – вызывает ведь.
– По всему, что я слыхал про Суворова, – вступил наконец и Митя в разговор, – он, помимо гения воинского, и крепостью характера невиданный человек. Откуда только свою силу берет! Невелик, слаб здоровьем…
– А духом-то? – прервал Дронин и всем существом своим выразил восхищение. – Наш Суворов духом гигант. Во славу России воюет, и весь народ, как земля, его держит. Сам-то, конечно, здоровья хилого, худ, невелик – воробышек некий, однако ни жара, ни мороз его не берут. Насмотрелись мы в походах – всем пример. Закалил он себя, не жалеючи, – вот и сила его. И в солдатской любви. Не шпицрутеном – своим сердцем он солдатское взял, то-то в его руках тысяча штыков десятка тысяч стоит. А почему? Из дерева высечь искру умеет и получает огонь и пламень. У других же полководцев, особливо на прусский манер, живой солдат в дерево обращен. Еще в давности когда он под Кунерсдорфом воевал, хорошая, говорит наш фельдмаршал, вышла школа на чужих ошибках. «Насмотрелся я там Фридриховых правил, с которыми он чуть Пруссию не упустил. И создал понемногу свои правила, навыворот прусским». И что же, спрошу вас, воспоследовало?
Майор – небольшой, крепкий – круто, как ядрышко, вертелся в кабинете, перебегая от Воронихина к Мите, дополняя жестом пламенность чувства.
– А воспоследовало от применения суворовских правил следующее: военная служба у всех – пугало, а у Суворова служить – превеликое счастье. Он отец-командир, и семья при нем выходит одна, военная. Каждому она – родной дом. У пруссаков не семья – точный механизм часовой. Заведен – идут часы, но человек из солдат вовсе выхолощен. Истинно тупозрячие. А у Суворова каждый станет героем, потому сам он истинно герой и до себя всех подымает…
Майор подошел к Воронихину, с трогательным доверием сказал:
– Ну, кто я был, когда к нему попал после вам известной моей несчастной истории? Как узнал, что жена моя себя порешила, ведь поехал я на турецкий фронт одной только смерти искать. А нашел-то благодаря ему не смерть, а воскресение из мертвых. Кисель я был, недоросль балованный, от первой в жизни беды распустил слюни. Суворов – отец он мне оказался – от себя самого спас. Мои растрепанные силы к новой, благородной и мне доселе неведомой цели собрал. Мозги мне своим примером прочистил, до сознания довел, что нельзя весь смысл в своем курятнике полагать, когда родина твоей доблести ждет…
– И вы под Измаилом дрались? – с загоревшимися глазами спросил Митя.
– А как же, я тогда несколько другим человеком стал. Разжег нас Суворов неприступную крепость эту забрать. А Измаил-то рвом широченнейшим окружен – в глубину не мал, водой все полнехонько. А над рвом этим вал, сажени в три. Ну-кась, перемахни. Гарнизон турецкий стянут с окрестных все крепостей, и приказ дан с угрозой – долой башку, коль сдадут. Над гарнизоном наилучший ихний паша – Акдос-Мохмет. А как на нас в Европе смотрели: не взять нам Измаила, не быть России великой державой. Решающая баталия. А у нас ни осадной артиллерии, ни войск. Большинство – казаки – не тем сильны, чтобы крепости брать. Но раз невозможное дело совершить надлежит, кого выбирать? Суворова. Потемкин что-что, а приказать умел: атаковать Измаил, взять! Осмотрел неприступную крепость наш старик вдоль и поперек, отвечает Потемкину: обещать нельзя. Однако сам, между прочим, не медля ни минуты, к штурму готовится. Ну, в подробности вдаваться не стану, до завтра мне не кончить, как начну. А в краткости скажу, вспомня главное; созвал Суворов совет, объявляет: хоть Измаил неприступен и гарнизон нас сильней, однако я решил его взять либо сложить свою голову под его стеной. И на рассвете предложил штурм… И ведь до чего бедовый старик, – любовно рассмеялся майор, – сераскиру еще послание закатил: «Прибыл Суворов брать Измаил. Двадцать четыре часа на размышление – воля. Первый мой выстрел уже неволя. Штурм – смерть». Затем преспокойно объехал полки, со всеми вел свой короткий суворовский разговор, после которого ему все как богу поверили и в победу полную уверенность возымели. То есть сомнения ни малейшего, чародей он, ей-богу. Спокойно колоннами войска ко рвам подошли, и фашины свои во рвы побросали, и лестницы как надо подставили, и на вал взобрались. И в ответ на бешеную защиту турок с «фурией необычайной», как любил он выражаться, накинулись на врага. Как про это дело вспомню, так в ушах и стоят: «Ал-ла!.. Ур-р-ра!..»
Майор закричал во всю богатырскую глотку, забыв в своем увлечении, где находится. Двое слуг испуганно вбежали в кабинет. Воронихин только махнул им с улыбкой рукой, и, поняв, что господа забавляются, представляя войну, они чинно удалились. Майор, ничего не видя, продолжал свой рассказ:
– Со всех сторон к вечеру прорвались в Измаил колонны наши и зажали турецкий гарнизон. Комендант-паша убит, из конюшен вырвались бесноватые тысячи жеребцов, буря, адский огонь, безошибочный суворовский бой. Измаил наш. Свершилось дело, по аттестации самой императрицы, «едва ли в истории где находящееся». Кем совершено? Суворовым.
– Однако Екатерина даже фельдмаршала ему за него не дала… – начал было Воронихин.
Но майор, вытирая вспотевший лоб белым платком, взмахнул им, как флагом, прокричал:
– Интриги… зависть. Такова участь величайших благодетелей человечества – одарять его бескорыстнейше. А в смысле мелком, житейском, причина такова – большие обиды светлейший князь от Суворова терпел. В языке наш несдержан. Не однажды высмеивал Потемкина за леность, пиры и роскошество. Особливо утомил тот его вялостью, как расселся перед Очаковом и ни с места. Суворов и пустил известное всем словцо: «Одним поглядением крепостей не берут». Донесли. Еще и стишок он пустил: «Я на камушке сижу, на Очаков я гляжу» – донесли. А после Измаила, своего неслыханного геройства, Суворов окончательно Потемкина оборвал. Тот ему сверху вниз, как со всеми привык говорить: «Чем могу я вас наградить?» А наш-то в ответ с изумлением: «Вы меня? Да ничем. От одного господа бога себе жду награды…» Дождался. Вместо фельдмаршальского жезла и почета его в Финляндию почти на штатскую службу государыня упекла. Однако все же Суворову было легче в Екатеринино царствование, чем сейчас. Царица его хоть не любила, да ценила, а Потемкин кое в чем одного с ним мнения насчет солдата был, что для Суворова важнее персонального к нему фавора. Потемкин облегчение солдату в амуниция сделал – «солдатский туалет таков, что встал да готов». А ныне-то: шагистика, фрунт, коса, шпицрутен, Сибирь… За непризнание таковой науки и посажен в Кончанское. Ну и отрубил он, как на камне вырезал, свой приговор подобным свыше распоряжением: «Строгость от прихоти есть тиранство».
– Что старое поминать, дорогой Иван Петрович, – примирительно сказал Воронихин, – сами говорили, сейчас Суворов опять вознесен будет. Опять понадобится России.
– И как бы мог не понадобиться, ежели он первейший полководец и первейший по качеству человек? – с гордостью и чувством закончил Дронин и, вдруг глянув на стенные часы, смешался. – Ах, батюшки, у меня ж свидание важное по поручению фельдмаршала. А я столь задержался…
– Из-за него же и задержались, – улыбнулся Воронихин. – Это простительно; будь я помоложе, после вашей блистательной ему аттестации непременно просился б к нему волонтером.
– На своем месте и вы, Андрей Никифорович, первейший хозяин, что ни построите – на мраморной доске надлежит написать золотыми буквами, потомкам на память.
Крепкий, подвижной как ртуть, Дронин попрощался с Митей и Воронихиным рукопожатием сильной руки, словно передавая свое здоровье и свежесть чувств. Он позвал их обоих зайти к нему как-нибудь на днях посмотреть какой-то необычайной масти жеребца, интересного для живописной картины, и ушел быстрым военным шагом.
– Понравился тебе, Митя, мой земляк?
– Очень понравился, – улыбнулся Митя, – хандру он снимает. Повеселело, словно с ним вместе лесной воздух ворвался.
– А ты обратил внимание, Митя, на главную часть его рассказа, что таковым он совсем раньше не был, напротив того, аттестовал он себя погибавшим от разбития личной судьбы. Ведь это не кто иной, как Суворов его воскресил…
– Не пойму, куда вы клоните, Андрей Никифорович, – насторожился Митя, – ведь не в волонтеры же мне проситься к Суворову?
– Почему бы и нет, – сказал Воронихин своим приятным, слегка наставительным голосом, – если пребывание в его войсках превращает недоросля, разбитого жизнью, в отлично свинченного, нужного человека, каким оказался Иван Петрович Дронин. Еще сходим к нему, присмотрись. А то порекомендую тебя как подходящего художника, им в походах весьма будешь кстати. А случится опасное дело – от него не откажешься, – ты ведь, знаю, не трус. За время же твоего отсутствия, надеюсь, Маше добудем свободу, ко всеобщей радости. Ты можешь вернуться прославленным, с новым совсем положением. Чем судьба не шутит? – Воронихин взял Митю за руку. Подумай-ка.
– А ежели буду убит, либо хуже того – изуродован?
– Я с судьбой не привык торговаться, – суховато отозвался Воронихин, по мне всего лучше тут эти слова: «Либо пан, либо пропал».
– Андрей Никифорович, простите, ежели дерзок покажется мой вопрос: я слышал, задача масонского ордена – создание высшей породы людей, лучших, чем обычные люди… Но как, в таком случае, члены подобного ордена терпеть могут рабство? Прошу вас, скажите, многие ли отпустили на волю своих крепостных?
Воронихин нахмурился. Митя попал в больное его место.
– Один Гамалея отпустил, – сказал он угрюмо, – один из всех нас он роздал свое имущество отпущенным на волю всем крепостным и остался гол как сокол. Последователей не нашлось.
– Но сейчас, Андрей Никифорович, во что сейчас вы верите?
– Только в лучшие будущие времена, – ответил со всей серьезностью Воронихин. – Не скоро, но таковые настанут. А сейчас вашему поколению надлежит самих себя создавать, людьми делаться такими, которые достойны будут принять новую, лучшую жизнь. И еще раз, Митя, совет: с твоей разбитостью, оставшись здесь, ты никуда не выберешься. Судьба предлагает тебе нежданную помощь – великий и доблестный пример человека, у которого слова не расходятся с делом. Воспользуйся не колеблясь.
Митя благодарно взглянул на Воронихина.
– Вы – как отец мне, Андрей Никифорович.
Глава одиннадцатая
Денщик Прохор, вдруг отрезвевший после обеденной выпивки при виде лихой фельдъегерской тройки, свернувшей к дому Суворова, ворвался к нему в комнату и испуганно прошептал:
– Фельдъегерь жалует…
Суворов сильно побледнел, забилось сердце, и в голове пронеслось: дождался.
– Открыть ворота! – приказал он.
И, не забыв заложить закладку, вышитую крестиком дочкой Наташей, на оборванном чтении любимой книги о деяниях Петра Великого, он прошел к теплой печке и стал прямо, словно во фрунт, прислонясь спиной к расписным изразцам.
Суворов недавно послал государю просьбу о разрешении идти ему в монастырь. Он был истомлен вынужденным бездействием ссылки, тоской и обидой на Павла, которому не мог помешать калечить на прусский образец любимое войско. «Каждый солдат мне дороже себя, – говорил, не скрываясь Суворов, – а у нас он подчинен ныне прихотям и тиранству. За солдата я кого угодно себе воздвигну врагом».
И воздвиг – самого императора.
– Покажет, он мне тихую обитель в сибирской тайге, – шептал Суворов, ожидая фельдъегеря.
Но вторично распахнулась дверь, и, улыбаясь восхищенно, Прохор возвестил:
– Обознался я. К нам генерал Толбухин приехали!
– Проси, проси… – И Суворов сам кинулся в прихожую.
Толбухин был одним из немногих приятных ему генералов, присылка его в Кончанское означала царскую милость. Не изгнание, а почет.
В передней обнялись. Сбрасывая на руки Прохору, теперь уже опьяневшему от счастья, обширную волчью шубу, которую не прошибают никакие морозы, сановитый Толбухин, уважительно поклонившись Суворову, произнес:
– С великой вас честью!
Войдя в горницу, он вручил большой пакет с царской печатью.
– Его императорского величества собственноручное вам письмо!
Суворов сломал печать и прочел послание Павла: «Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитываться. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а ваше – спасти их. Поспешите приездом сюда и не отнимайте от славы вашей времени, а у меня удовольствия вас видеть».
– Пригодился Суворов! – усмехнулся фельдмаршал. Глаза его загорелись веселым лукавством. – В монахи-то, пожалуй, мне отложить?
– Это Питт, английский премьер, предложил вас союзной армии, – сказал Толбухин, – а министр австрийский Тугут, слыхать, упирался. Боятся они вас, однако пришлось уступить.
– Тугут! – воскликнул Суворов, и слабый румянец вспыхнул на его тонком лице, где, как на лице Вольтера, ничего не было лишнего, мертвого, не выражавшего силы, мысли и воли. – Сия сова или сошла с ума, или его никогда у ней не было! Засел в своем гофкригсрате и оттуда, за сотни верст, мнит управлять своей армией. То-то французишки бьют их. И не зря они меня боятся: я ихнего венского кабинета слушать не стану. И персонального себе профита австрийцы пусть не ждут от меня – я им не каштанный кот из огня каштаны таскать!
– Наши войска, согласно союзному договору, двинуты против Франции… – осторожно начал Толбухин, но Суворов быстро прервал:
– А коли двинуты – о чем и говорить? Теперь только нам побеждать во славу оружия русского! А сие возможно, ежели воевать будем по-русски, а не как нынче обучены все Тугутовы да и наши – по-прусски. Когда я молод был, мы Фридриха бить ходили, и аттестовал он нас так; московиты суть дикие орды. Зато после Кунерсдорфа редакцию изменил: этих русских, сказал он, можно всех до единого перебить, но не победить. А не он ли кричал, не помня себя, когда проиграл баталию: «Ужели для меня не найдется пули?»
И с обидой, заново вспыхнувшей, за свое возлюбленное войско, замученное павловской муштрой, Суворов выкрикнул:
– Ежели русские всегда били прусских, что ж и перенять нам у них?
Поужинали рано и пошли на покой. Выезжать надлежало на рассвете.
– Проша, – сказал, словно робея, Суворов, – ты бы у старосты в долг раздобыл. Путь-дорога нам дальняя, а у фельдмаршала денег-то…
– В кармане вошь на аркане – известное дело, – докончил Проша и пошел к Фомке-старосте.
Достал двести рублей.
Всю дорогу Суворов погружен был в глубокую думу. Лицо его, пленявшее быстрой сменой выражений, как бы замерло. Большие веки прикрыли зоркие глаза, он весь ушел внутрь себя. Он готовился к великому бою… Несмотря на большой соблазн предложения Австрии, он твердо решил взять командование союзной армией только в том случае, если Павел не свяжет его никаким обязательством следовать в предстоящем итальянском походе его прусским затеям.
В свою очередь и Павел немало волновался, ожидая Суворова. Прежде всего он боялся, что строптивый старик не поедет вовсе, и что же тогда с ним прикажете делать? Сейчас, ввиду внимания к нему всей коалиции, не ссылать же его, в самом деле, в Сибирь?
Со все растущей обидой вспомнил Павел, как в последнем свидании тщетно уламывал фельдмаршала вступить вновь на службу; как на разводе, куда Суворов был им приглашен, единственно из уважения к нему солдат пустили «в штыки», а Суворов развода не досмотрел и уехал раньше его, императора, явно придумав зазорный предлог: «Помилуй бог, схватило брюхо!» Припоминал Павел, шагая взад и вперед по опостылевшему покою Зимнего дворца, из которого все еще не удалось переехать в Михайловский замок, и все уже ставшие поговоркой народной издевательские словечки Суворова над введенной им формой одежды, над косой, треуголкой и пудрой. И как при встрече с ним Суворов нарочно не мог вылезти из дверцы кареты: все будто путался в ней со своей шпагой нового образца под приглушенный хохот придворных.
«И какой только силой этот старик побеждает, воюя противу всех воинских правил?» – с досадой спросил себя Павел. Тут же с радостью вспомнил отзыв завистливого царедворца, услышанный им намедни: у Суворова не искусство военное, а чистый натурализм, сиречь – случай, безумие, счастье. Однако сей натурализм немалую нам снискал победу при матушке – под Рымником Суворов побил с двадцатью пятью тысячами сто турецких, а при Козлудже с восемью нашими вражеских сорок.
Павел подошел к высокому готическому шкафу, вынул старую книгу в кожаном переплете и сел в кресло. Он раскрыл Сен-Мартена на главе «О священной иерархии» и прочел знакомые страницы, которые неизменно подкрепляли его веру в свое высшее право и значение.
Выходило, что монарх – орудие самого бога, и на нем, после помазания на царство, как на лице духовном, почиет благодать.
«Коль скоро я не самовольно на троне, как моя покойная матушка, гордо думал Павел, – я самим рождением моим поставлен над всеми, то сим правом обязан воспользоваться. Более того: обязан настаивать, хоть бы с применением силы, на исполнении воли моей».
А воля Павла была выражена еще в той записке, которую, будучи наследником, он подавал Екатерине о необходимости ограничить людей, от фельдмаршала до рядового, столь подробными на все инструкциями, чтобы ни мысли собственной, ни самоволия иметь не могли.
Тем более сейчас больная душа его находила недостающую ей опору в механичности порядка, доведенного до того предела, где и лишний вздох становится проступком.
А строптивый фельдмаршал, ему не раз доносили, во всеуслышанье объявлял: «Действуй неустанно собственным разумом – будешь жив, человек!»
Усилием воли Павел отогнал от себя распалявшие гнев воспоминания о Суворове. Сейчас все-таки самое главное – чтобы он приехал.
Наконец бешено примчавшийся курьер, предваряя фельдъегерскую тройку, привез известие, что фельдмаршал вот-вот прибудет в Петербург.
У Павла отлегло от сердца – не посмел ослушаться! Но тут же привычная подозрительность влила свою отраву:
«За легкими лаврами старик поспешил, думает, за горами мне его не достать. А ну, как разложит он мне самовольством всю армию? Досмотр за ним нужен, досмотр…»
И Павел велел призвать к себе генерала Германа.
Недаровитый, старательный служака, этот генерал, всем подтянутым видом отвечавший требованиям Павла, изобразил на тусклом лице своем одну готовность слушать и исполнять.
Павел сказал:
– Венский двор просил меня начальство над союзными войсками вверить графу Суворову. Предваряю вас, что вы будете все время его командования иметь за ним наблюдение и соответственно делать доклады об оном. Не допускайте его увлекаться своим воображением, заставляющим его забывать все на свете.
– Ваше величество, – оторопев от испуга, сказал Герман, – но фельдмаршал ведь всемирно прославлен победами, и ему шестьдесят девять лет…
– Нет ему возраста, – оборвал Павел, – а его своеволию нет предела. Исполнять, что приказано!
Доложили Суворова. Павел, сильно волнуясь, сделал несколько шагов на середину покоя. Суворов вошел.
Обычная легкость его существа, от усилившейся худобы и болезней стала какой-то невесомой, крылатой. Казалось, он освобожден от всей земной тяжести и, если захочет, может взлететь. Гармоничность его быстрых мелких движений и соразмерность всех членов создавали впечатление отлично подогнанного легчайшего механизма, вместе с тем не хрупкого, но обладающего гибкой крепостью стали.
От нервного возбуждения сейчас особо подчеркнут был мускул правой щеки, чуть змеилась улыбка. Его глаза, широко раскрытые, синие, полны были такого зоркого огня, такой превышающей силы, что Павел вдруг смешался и не знал, что сказать.
Суворов поклонился согласно этикету, но заговорил первый:
– Ваше величество! Во славу моей родины приношу жизнь мою и все мои знания. Но слушаться гофкригсрата, – воля ваша – не стану! За тысячу верст невозможно баталией руководить. Одна минута решает исход. Один час – успех кампании. Один день – судьбу империи. Коли я полководец – сам действую, сам решаю; сам отвечаю.
Павел сделал еще шаг к Суворову и внезапно для себя самого вдруг сказал;
– Воюй как умеешь…
Очень скоро Суворов уже несся в дорожной кибитке в Вену с неизменным своим спутником, денщиком Прошкой.
После прощальных возлияний с приятелями Прохор мирно похрапывал, а Суворов никак не мог успокоиться на кожаных подушках сиденья: то он вскакивал, наклоняясь вперед, как бы стремясь еще ускорить бег коней, то, взобравшись высоко, говорил сам себе:
– «Воюй как умеешь» – вот это дело! Ну и повоюем же мы…
Прохор проснулся и ворчливо сказал:
– И мягко, кажись, вам и тепло. Чего еще требуется? А человеку из-за вас не вздремнуть.
– Торжествуй, Проша, – Суворов хлопнул денщика по колену, – первая наша победа одержана. Как в поход тронемся, окаянную косу всем прочь!
– И дело, – согласился Прохор, зевая, – давно б ее крысам сожрать.
Митя уехал с Дрониным вслед Суворову. Он виделся с Машей перед своим отъездом на плацу Коннетабля после развода. Случилось так, что Павел как-то, внезапно обернувшись, увидал смотревшую на развод Настеньку Берилеву, лично известную ему балерину. Вместе с подругой она прибежала сюда к своему воздыхателю на свидание, но государь пришел раньше обычного и, подбежав к балерине, грозно спросил: «Вам что здесь надо, сударыня?»
– Ваше величество, мы пришли любоваться, влекомые красотой сего военного зрелища, – окунаясь в придворном реверансе, сказали обе подруги.
Павел улыбнулся, и назавтра императорский балет получил приказ ежедневно присылать наряд балерин присутствовать при разводе, если он столь сильно их восхищает. Немало досталось от подруг Настеньке Берилевой. Однако воля государя священна, и несчастные балерины, проклиная разводы и парады, принуждены были вставать еще раньше, дабы не явиться после государя. Пока Гертруда была заступницей Маши, ее не назначали на это досадное дежурство, но едва стало известно, что положение ее заколебалось, тотчас ее зачислили в список «разводных» балерин. Митя узнал, что Маша должна быть в «наряде», и поторопился увидеть ее по дороге домой.
Маша была предупреждена Митиной запиской о том, что ему необходимо ее повидать. Сильно волнуясь, она незаметно отстала от подруг, обещавших скрыть от надзирательницы ее недолгое отсутствие, и села на скамью под одну из древних елизаветинских лип, только что скинувшую зимний снег и особо отчетливо на бледно-голубом небе выделявшую сложный рисунок черных ветвей.
Воронихин рассказал ей, что Митя счастлив, узнав про ее действительные отношения с князем Игреевым. Но Машу это не обрадовало, как можно было бы ожидать. Ее гордость была задета, и сейчас, ожидая Митю, она, несмотря на счастье опять увидеть его, говорить с ним, горько думала о том, сколько примеси самолюбия в мужской любви.
– Ты меня простила… пришла? – сказал незаметно подошедший Митя, опускаясь рядом с ней на скамью и беря ее за руку. – Отчего же я должен был узнать от других, а не от тебя самой, что ты не состоишь в фаворитках Игреева? – с нежным упреком вымолвил Митя, вглядываясь жадно в похудевшее, но ставшее еще прекраснее лицо Маши.
Маша, слегка покраснев, сказала:
– Судьба моя и сейчас на волоске; как и раньше, я завишу от прихоти князя. На мое счастье, он стал увлекаться Тугариной, а у нее расчет – за него выйти замуж. Но все может опять измениться. Словом, счастья со мной я тебе не могу обещать, – сказала она со своей особой грациозной улыбкой, но фавориткой княжеской я не стану, в этом теперь можешь быть уверен, жизнь для меня уже потеряла заманчивость.
– А искусство? Оно ведь ревниво, ему надо всем жертвовать, – горячо спросил Митя, пытливо смотря в ее умные, усталые глаза.
– Если нельзя будет мне проявить это искусство, не замаравшись в грязи, – я и без сцены могу обойтись.
– Безмерно люблю тебя, Маша. Прости меня, прости, – и Митя, охваченный горьким раскаянием, целовал Машину руку, – разреши мне, как раньше, считать тебя моей нареченной невестой. И когда я вернусь, мы женимся, Маша.
Маша быстро повернулась, спросила в волненье:
– Ты уедешь? Куда и зачем?
Митя рассказал ей о знакомстве с майором Дрониным, о совете Воронихина, о все растущей своей уверенности, что ради грядущей их судьбы ему необходимо сейчас уехать в армию.
– Я боюсь за себя, если останусь здесь, – сказал, побледнев, Митя, – я дольше не могу вынести этого ужасного ожидания, я убью Игреева или себя. Если бы мое присутствие могло помочь тебе, Маша…
– Нет, – поспешно прервала Маша, – мне будет легче, когда ты уедешь, Митя! Пока я не свободна, нам видеться только мука.
Еще раз Митя встретился со своей невестой у Воронихина, куда пришел и Дронин, очень полюбивший Митю. Он поведал Маше, что считает ее жениха своим младшим братом и в случае какой с ним беды немедленно ее известит.
Митя и Дронин догнали Суворова в Митаве, где он на некоторое время остановился. В этом городе поселен был сейчас Павлом бежавший из Франции брат казненного короля, претендент на французский престол – Людовик Восемнадцатый. Представляться Суворову явились все придворные чины и в ожидании его появления занялись пересудами на его счет. Опасались, не явится ли старость помехою для снискания ему новых лавров, а России – победы. Некто, недалекого ума, позволил себе через переводчика допрашивать Прошку, какие именно медикаменты употребляет его барин, чтобы от дряхлости не дремать на коне?
– Пусть у него самого спрашивают, – велел переводчику ответить Прохор, – он им покажет кузькину мать! – И, найдя маловразумительным свой ответ, добавил еще несколько русских слов.
Последние, как и «кузькину мать», переводчик перевести не сумел. Прохор не настаивал и отправился к фельдмаршалу с докладом:
– Ответь, батюшка, им по-свойски.
– Сейчас, Прошенька, я отвечу, – согласился Суворов, и не успел тот ахнуть, как фельдмаршал, широко распахнув обе двери приемной и представ перед парадными мундирами в одном нижнем белье, громогласно возгласил:
– Суворов сейчас начнет свой прием!
Дамы в обморок: он в одном нижнем! Мужчины возмущены: выжил из ума, он погубит армию… Прохор сел на пол и гоготал:
– Ерой наш фельдмаршал, чистый ерой. Такого не было и не будет. Он врага в штык возьмет, он портками дуракам рот заткнет.
Митя был глубоко растроган, когда в Вильно, где стоял любимый суворовский Фанагорийский полк, к Суворову от имени всех солдат обратился гренадер Кабанов и просил его взять с собою весь полк в Италию.
Суворов, который особенно любил своих фанагорийцев, тоже расчувствовался, но принужден был отказать, потому что только один государь мог дать просимое назначение.
Митя чувствовал себя как бы вновь рожденным в чьем-то здоровом, молодом, налитом бодростью теле. Порой сердце ныло при воспоминании о Маше – не затаила ль обиду? Не груб ли он для ее гордого нрава со своей ревностью? Не нужно ли было еще раз повидаться? «Нет, – прерывал он себя, каждая встреча – новое страдание. Суждено быть вместе – мы будем. А нет – отрубить лучше сразу…»
И Митя, кроме необходимых зарисовок, указываемых ему Дрониным, сначала – чтобы забыться от непосильной тяжести, но вскоре увлекшись самим делом, упражнялся так усердно заодно с молодыми солдатами, что Суворов, узнавший от Дронина его историю, как-то сказал ему:
– А ты, братец, как будто не столь Аполлону, как нашему Марсу привержен? Что же, в атаку возьмем.
– В обозе не спрячусь, – ответил весело Митя.
Дронин все сильнее привязывался к Мите, найдя в нем себе нежданное обогащающее дополнение. При всей бурности темперамента Дронин души был простой и бесхитростной, а жажда Мити найти разрешение вопросов, которые ему и в голову не приходили, и занимала его и вызывала в нем уважение к молодому другу.
Митя жадно выспрашивал Дронина о предстоящей кампании, об отношении австрийцев к Суворову и скоро составил себе ясное понятие о новом, военном мире, куда попал нежданно-негаданно, как во сне.
Митя проникался все большей любовью к изумительному человеку и полководцу, которого теперь мог наблюдать своими глазами. Он знал от Дронина, как догадливо определил претендент на французский престол чудачества Суворова: «Это расчет ума тонкого и дальновидного», – и сам, присмотревшись, решил, что определение это правильно; оно было ключом к непостижимому для австрийцев поведению Суворова в Вене.
Кто для гофкригсрата был русский полководец? Чудак, дикарь, не умеющий вести войну по правилам, но которому непостижимо сопутствовала многократно проверенная удача.
Хотя высшая австрийская военная инстанция назначила Суворова главнокомандующим соединенной армии только благодаря настояниям Питта, однако в Вене создали не только внешний почет, но и оказали уважение общеизвестным причудам фельдмаршала.
Во дворце, где он был помещен, занавесили зеркала, для постели ему на узорный паркет, натертый до блеска, принесли охапку душистого сена. Не уставали лицемерно и преувеличенно восхищаться суровым распределением рабочего дня фельдмаршала. Вставал Суворов, как всегда дома, в четыре часа, обливался ледяной водой и в восемь уже обедал весьма скромными яствами. Он не посещал раутов, ссылаясь на нездоровье, так что император Франц, опасаясь нарваться на отказ, Суворова к себе и не пригласил.
Особенно торжествовал Митя, когда слушал рассказ Дронина о том, как явились к Суворову члены гофкригсрата, о котором он говорил обычно, расчленяя насмешливо длиннейшее слово на три составные и сопровождая каждое либо припрыжкой, либо преувеличенно уважительной гримасой:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.