Текст книги "Автор года – 2023. Сборник современной поэзии и прозы"
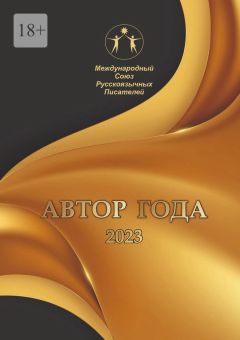
Автор книги: Ольга Пересадченко
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Мария Камушкова

Ходики
На стене старинные ходики
Отмеряют за часом час,
И под звуки простой мелодии
Мы танцуем любимый вальс.
Сколько вместе лет уже прожито,
Было всякое – боль и грусть,
Время нашу жизнь подытожило…
Сединой в висках, ну и пусть.
На окне герань разноцветием
Всё пышнее из года в год,
Душу радуя долголетием,
Нам любви и сил придаёт.
Сколько вместе лет уже пройдено,
Переплыто глубоких рек,
Но всё те же старые ходики
Отмеряют нам новый век.
Разногласия, красноречия
Мы в шкатулке резной храним,
А ещё одним летним вечером
Наше счастье добавим к ним.
Горизонт нас манит дорогами,
Лентой стелется ровный путь.
Ты махни рукой у порога мне
И в пути обнять не забудь.
На стене старинные ходики
Отмеряют за тактом такт.
Мы простую нашу мелодию
Вместе слушаем просто так.
Сколько прожито, сколько пройдено,
Но исправно стучат для нас
На стене старинные ходики,
Отбивая за часом час.
Письмо
«Ну здравствуй, это я, ну как дела?
Вчера в бою я был смертельно ранен,
Лишь про себя успел подумать: «Рано!»
А ты всё утро весточки ждала.
Стояла на рассвете у окна,
В кармане теребя платочек алый,
Но глядя вдаль, конечно же, не знала,
Что в этот миг осталась ты одна.
И не спешил усталый почтальон
К тебе прийти с такой тяжёлой вестью,
Он так привык с тобой нас видеть вместе,
Но, без сомненья, был в тебя влюблён.
Ты только, дорогая, не грусти,
Впусти рассвет в открытое окошко,
Ты подожди меня ещё немножко —
Моя душа уже к тебе летит.
А я пока пишу тебе письмо,
В нём о любви лишь три коротких слова,
Но знаю, скоро встретимся мы снова:
Ты верь, мы будем вместе всё равно.
Ну ладно, дорогая, не скучай,
Ты посмотри, какое нынче лето!..
Прости, что не дождался я ответа!
Целую и люблю! Твой Николай!»
Точка и зрение
Жизнь наши годы крадёт без зазрения,
Время меняет и точку, и зрение,
Катится солнце за новым вчерашнее,
Завтра придёт, чтоб о прошлом не спрашивать.
Звёзды порхают, сияя и падая,
Осень над лесом шуршит листопадами,
Снег серебрится полосками белыми,
Вдаль убегая ручьями несмелыми.
Жизнь с каждым годом мудрее становится,
Прошлого тень за туманами кроется,
С толку сбивая и точку, и зрение,
Время меняет своё направление.
Вихри под небом неистово вертятся,
С каждым падением в лучшее верится,
Эхом разносится грома знамение,
Ветер меняет своё направление.
Солнце к закату стремится размеренно,
Жизнь на века бесконечно разменяна.
Ветер вздохнёт и в одно лишь мгновение
Вновь поменяет и точку, и зрение.
Ностальгия
На чердаке, среди старого хлама
Лежат давно забытые вещи:
Вот самокат, что купила мама —
На нём теперь лишь множество трещин.
А самолёт, что дарили брату:
Давно разбился тот истребитель…
В тот день пилоту дали награду,
Теперь у брата личный водитель.
А эта кукла, что плачет вечно:
Её сестрёнка нашла под ёлкой.
И платья, шитые бесконечно,
Теперь не модны уже нисколько.
А этот стол: сколько в жизни видел!
Гостей, рождений, поминок, плясок.
И первый ламповый телевизор
Его как будто украсил сразу.
И тот комод, что давно без ножки,
В углу томится покрытый пылью…
И стопка книг в помятых обложках
Расскажет внукам, как это было…
На чердаке среди старого хлама
Лежит давно ушедшее детство…
А нам яичницу жарит мама.
Ну что ты? Вот же мы! Дай раздеться.
«Где-то там, нулевым километром непрожитой жизни…»
Где-то там, нулевым километром непрожитой жизни
Мы уходим в закат, раздвигая завесу небес.
И за точкой отсчёта немеет зеркал закулисье,
Отражая черты горизонта невидимый блеск.
Где-то здесь недосказанных слов нераскрытая тайна,
Мы уносим её, оставляя лишь памяти след.
А за серым туманом звенит колокольчик печально,
Навсегда разделяя дорогу на «было» и «нет»!
Тихо встав у последней черты неушедшего лета,
Мы махнём, обернувшись, дрожащей рукой в пустоту.
Может, вспомнят о нас на другом, не на том километре
И зажгут незаметно вон ту голубую звезду.
Где-то там, где в багряном закате купается солнце,
Мы присядем на миг перед тем, как уйти навсегда…
Слышишь, словно кудрявый мальчишка задорно смеётся
На другом километре, где ночью зажжётся звезда.
Париж
Я подарил тебе Монмартр,
Собор и Эйфелеву башню,
И это всё нарисовал…
Я на обоях в спальне нашей.
Едва к рассвету я успел
Шедевр свой праздничный закончить,
Как твой будильник зазвенел,
Что в чистом поле колокольчик.
И ты, прекрасна, как заря,
В рассвет вошла под солнца лучик,
И улыбнулась, говоря,
Что нынче сон приснился лучший.
Что снился сумрачный Париж,
Собор и Эйфелева башня,
Что на Монмартре ты стоишь,
/Но всё как будто в спальне нашей/.
А за окном осенний дождь,
Под ним, свиданья ожидая,
Продрог, но ты всё не идёшь —
Сегодня опера в Ла Скала…
А мы стояли у окна
В родной московской спальне нашей,
И сквозь осенний дождь видна
Была Останкинская башня,
Там Москва-Сити и Большой,
А там Арбат художник пишет…
Мы были счастливы с тобой
В том нарисованном Париже.
Осенний дождь стучит в стекло,
Промозглый ветер рвётся с крыши,
И так с тобой мне повезло
Пусть здесь, в Москве, а не в Париже.
Я приглашу тебя в кафе,
Где на двоих накрытый столик,
Приятный запах Нескафе
И мой рисунок на обоях…
Сидим счастливые вдвоём
На стульях, сдвинутых поближе…
И ароматный кофе пьём
В том нарисованном Париже.
По Сальвадору Дали
Взрывая интегралами нули,
Взрезают ночь небесные качели,
И сходятся под красками Дали
Хвост ласточки и скрип виолончели!
Даёт судьба неистовый отпор
Стенаниям великого маэстро,
Но снова боль вступает в разговор,
И стоптанное сердце рвётся с места.
Высок и нежен ласточки полёт,
Как состраданье, смешанное с горем,
Но в небо ей подняться не даёт
Виолончель своим жестоким воем.
Раскинув эфы выгнутой змеёй,
Скрипит по нервам, издавая звуки!
И, разрушая сладостный покой,
Ведут смычок невидимые руки.
Предвестником беды и катастроф
Последние штрихи на холст слетели,
Сведя под параллелями усов
Хвост ласточки и скрип виолончели.
Бабочки
Белых бабочек покрывало,
Паутинками бахрома.
Ты так часто любовь писала,
Что влюбилась в неё сама.
Мягкий локон ложится лентой,
Чертит кружево воротник.
А в пастельных штрихах портрета
Отражается нежный лик.
Чёткой линией спелых вишен,
Ярким проблеском карих глаз
Вся палитра как будто дышит,
В крыльях бабочек растворясь.
Всё вокруг наполняя светом,
Сотни бабочек пляшут твист.
А в пастельных штрихах портрета
Кружит первый осенний лист…
Ирина Арсентьева

Пир во время чумы
Ту минуту, когда тяжёлые серые тучи внезапно наползли неизвестно откуда, заволокли небо и опустились так низко, что казалось, что тотчас раздавят, никто не заметил… Просто не мог заметить. Минута во Вселенной тянется очень долго. Не так, как здесь, внизу.
«Хлеба и зрелищ! Хлеба и зрелищ…» – весело отбивают ритм всеобщего веселья ноги. Слышите? Пир во время чумы. Сколько раз это всё здесь уже повторялось? И повторится ещё не раз… Но без нас.
Во все времена хотелось и хочется хлеба и зрелищ, и поэтому слышится именно эта танцевальная мелодия, неизвестно кем сыгранная и умело навязанная. Он, этот кто-то, с копытами и рогами или с огромными крыльями из нежных перьев? Белых или чёрных… Для кого как…
Музыка никого не может оставить равнодушным, поэтому ноги сами уносят танцующих в головокружительный хоровод. Всех тех, кто её слышит… Сливаясь в едином порыве, они не замечают, что наверху именно сейчас вершится их судьба и судьба миллиардов других.
Неутомимо несётся по небу на колеснице ВРЕМЯ. Падают сверху зёрна будущих посевов. Не все из них долетают до нужной точки. Многие растворяются в пространстве веков. Но некоторые всё же долетают, и это вселяет надежду. «Что посеешь – то и пожнёшь», – так говорят. Что же посеет сегодняшний день?
Может, только там, где серые тучи ещё не успели скрыть прозрачности небосвода, прорастут несмелые всходы чего-то нового и очень нужного! Необходимого для будущих поколений.
А пока ноги отбивают ритм всеобщего веселья: «Хлеба и зрелищ! Хлеба и зрелищ…»
Пир во время чумы…
Погаснут свечи…
Этот музыкальный вечер для неё особенный. И не потому, что будет играть сам маэстро. И не потому, что свет увидит фантазийные работы известного кутюрье. Удастся ли ей скрыть от посторонних глаз то, что знают только двое. Вот что её тревожит…
Маленькими предательскими бесенятами вспыхивают в глазах отражённые всполохи свечей. Алеют щеки от близости возлюбленного. Припухшие губы беззвучно шепчут его имя.
Пальцы великого Шуберта касаются клавиш, и мелодия начинает вытеснять пространство и время, унося во вчера.
Она пытается не думать об этом, но взгляд художника, устремлённый на её вздымающуюся от частого дыхания грудь, заставляет дрожать от приятных воспоминаний. Беспокойные тонкие руки выдают волнение, и она пытается унять его, прикасаясь к прохладному атласу платья, и сосредоточиться на музыке.
Бесполезно: глаза её следуют за движениями рук по ту сторону холста.
…Смелые опытные пальцы скользят по шелковистой, почти детской коже, пробуждая первые желания. Вокруг никого. Только лёгкий вечерний ветерок шелестит колосьями, да монотонно жужжит запоздалая пчела, слизывая остатки сладкого лугового нектара.
Юное тело влажнеет в объятиях. Любовные капли росы и колоски, и пчелка-искусительница оттиском ложатся на гладкую ткань.
Кисть художника плавно выводит изгибающиеся в нетерпении линии, потом вдруг наносит несколько резких уверенных мазков, и всё замирает.
Не слышно голосов. Последний аккорд симфонии повисает в воздухе почти стоном… Гаснут свечи…
Март
Смотреть в окно и видеть, как обгоняют друг друга сапоги, – занятие для тех, у кого их нет! Не купили! Забыли. Не позаботились заранее.
– Чавк-чавк-чавк… – Ковыляет старик в калошах. Калоши на валенки натянул. Боится простудиться. Остановился, долго кашлял в шарф и кряхтел. А потом снова: – Чавк-чавк-чавк…
– Чок-чок-чок… – Скачут каблучки по бугоркам наледи. Девчонка на удивление не боится упасть, уверенно перепрыгивает через лужи. А в них облака отражаются – бегут. Бежит вслед за ними и девчонка. – Чок-чок-чок…
– Хлюп-хлюп-хлюп… – Топает мальчишка лет шести. Конопушки на носу. Старается обрызгать всех вокруг. Мать тащит его за руку, он упирается, а брызги из-под ног разлетаются, тяжело падая обратно в воду. – Хлюп-хлюп-хлюп…
– Шлёп-шлёп-шлёп… – Тётка с сумкой тащится еле-еле. Набрала продуктов впрок: соседки сказали, что будет дефицит. Присела на скамейку, передохнула. Потёрла руки. Платком промокнула испарину, выступившую на лбу. Вдохнула глубоко, собралась и обречённо почапала дальше. – Шлёп-шлёп-шлёп…
И никто не замечает весну! А ведь она совсем близко. Посмотрите, как голубеет день ото дня небо! Как воробьи, собравшись на кустике, что растёт у подъезда, радостно совещаются о чём-то. Строят планы, наверное. И солнце светит так, словно устроилось на работу растопителем снега. Растопит – и премию получит…
А сапоги всё чавкают, чокают, хлюпают, шлёпают…
Ольга Бажина

Вновь прощается лето золотыми шарами…
Вновь прощается лето золотыми шарами,
Словно солнца лучами стараясь согреть,
И готовится осень шальными кострами,
Рыжим пламенем бабьего лета гореть.
А из флоксов пока Август пеною брызжет!
В этом море цветочном тонет летняя тень,
Звездопад с неба льётся, осень ближе всё, ближе,
И редеет лесная пушистая сень,
Но, красуясь, Сентябрь бронзой, златом заблещет,
И, последнюю пышность и яркость даря,
Перелётными птицами вдруг затрепещет,
Чтоб совсем отпустить их в конце Ноября!
Затанцует Октябрь золотым листопадом,
А Ноябрь, обнажая деревьев тела,
Вновь с ветрами, дождями окажется рядом,
И в ознобе земля задрожит без тепла.
Но Декабрь проберётся к ней тайною тропкой,
Снежной шалью укроет ей плечи и грудь,
Чтоб она не замёрзла, и ласкою робкой
Отогрев, до весны даст спокойно уснуть!
Почему не спасся?
Он смотрел очами людям в души,
Отгоняя смерть от них рукой!
Кто его самозабвенно слушал,
Обретал и веру, и покой!
И в сердца вливались притчи-речи,
Верилось его словам, рукам.
Шли за сыном Божье-человечьим
Души, поднимаясь к облакам!
Он любил и праведных, и грешных,
Заблудившихся в судьбе прощал,
А кому-то виделось потешным
То, что он пророчески вещал!
А когда завыли фарисеи,
Не сознавшись в немощи пред ним,
Преданный народом Моисея
Он народом этим был гоним.
Не могли представить иудеи,
Чтоб пророк себя спасти не мог,
Что за их бессмертие радея,
Сына в жертву преподнёс им Бог,
Их грехи отмыв сыновней кровью!
Оставаясь верным до конца,
В муках сын ответствовал любовью,
Не предав небесного Отца!!!
Ты – женщина
Ты из ребра Адама появилась,
Как наш Творец однажды пожелал!
Когда же ослушаньем провинилась,
То Бог за это строго покарал,
Изгнав Адама и тебя из Рая!
Ты понимала, в чём твоя вина,
Свою судьбу земную выбирая,
Не ведая, как нелегка она!
Но, обладая нежным телом, кожей,
Не стала перед нею ты дрожать
И выбрала, что для тебя дороже:
Детей, что в муках предпочла рожать!!!
Сквозь Млечный путь и сквозь тысячелетья
Твоя душа за счастьем понеслась
И перед непогодой лихолетья
Сумела устоять и не сдалась!
Ты – женщина, и в рубище убогом
Ты будешь всех прекрасней на Земле,
Ты – избранная, созданная Богом,
С отметкою терпенья на челе!!!
Какие мы разные!!!
Природа поделила нас на нации,
Дав разный цвет, размер и форму глаз,
И в вихре ураганном информации
Заставив о добре забыть подчас
И чувствами не лучшими питаясь,
Вселяется в нас шовинизма бес,
И, превосходства спрятать не пытаясь,
Своё мы превозносим до небес,
Других культур порой не уважая
И нации другие унижая,
Себя считаем выше интеллектом,
Культурой, языком и диалектом!
Все остальные тёмные, заблудшие!
Но кто, когда сказал нам, что мы лучшие?
Нас сотворила разными Природа!
Но у любого на Земле народа
Средь гениев встречаются злодеи,
Аристократы духа и плебеи!
И в новомодном мире виртуальности,
Которым так гордится этот век,
Я знаю только две национальности:
Плохой или хороший человек!
Поэма о русской душе
Летний день своим теплом вливался,
Обнимал жужжаньем пчёл, шмелей,
Пенностью жасмина любовался,
Погружаясь в аромат-елей!
Солнечность кувшинок и купавен
Отражала озера вода,
Лилий белые тела купались,
Наготой своей гордясь тогда.
И в реке порою возникали
На воде круги и пузыри:
Тени рыбок под водой мелькали,
И кипела рыбья жизнь внутри!
Я шагал с этюдником, палитрой,
Краски спали в тюбиках пока.
И вышагивали в кедах быстро
Ноги городского паренька!
В день такой звенящий голосами,
Звоном пчёл, полётами стрекоз,
Радость излучалась небесами,
Солнце упивалось влагой рос!
Капли лишь травинкам оставляя,
Торопилось жажду утолить,
Светом глаз лучистых ослепляя,
Зноем с неба начинало лить!
А на берегу у гибкой ивы,
Где качался над водой тростник,
С шевелюрою седой красивой
В одиночестве сидел старик
И следил глазами за удою
И за колебанием блесны:
Ждал движенья рыбы под водою
И прыжка её из глубины!
Дед был сухопарый и высокий,
Сам похожий на тростник речной,
И такой безмерно одинокий
В этот летний жаркий выходной!
Что за мысль в мозгу его вертелась?
Может быть, о прожитом былом?
И тогда мне сильно захотелось
Поделиться с ним своим теплом!
«Не клюет, отец? – начать беседу
Постарался я. – Здесь рыбы нет?»
И в глазах почти бесцветных деда
Радости погасшей вспыхнул свет!
«Не клюёт!» И по акценту понял,
Я, что иностранец предо мной
«Немец я», – он голову приподнял,
Повернувшись вдруг к реке спиной!
«О, у вас не как у нас рыбалка.
Ведь в Германии и рыбы – тьма!»
«Юный друг, – сказал он, – мне вас жалко.
Для России Запад наш —тюрьма!
Вас манит Европы сладкий запах,
Кажется, что воздух в нём иной,
Но напрасно кажется вам Запад
Домом много лучше чем родной!
Западные блага для народа
Вашего видны со стороны,
В нём реальной кажется свобода,
Только в ней оковы не видны!»
Замолчал старик и, из кармана
Сигарету вынув, закурил,
На меня взглянул немного странно,
А потом опять заговорил:
«Ты не удивляйся, что умею
Я, как ты, по-русски говорить.
Не любить Россию я не смею
И готов раз сотню повторить!
Тот, кто вновь Россию проклинает,
Не поняв её души большой,
Истинной цены ей не узнает,
Не столкнувшись с русскою душой»!
Немец замолчал, блуждая взором,
Но когда опять поднял глаза,
На меня взглянул с немым укором,
А потом мне вот что рассказал:
«Воевал не по своей я воле —
Призван Третьим Рейхом на войну,
До сих пор сжимается от боли
Сердце за невольную вину
И за преступленья тех в России,
Чьим телам в земле её лежать
И кого к себе вы не просили
Издеваться, мучить, убивать!»
Курт, так было имя немца, снова
Нервно сигарету закурил,
Словно подавившись этим словом,
А потом опять заговорил.
«Как-то мы пришли однажды в город,
Что до основанья был разбит,
Нашей авиацией распорот,
Каждый дом, как человек, убит.
Вдруг увидел я среди обломков
На останках дома в кирпичах:
Грязный, бледный и худой мальчонка
С голодом, отчаяньем в очах!
У меня с собой был вкусный сладкий
Для солдата Вермахта паёк!
Протянул ему я шоколадку!
От меня отпрянул паренёк!
Я ему сказал: «Ты ешь, не бойся!
И меня не сторонись ты впредь!
Ешь спокойно и не беспокойся,
А не то, ведь, можешь умереть!»
Он зажал в руке подарок сладкий,
Чтоб пред искушеньем устоять,
И промолвил: «Эту шоколадку
Надо малышам – их целых пять».
А потом откуда-то, как мышки,
Предо мной возникли сразу вдруг
Пятеро: девчонка и мальчишки!
Шоколадку разделил им друг.
По кусочку каждому досталось,
Зажевала сладко ребятня.
Только для парнишки не осталось
Ни крупинки сладкой от меня!
На поступок этот благородный
Я без кома слёз не мог смотреть
И сказал ему: «И ты голодный,
Ты же тоже можешь умереть!»
Но в ответ: «Я не умру, не бойтесь!
Я смогу, я выдержу, клянусь!
Я ведь – русский, вы не беспокойтесь!
Я победы и своих дождусь!»
Перед несгибаемою силой
Духа русского склонился я!
Было имя мальчика Василий,
И ребята – не его семья!
Их дома обстрелами разбило,
К ним домой с войной пришла беда:
Всех родных бомбёжками убило,
Сделав их сиротами тогда!
Я несчастным русским ребятишкам
Сам продукты иногда носил,
Помогая выживать детишкам,
Кто меня об этом не просил!
А когда мои однополчане
Думали, что это для собак,
Я им отвечал своим молчаньем,
А они смеялись: «Вот чудак!»
А среди девчонок и мальчишек,
Что Василий смог спасти тогда,
Появилось десять ребятишек,
И для каждого была еда!
И они по крошечкам клевали
Всё, что я голодным приносил,
И в кашицу превратив, жевали
Тщательно, чтоб жить хватало сил!
Незаметное промчалось время.
В дни победной той для вас весны,
Отступая, покидал со всеми
Этот город я в конце войны
И пришёл с ребятами прощаться,
Чтоб сказать последнее «Прости»,
Чтобы никогда не возвращаться
К ним с войной на жизненном пути!
Но одна малышка вдруг взглянула
На меня с такою добротой
И свою мне куклу протянула —
Оберег теперь мой, дар святой!
Никому нельзя к ней прикасаться,
Кроме рук девчушки и моих!
Мне до смерти с нею не расстаться,
Этот дар не знает рук чужих
Это память о сиротке-дочке,
Что в российской родилась глуши,
Не от девочки он, а от ангелочка,
В ней частичка русской есть души!»
Замолчал старик, а под рубашкой
Я заметил куклу-оберег,
Что подарена сироткой-пташкой
И считал святыней человек!
Курт сказал, что никому на свете
Никогда народ не победить
И страну, где есть такие дети,
Что так могут верить и любить.
Что на свете нет души красивей
И бескрайней, как её поля,
Что планеты честь, душа – Россия!
Ей за жизнь обязана Земля!!!
Через час я с дедом распрощался
(Дома ждали ужин и семья)
И домой счастливый возвращался
И гордился тем, что русский я!!!
Ирина Шевчук

На берегу Японческого моря
Лето в тот год выдалось необычайно жаркое, сухое, но ветреное, что совсем нехарактерно для прибрежных районов Приморья, омываемых холодными водами Японского моря. Более привычными для местных жителей были прохладные июнь и июль, окутанные зябкими утренними туманами морские берега, прибрежные скалы и гладь устья впадающей в море реки. Такие летние туманные рассветы преобладали в здешних краях вплоть до августа, который потом щедро баловал жарким полуденным солнцем, ярко-синим небом и тёмными душными ночами, разукрашенными фейерверками искрящихся звездопадов. И лишь лёгкий морской бриз, подгоняющий пенные барашки волн, шуршащих морской галькой и вылизывающих солёными языками песчаные бухточки, приносил живительную прохладу и свежесть.
Небольшое село, раскинувшееся в уютной долине реки примерно в километре от морского побережья, между склонами Сихотэ-Алинских хребтов, словно вымерло от палящей полуденной жары. Стадо грязных совхозных коровёнок паслось на пойменном лугу, но их мирную трапезу изрядно омрачали неистовые кровососы – оводы и слепни. Обезумевшие от укусов животные не знали куда деваться: били себя по бокам хвостами, непрерывно трясли головами и вздрагивали телами. Некоторые бурёнки почти по брюхо залезли в болотистую жижу на берегу реки, ещё не полностью высохшую после недавних затяжных дождей. Другие ближе к полудню сбились стайкой в тени молодого березняка, но и там не находили спасения. И лишь старый скотник Захарыч, с раннего утра опохмелившийся самогоном, беззаботно и мирно дрых в тени берёзовой рощицы. Исходящее от него амбре не оставляло ненасытным жужжащим насекомым никакого желания присесть на его похрапывающую тушку и испить хмельной кровушки. Его престарелая лошадь лениво щипала тёплую, почти варёную на солнце траву, громко фыркала и трясла пегой гривой, отпугивая слепней. Когда раскалённое солнце перевалило за полуденный зенит, Захарыч вдруг вышел из нирваны. Линялая сатиновая рубаха, пошитая когда-то его рукастой старухой, прилипла к худосочному телу, пот ручьями струился по небритой, измятой временем и регулярными возлияниями физиономии, старая, потёртая кепка с изогнутым козырьком валялась тут же, в полёгшей от зноя траве. В штанах, не понять от чего, было мокро… Присев и тряхнув седой кудлатой башкой, Захарыч смачно сплюнул, потом хрипло прокашлялся и, окончательно придя в себя, начал осматриваться по сторонам. Недалеко от него в тени берёз паслась его старая кляча, а вот коров нигде не было видно.
– Наверное, в распадок подались, там прохладнее и ветерок свежее, – подумал горе-пастух и шаткой походкой пошёл к своей коняге.
Подойдя к кобыле, накинул уздечку, подвёл её к пеньку и, матюкаясь, с трудом забрался на раскалённую зноем лошадиную спину. Седло Захарыч не любил с детства и предпочитал всю жизнь ездить на лошадях с одной уздечкой. Когда его пытали любопытные односельчане: «А почему? Ведь в седле удобнее!», не заморачиваясь на объяснения, отвечал: «А потому! Зато заднице теплее, даже зимой!»
Направив кобылу в сторону березняка, начал осматривать распадок. Но коровёнок, которых в стаде насчитывалось больше пятидесяти голов, нигде не было. Проехав ещё немного вверх по ключу, стекающему в реку, он понял, что стадо двинулось через сопку к морскому побережью. Маршрут этот был привычным, известным и бурёнкам, и пастуху, ведь чем ближе к морскому побережью, тем прохладнее, и жужжащие насекомые меньше одолевают. Вялой поступью двинулась по проторенной широкой тропе лошадь, шумно втягивая ноздрями раскалённый зноем и пьянящий томным разнотравьем воздух. Дед в полудрёме покачивался на её широкой спине. Фляга с самогоном, прикреплённая к поясному ремню его штанов, была пуста. В голове гудело… То ли от кружащих вокруг насекомых, то ли от напавшего вдруг дикого желания глотнуть грамм двести живительной влаги. Нет, вода его не интересует! Вот она – журчит по каменистым перекатам в ручье – пей не хочу! Ему бы бабкиного первача для восстановления сил и водного баланса!
Старуха его регулярно гнала самогон на продажу. Дверь в их избе была открыта для местных выпивох круглосуточно. Да и его, старого беса, бабка не обижала, ведь он ей по хозяйству единственный помощник. Да и добытчик тоже. То рыбки наудит когда-никогда, пока коровки пасутся, а он при памяти да не с бодуна. То мяска с фермы кусок-другой припрёт, а то и комбикорм припрячет – в хозяйстве всё сгодится. Дома ведь тоже пара коровёнок водится! Дети давно разлетелись из гнезда, вырвались из захолустной глубинки ближе к благам цивилизации, там и осели. Ни дочь, ни сын сто лет глаз не казали в родную деревню. Внуки уже повырастали, и только изредка черкнут престарелым родителям письмецо или открыточку на праздник. Правда, несколько раз дочь на телефонные переговоры их со старухой вызывала. Сиживали они в местном почтовом отделении как-то с бабкой почти два часа, но связь с далёким сибирским городом так и не наладилась. Ушли горемычные домой, и хлюпала потом его Семёновна ночью тихо в подушку, утирая горючие слёзы. Вот так и коротали старость вдвоём, не теряя всё же надежды повидать внучат…
И так вдруг грустные мысли захлестнули и без того мутную голову Захарыча, что сушняк и депрессняк его просто в тряску вогнали. Лёгкий ветерок со стороны моря, которое Захарыч с мальства как назвал Японческим, так и величал всю жизнь, подсушил рубаху и седые космы. Только зад седока и спина кобылы под ним пребывали в тёплой испарине. Зашевелившиеся в голове грустные думки и воспоминания окончательно утвердили пастуха в понимании того, что душа просит успокоительного! А до села отсюда пока ещё рукой подать, недалече уехал. Солнце на небе – высоко. До заката – далеко.
– Сейчас пулей домой, флягу самогоном наполню и к морю, за бурёнками. К вечеру назад пригоню, всё как положено – не впервой поди!
Резко дёрнув за поводья еле плетущуюся кобылу, дед развернул её в обратную сторону и, пришпорив босыми пятками её впалые бока, лёгкой трусцой направился в сторону села. Кляча Люська, словно ей тоже нужна была пайка допинга, которая ждёт в родном стойле, шла небывало резво. Вот и окраина села. Первые две избы по дороге – его куркулястых соседей жильё. Один экспедитором в сельпо работает, местную торговлю из райцентра товаром снабжает. Знатный прохиндей! Всегда при деньгах и дефиците! Он Захарычу – не товарищ! Его самогоном-первачом не удивишь, они с его бабой, Тамаркой мордастой, даже коньячком иногда балуются. Хозяйство держат – не чета их с бабкой коровёнкам! Там и пара хряков на откорм, и свиноматка на приплод, и две коровы да тёлочка-молодуха, а уж кур и гусей – не перечесть. Второй сосед без особого хозяйского подворья живёт, им этой «скотячей вони», как они изъясняются, и от соседских сараев хватает. Они – интеллигенция местная! Дом добротный, из бруса сложен. Окна, наличники, заборчик в палисаднике – всё цветастой красочкой крашено, везде лютики-цветочки растут – тут не до свиней и гусей. А работает сосед Иван Ляксеевич (так дед его величает) завгаром. Начальником местного гаража, значит. Весь сельский транспорт в его ведении. Жинка же его, Марья Петровна, детским садом заведует. Чтобы дитятко в местные ясли пристроить, к ней на поклон с пустыми руками народ не суётся. Детей нынче в совхозе наплодилось, а мест в яслях – кот наплакал. Вот вам и коррупция! Ублажить Марью надо, уважить, чтобы очередь чадушку малому хоть чуток продвинуть. Захарыч, конечно, этих дел не свидетель, как говорится, свечку не держал, кто кому, что и сколько… Но народ говаривал, а народ на пустом месте брехать не будет. Значит, почва под этими сплетнями какая-никакая имеется. Словом, усадьба второго соседа ещё больше контрастирует с их обветшалой избёнкой.
Вот она, родимая! Слегка покосившийся, некогда крепкий бревенчатый сруб с обветшалой завалинкой, три глазницы окон, по одному на каждую сторону света, окромя севера. С севера вход в избу, крыльцо, чуланчик и скрипучая, с давно несмазанными петлями дверь с массивной деревянной ручкой. Внутри хоромы Захарыча выглядели примерно так же, как и снаружи. Всё жилище состояло из двух комнат: кухня с большой кирпичной печью, в дальнем углу которой символической ширмочкой с тряпичной шторкой была отгорожена потайная кладовушка Семёновны. У окна, украшенного ситцевыми занавесочками, стоял кухонный, он же обеденный стол с двумя распашными дверками и выдвижными ящичками. Несколько раз за время своего существования стол менял окрас: был он и зелёненьким, и синим, а в последний раз, уже после выхода на пенсию, решила Семёновна освежить его фасад белой эмалевой краской, о чём сотню раз потом пожалела. Белые дверки и ручки ящичков, где хранились ложки-вилки, чумазые руки супружника в скором времени превратили в грязно-чёрные, а потом и вовсе белая краска стёрлась, явив миру разноцветную палитру прежних художеств хозяйки. В углу на стене был прибит вместительный алюминиевый рукомойник, под которым на деревянном табурете стоял большой алюминиевый же таз – вот и все удобства. Остальной помыв тел осуществлялся раз в неделю в малогабаритной, с низким потолком, деревянным полком для тазиков, веников и бака с водой, а также печкой-буржуйкой бревенчатой баньке. Ещё в кухне тарахтел в углу старый холодильник «Саратов», стояли несколько табуреток и лавка, на которой располагались два ведра с крышками для питьевой воды. Ну а в потайном «кабинете» Семёновны, за ширмочкой, хранились бесценный кормилец и поилец – самогонный аппарат и регулярно пополняемый запас поллитровок, наполненных экологически чистым продуктом с высоким градусом алкогольного дурмана.
Другая комната с двумя небольшими распашными окнами была и спальней, и гостиной одновременно. Там сиживали во времена бурной молодости весёлыми компаниями да с обильными застольями, с кумовьями да сотоварищами по рыбачьим забавам. Круглый стол посреди залы, накрытый вылинявшей с годами оранжевой бархатной скатертью, давно не раздвигался за ненадобностью, но был неизменным главным атрибутом скромного жилища. У стены, которая обогревалась кухонной печью, стояла массивная кровать с коваными металлическими спинками, украшенными поверху гнутыми вензелями и давно прогнувшейся под тяжестью лет и весом возлежащих на ней тушек, особливо пухлой Семёновны, панцирной сеткой. Но этот ощутимый ночами недостаток днём был замаскирован ещё не утратившей с годами объём периной из гусиного и куриного пуха. В противоположном углу комнаты, в простенке между двух окон, подоконники которых украшали горшочки с геранью и алоэ, стояла видавшая виды любимая тахта Захарыча. Если кровать когда-то и ощущала его присутствие в объятиях своих пуховых подушек и перин, то на тахте кроме хозяина никто никогда не спал. Это лежбище с прогнувшимися пружинами, как глиняный слепок с натуры, повторяло все изгибы его сухопарого тела. Гобеленовая обивка тахты бережно хранила в себе все его хмельные ароматы, смешанные с запахом пота хозяина и его престарелой кобылы Люси. На полу перед тахтой и кроватью лежали самотканые цветастые коврики. Ещё из мебели имелись: платяной шкаф работы местного столяра, тумбочка-этажерка, на которой стояли какие-то безделушки и шкатулочки, зеркало на стене и старое портретное семейное фото в синей деревянной рамочке под стеклом, где, как два голубка, головка к головке запечатлены ещё кудрявый Захарыч в застёгнутой наглухо белой рубахе и пышногрудая глазастая молодуха с толстой косой, обвитой вокруг головы, – его жена в полном расцвете молодых лет. Его ненаглядная Верочка!.. Это потом, спустя годы, имя её ушло незаметно как-то в архив и редко произносилось вслух. Стала она для всех на селе просто Семёновна.









































