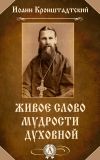Автор книги: Ольга Жукова
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Изучение амальфитанских сюжетов в русской живописи показывает, что галерея образов Амальфи, созданных отечественными мастерами пейзажа, имеет не только исключительную эстетическую ценность, но и проясняет важные для понимания их творчества биографические сюжеты и идейно-стилистические искания. Результаты исследования позволяют расширить наши представления о смысловой взаимообусловленности итальянского и русского искусства в контексте общеевропейской истории.
Подводя на данном этапе работы некоторый итог, мы можем обоснованно настаивать на необходимости переосмысления роли и значения амальфитанской темы в становлении русской пейзажной школы и в творческом наследии ее выдающихся представителей. Живописные красоты Амальфи поразили воображение русских художников не меньше, чем руины вечного Рима, поэтический облик Неаполя, Сорренто и Капри. На амальфитанском побережье они нашли для себя богатый источник для впечатлений и творческих идей. Подобный взгляд на амальфитанскую тему в истории русской живописи, на наш взгляд, дает новые перспективы для историков русского искусства и философов русской культуры, открывающих ранее неизвестные страницы русско-итальянского диалога культур.
Часть 2. Метаморфозы культурной традиции: от постклассики к постнеклассике
Глава 1. На изломе традиции: проблемы типологии художественного самосознанияЕсли нравственный максимализм, критическая направленность искусства, вера в его просветительскую миссию связаны с уходящей эпохой великой русской классики, то в рамки рубежного периода вписываются и эстетические идеалы реалистического искусства, и художественная философия модерна, и культуротворческий проект символизма. Духовные истоки формирующейся культуры берут начало в круге тем и идей французского литературного символизма, иррационалистической философии А. Шопенгауэра, в культурфилософии Ф. Ницше и А. Бергсона, в метафизике всеединства и мистических интициях русской религиозно-философской мысли. Многонаправленость идейно-творческих начинаний авторов эпохи Серебряного века позволяет говорить, что она была «лабораторией не только искусства, но и культуры в целом»[226]226
Хренов Н. А. Избранные работы по культурологии. Культура и империя. М.: Изд-во «Согласие»; Изд-во «Артем», 2014. С. 119.
[Закрыть].
Полюсность устремлений эпохи прекрасно ощущали и понимали ее творцы. Современность определялась двумя противоположными чертами – крайним материализмом и страстными идеальными порывами духа (Д. С. Мережковский), сплавляя в новую художественную картину мира эстетические открытия ее авторов. Этот процесс затрагивает всю художественную сферу русской культуры, характеризуя в равной степени поиск новых идей и способов их выражения, как в изобразительных видах искусства, так и в литературном и музыкальном творчестве. Интеллектуальный потенциал искусства оказался настолько большим, а импульс творческой энергии эпохи настолько высоким, что художественная практика и эстетический опыт для человека культуры рубежа XIX–XX веков становится определяющим культуротворческим моментом жизни. При этом художественно-эстетическая рефлексия оказывается ведущей формой культурного самосознания личности, сближающей религиозное и эстетическое в новом опыте построения культуры.
Признаком данной эпохи является проникающая во все сферы культуры эстетизация мышления. У А. Н. Бенуа, одного из организаторов художественного объединения «Мир искусства», можно найти следующую характеристику эпохи: «Когда мы основывали “Мир искусства”, мы горели желанием освободить русское художественное творчество от опеки литературы, вселить в окружающем любовь к самому существу искусства… Врагами же считали всех, кто “не уважает искусство как таковое”; кто… или запрягает священного Пегаса в воз “общественных идеалов”, или же вообще отрицает “пегасизм”. Зато мы обратились к художественному миру с кличем: “Таланты всех направлений, соединяйтесь”. И поэтому-то Врубель у нас сразу оказался с Левитаном, Бакст рядом с Серовым, Сомов рядом с Малявиным»[227]227
Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей, трактатов: в 7 т. / Под общ. ред. А. А. Губера, А. А. Федорова-Давыдова, И. Л. Маца, В. Н. Гращенкова. М., 1970. Т. 7. С. 344.
[Закрыть].
Эстетизирующая тенденция отчетливо обнаруживает себя в музыкальном искусстве начала XX века. Она выявляет параллели с художественной программой объединения «Мир искусства», формулирующего принципы постклассической культуры. Особенно ярко эстетизирующая установка проявилась в творчестве Анатолия Константиновича Лядова (1855–1914), наследника русской композиторской школы. Талантливейший ученик Н. А. Римского-Корсакова, рафинированный эстет, он автор красочных музыкальных картин «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро», в основе которых – образы русских сказок. Признанный кучкистами наследником художественных идей национальной композиторской школы, Лядов соединил два века русской музыкальной культуры. Своим творчеством Лядов совершил своеобразную культурную «модуляцию», перейдя от эстетических принципов музыкального реализма к импрессионизму и символизму. У мирискусников критическая направленность русского реализма вызывала отягчающий привкус не принимаемого ими морализаторства и социального пафоса, которые с большой идейной силой продемонстрировали русская литература и художники-передвижники. Эстетика ипрессионизма и символизма давала новый простор творческого поиска, позволяя в рамках традиционной для русской культуры картины мира усилить как религиозное, так и национально-фольклорное начало в искусстве.
Лядов обращается к образам русской сказки, с одной стороны, как к аутентичному фольклорному источнику национальной традиции, с другой – как к объекту, принадлежащему миру идеального, в данном случае – миру низших духов, периферийных для христианской картины мира. Лядов, желавший по его выражению, «есть жареную райскую птицу» в искусстве, ярко демонстрирует метаморфозы художественного самосознания русской культуры, которая, достигнув в музыкальном творчестве академической зрелости в рамках светского типа культуры, относится к исторической традиции как к источнику тем и образов, отсылающих к богатству сюжетов культурного предания. Композитор своим творчеством показывает сам путь сложения эстетического комплекса самосознания русской культуры в процессе включения фольклорной традиции в христианское предание. Тем самым, оставаясь приверженцем идеалов русской музыкальной классики, проблему традиции и новаторства Лядов решает не революционным путем смены стиля и языка, а работает в технике припоминания исторического опыта культуры. При этом его художественная интуиция предчувствует грозные всполохи грядущей эпохи – ее революционный апокалипсис, за которым – разрыв с памятью национальной культуры и истории.
Выражением единства мистической и художественной интуиции Лядова в экзистенциальном времени культуры следует считать симфоническую картину «Из Апокалипсиса», где религиозный смысл последней книги Св. Писания воссоздан в образно-символической структуре музыкального текста. Пророческое видение исторических событий непосредственно сближает опыт переживания будущего с концом мира, где апокалиптический образ конца времен приобретает смысл эсхатологии самой культуры. И здесь Лядов в своей художественной интуиции оказывается близок мистически настроенному символизму, что выявляет общность эстетических становок и метафизических посылок постклассической культуры. Постоянное, нередко парадоксальное сосуществование в постклассической культуре традиционного с новаторским, неожиданно эпатирующим, имеющим природу эстетического манифеста и эстетической провокации объясняется предощущением слома культуры. Даже картины мирискусников, сознательно избегающих сложившихся художественных клише, рядом с произведениями бубновалетовцев выглядят просто эстетически благополучными и добропорядочными.
И все же роль художественно-философского учения эпохи, который, наряду со стилем модерн, характеризует постклассическую стадию развития культуры, принадлежит символизму. Он обобщает художественные идеи и творческие открытия, синтезирует плазму новой культуры, ее целостный образ. Символизм не отказывается от культурного наследия прошлого, но живет уже в ином духовном пространстве, где будущее как категория времени культуры имеет различные варианты своего осуществления. Культурфилософский проект символизма, создающий свой образ будущей целостности культуры, остается в мистическом предчувствии и предощущении, в подготовке и замысливании, тогда как будущее утверждается радикально новым опытом культуры – проективно-социальной версией авангарда. Если символизм облекает свои идеи в религиозно-мистические образы, то авангард – в социально-космические. Символизм весь в мерцании, недосказанности, созерцании и игре, авангард – в динамике, свершении и строительстве. Фактором их схожести, но не тождественности, является мифологическая установка сознания, которая для символизма выступает пока лишь теоретически и эсхатологически возможной действительностью, а для авангарда – живой реальностью настоящего. Знаковые имена символизма – В. Брюсов, А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов, Д. Мережковский, авангарда – В. Хлебников, К. Малевич, В. Кандинский, В. Татлин. Их творческие судьбы находятся в духовно-интеллектуальном пространстве Серебряного века, ограниченного во времени двумя-тремя десятилетиями, и определяют собой две разнонаправленные, но имеющие общий исток тенденции в развитии художественной культуры России.
О символистской версии постклассического художественного мышления можно говорить в связи с творчеством Александра Александровича Блока (1880 –1921). Оно является религиозно-символическим, пророческим, в своей глубинной интуиции апокалиптическим поэтическим мироощущением, и претендует на новое духовное лидерство в культуре. Характерно, что на рубеже XIX–XX вв. с особой остротой среди поэтов развернулась «борьба» за пушкинское наследство. Если классическая традиция оставила пьедестал первого поэта на Руси незанятым, свято оберегая его образ как недосягаемую вершину творчества, как классический идеал, то постклассическая культура, в напряженной диалектике притяжения и отталкивания от традиции, сопоставила себя с этой вершиной. Предельным образом сравнения явился образ поэта-пророка.
Символизм, стремящийся соединить собой классику и современность, понимает проблему наследия в более широком контексте памяти культурной истории человечества перед лицом грядущего. Он становится провозвестником будущего. Пророческий смысл стихов Блока прочитывается и в любовной лирике, и в поэмах, и в драматических произведениях. Кажется, стихи его не знают никакой другой психологической тональности, кроме тональности предчувствия. Общение с миром у Блока, поэтическим воображением которого владеют стихии, свершается как религиозное откровение – образы являются ему, голоса и речи слышатся. Поэт приходит в мир, чтобы возвестить людям о таинстве жизни. Само творчество понимается им как мистериальное событие, в момент которого происходит встреча земного и небесного: лирический герой участвует в старинном обряде, примером чему служит стихотворение 1902 г. «Вхожу я в темные храмы…», вошедшее в цикл «Стихи о Прекрасной Даме».
Владеющие поэтическим сознанием Блока образы никогда не проясняют ему своего лица. Они исходят из вечности и остаются неразгаданной тайной для тех, кому они являются. Эти образы, данные как момент откровения трансцендентного в сознании, не персонифицируется в поэтическом опыте автора. Их реальность настолько всеобща, универсальна, что может быть описана и как явление природы, и как некое событие сознания. Не случайно образ блоковской Незнакомки передан поэтической метафорой «дыша духами и туманами», за которыми лицо прекрасной дамы скрыто. Поэтические откровения, переживаемые Блоком, есть особое состояние души и сознания, которым доступна для постижения реальность космоса – его биоритмы чувствует поэт и возвещает в стихах. В этом смысле религиозный опыт Блока как особый тип связи с трансцендентным Иным есть одновременно и поэтический опыт общения с Высшим, и способ познания мира. Образ пушкинского пророка как вестника Бога и глашатая Его глагола правды в творческом опыте Блока становится образом вестника и пророка космических событий, своего рода, медиума, своим творчеством приоткрывающим завесу грядущего с его образами «последнего пира» и «битвы» («И нам недолго любоваться», «Тебя я встречу», «Я укрыт до времени в приделе»).
Не случайно принятие Блоком русской революции. Она для него открывается не только как историческая трагедия, но как воплощение предчувствуемого обновления и преображения космического мира. Андрей Белый справедливо замечал, что понять творчество Блока – это значит понять связь между «Стихами о Прекрасной Даме» и поэмой «Двенадцать». Иными словами, понять, каким образом рафинированное символическое мышление раннего Блока могло опрокинуться в революционные вихри восемнадцатого года, в статью об интеллигенции в революции, понять, как могла безнадежно лирическая душа плениться музыкой революции. В жизни Блока революция могла произойти и как событие космического порядка, и как попытка персонифицировать в реальном воплощении образ Прекрасной Дамы. Революционная правда настигла поэта как возмездие, принесла ему разочарование, отчаяние и боль. В этом – трагедия лирического самосознания Блока, в чьем творческом опыте сам тип религиозного мировосприятия целостности бытия в горизонте транцендентного из опытно-энергийной связи с Иным переводится реальность искусства с его достоверностью поэтического воображения. Каждый раз его душа переживала трагедию воплощения космической реальности на земле. Путь восхождения от образа к Первообразу оказался для Блока закрытым. Он знал только путь нисхождения идеального. Другими словами, душа Блока не знает тайны Боговоплощения, которая объединяет в себя оба пути – от Первообраза к образу и от образа к Первообразу: Логос в поэтическом сознании Блока замещен платоновским Космосом.
Философское толкование Логоса и космоса как метаморфозы религиозного сознания в поэтическом творчестве Блока принадлежит Н. А. Бердяеву: «Судьба Блока ставит очень глубокую метафизическую проблему. У Блока гениальная индивидуальность поэта, но не было личности. Личность уже есть защита, она может противостоять Космосу, она делает различения и обезоруживает прельщения. Личность причастна Логосу, она не может быть лишь в Космосе. Космос сам по себе не создает Личности, он создает лишь индивидуальность. Личность создает лишь Логос. Но Блок был целиком погружен в стихии Космоса, он все видел через них. Поэтому, не имея Личности, вкорененной в Логосе, он видит лишь мутные лики в Космосе»[229]229
Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. М.: Искусство, 1994. Т. 2; С. 485.
[Закрыть].
Находившийся под влиянием философско-эстетических идей и поэтического творчества В. С. Соловьева, специфически воспринявший учение Платона о мировой душе, Блок не выработал в своей системе миропонимания определенную культурную дистанцию опосредствования философских идей, воспринимая их как живую реальность трансцендентного. Поэтической душе Блока суждено было обольщаться и разочаровываться. Для него оказался открытым единственный способ общения с миром, в котором происходило символическое пресуществление космической первореальности. Поэту суждено было «мучение бездной», которая могла явить ему как таинственно-космическую красоту Прекрасной Дамы, так и «тень люциферова крыла», а значит, и беззащитности перед действием трансцендентных сил. В этом смысле «Двенадцать» и есть образ космического катаклизма – инфернального апофеоза жизненной мистерии, где под порывами революционного ветра разрушаются космические структуры старого мира, и апокалиптические предчувствия поэта относительно судеб культуры и человечества, равно как и собственной судьбы и судьбы его Родины, сбываются. С рождением нового мира пророческая миссия поэта должна была завершиться. Блок умер в 1921 году, сгорев в хаосе социального пожара, в образе Христа из «революционной» поэмы «Двенад цать» пророчески предвидев будущую судьбу России, прозрев ее страдания – русскую Голгофу.
Катастрофа действительно разразилась на уровне социального и культурного бытия. Но, как отмечал Н. А. Бердяев, русская революция – феномен метафизический и религиозный, а не политический и социальный. Потрясению социальных устоев жизни предшествовала революция сознания, принесшая дух свободы, но отвергнувшая самого Духа подлинной свободы – Духа Истины[230]230
Бердяев Н. А. Философия свободного духа. М.: Республика, 1994. С. 104.
[Закрыть]. Утверж дение автономии личности как абсолютной свободы вне онтологии Бога приняла вид ложной свободы.
Еще одну теургическую версию постклассической культуры представляет собой творчество Александра Николаевича Скрябина (1871–1915). Ее смыслопорождающей моделью является миф о художнике – теурге, в котором можно видеть форму превращенного религиозного сознания в опыте созидания художественного мифа о творении. В творчестве Скрябина «теургическое беспокойство» русской культуры в рамках художественных практик постклассики достигает своей кульминации. Поэтому нам кажется оправданным рассмотреть творчество Скрябина, как и Лядова, в контексте эстетических тенденций постклассической культуры, в силу обобщающих выводов, характеризующих рассматриваемую нами линию премственности творческого опыта, хотя в общей логике исследования музыкальному искусству была выше посвящена отдельная глава.
Уникальное по масштабу дарования и дерзновенности художественных идей, искусство Скрябина отличается особой силой воздействия на слушателей. Если постараться определить природу творчества композитора одной формулой, то автор «Мистерии» и «Поэмы экстаза» может быть назван созидателем музыкальных миров. Яркий представитель культуры Серебряного века, Скрябин аккумулировал в своем творчестве ее философско-эстетическое ядро, явив целостный образ нового искусства в опыте создания грандиозной музыкальной Вселенной. Музыкальные произведения Скрябина – это плод его оригинальной философии, которая представляет собой вид философской эклектики со смесью идеализма, религиозности и теософии. Философско-эстетическая программа Скрябина эволюционирует и кристаллизуется в философский солипсизм. Данную программу с полным основанием можно назвать философией творчества, поскольку ее предметом и объектом рефлексии выступает автор-творец.
Мировоззренческий перелом, произошедший с композитором на рубеже столетий, стал точкой отсчета для построения философской концепции, в центре которой – творческий волящий разум художника-демиурга. С уверенностью можно говорить, что основным импульсом его творчества являлась энергия философского поиска. Все новации Скрябина в области гармонии и музыкального языка спровоцированы стремлением воплотить в музыкальной ткани и драматургии произведения некий конструкт, или философскую идею, которая в своей непосредственной целостности музыкального восприятия предстает как готовый художественный образ, своеобразная модель мира. В этом метафизическом проекте искусства Скрябин выступает связующим звеном в линии преемственности творческого опыта, заданного принципом взаимодействия религиозного умонастроения и художественной интуиции, в специфическом контексте внелитургической практики искусства и внеконфессиональной (надконфессиональной) мистерии, что, по замыслу автора, становится новым актом творения и священнодействия.
На формирование Скрябина важнейшее влияние оказали представители русского религиозно-философского ренессанса, в особенности идеи В. С. Соловьева, Вяч. Иванова. Скрябин, одно время обучавший меценатку М. К. Морозову искусству фортепиано и впоследствии получавший от нее поддержку, участвовал в кружке русского философа С. Н. Трубецкого. Он увлеченно знакомился с трудами Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, в его доме бывал Н. А. Бердяев и многие другие представители культуры Серебряного века. Определяющим для творческого мироощущения Скрябина стал культурфилософский проект символизма с его центральной идеей теургии, или жизнетворчества. Окрашенный в мистические и апокалиптические тона, в утонченном, стремившемся уйти от всякой обыденности самосознании художника, символизм нашел благодатную почву. При этом амплитуда философских интересов Скрябина чрезвычайно широка. В круг его чтения входили не только классики немецкой философии, но и восточные религиозные учения, современная теософская литература, в частности «Тайная доктрина» Е. П. Блаватской.
Скрябина нельзя назвать человеком определенной философской школы. Его обширные познания представляют особый род философской эклектики, где самым важным оказывается опыт синтеза различных учений и миросозерцаний. Интеллектуальные способности, проявляемые в философии и искусстве, давали повод композитору думать о своей исключительности. В конечном итоге, некритическое отношение к своему дару, мессианский избраннический взгляд на свое место в искусстве – все это позволило Скрябину представить себя центром и источником «нового учения», способного преобразить мир и вывести его на новый виток исторического развития, под которым понималась новая метафизическая целостность искусства и жизни.
Рассматриваемая в данном контексте, творческая эволюция А. Н. Скрябина предстает тождественной его философско-мировоззренческой эволюции, последний этап которой связан с замыслом «Мистерии» – некоего музыкально-религиозного действа, которое и должно явиться актом «дематериализации» мира и человека, его трансцензусом в новую реальность. В связи с «Мистерией» как эсхатологическим трансцензусом истории возникают явные символистские параллели. Общие предчувствия радикальной перемены, отмеченные выше в творчестве Лядова и Блока, трансформируются у Скрябина в миф о преображении мира творчеством, что позволило А. В. Луначарскому говорить о композиторе как о провозвестника революции.
Скрябин относится к редкому типу художников, для которых творчество воспринимается как некая мистерия. Важна в этом ключе характеристика мировоззрения композитора как бытия в мифе, данная А. Ф. Лосевым в описании «основных тенденций его внутреннего опыта»[231]231
Лосев А. Ф. Мировоззрение Скрябина // Форма – Стиль – Выражение. М.: Мысль, 1995. С. 734.
[Закрыть]. «Попробуем представить себе, что все есть и возможно тольо через Я, что на это Я надо перенести все категории универсализма и вселенскости, что это универсальное Я только и сть, а все остальное – от него зависит и даже его создание. Получается уже от одного этого весьма своеобразная концепция единства и безразличия Бога и мира в одном вселенском Я», – формулирует Лосев[232]232
Там же. С. 735.
[Закрыть]. Третья тендеция, согласно Лосеву, эротический историзм с его апокалиптичностью и «эротическим томлением на глубине» ведет к воплощению знаменитой скрябинской «идее мистерии и мира как мистерии»[233]233
Там же.
[Закрыть]. Источники скрябинского «я – мифа» коренятся в самых ранних переживаниях и ощущениях ребенка, сохранивших целостный образ восприятия себя как центра домашнего мира. Рано оставшийся без матери талантливый ребенок рос в атмосфере обожания и преклонения перед его способностями. Эта центростремительная установка самовосприятия была в опыте Скрябина подкреплена философскими выводами солипсизма, определив способ отношения к реальности как факту своего сознания, порождающего бытие.
Первым опытом, содержащим продуманную философско-эстетическую программу гениального композитора, следует считать Первую симфонию – монументальное шестичастное произведение, в финале которой должен был звучать хор, положенный на текст самого Скрябина. Основная мысль заключалась в прославлении искусства, его объединяющей созидающей и миротворящей роли. Из Первой симфонии произрастают главные темы зрелого и позднего периода творчества, тянутся нити к грандиозному замыслу «Мистерии», приводя к творческому взрыву в Третьей симфонии – «Божественной поэме», партитуру которой Скрябин завершает в 1904 году. Б. Л. Пастернак, оказавшийся соседом по даче Скрябина, вспоминал: «Боже, что это была за музыка! Симфония беспрерывно рушилась и обваливалась, как город под артиллерийским огнем, и вся строилась и росла из обломков и разрушений. Ее всю переполняло содержание, до безумия разработанное и новое, как нов был жизнью и свежестью дышавший лес, одетый в то утро, не правда ли, весенней листвой 1903, а не 1803 года»[234]234
Цит. по: Бэлза И. Александр Николаевич Скрябин. М.: Музыка, 1987. С. 96.
[Закрыть]. Трехчастное произведение, потрясающее масштабностью звучания, усиленного четверным составом оркестра, раскрывает четкую программу, объединенную общим замыслом, демонстрируя драматургический талант Скрябина. Первая часть носит название «Борьба» («Борения»), вторая – «Наслаждения», третья – «Божественная игра», что с точки зрения философско-религиозных интенций творчества композитора позволяет трактовать ее содержание как самоутверждение творческого духа.
В 1907 году была закончена «Поэма экстаза», над которой Скрябин достаточно долго работал, транспонируя философские идеи в музыкальную ткань. Принцип рождения музыкального произведения как становления целостного образа бытия в творческом сознании композитора достигает своей наивысшей эмоциональной точки, трансцендентным выражением которой оказывается экстаз. Божественный экстаз, знакомый древним мистериальным культам, – состояние, в котором преодолевается порог человеческого восприятия. Сверхчувственная радость заключительных строк предпосланной произведению программы звучит как апофеоз бытия в точке высшего напряжения жизненных сил, являя некий мистериальный акт рождения и творчества:
В «Поэме» сложилась устойчивая драматургическая триада скрябинских сочинений: «томление» – «полет» – «экстаз». В эволюционирующем самосознании композитора идея сверхчувственного преображения бытия в акте творчества обретает образ художника-теурга, созидающего мир своею волей, своим гением, что находит воплощение в «Поэме огня» – «Прометее». Здесь, как и в «Поэме экстаза», композитор задействовал огромный состав оркестра, добавив партию фортепиано и большой смешанный хор, усиливая впечатление светоэффектами. Кроме расширения ассоциативно-зрительного спектра возможностей музыкального восприятия в «Прометее» Скрябин применил новый гармонический язык, выходящий за пределы традиционной тональной системы. Но подлинно революционным оказался сам образ Прометея – титана-богоборца. От «Прометея» открывался прямой путь к идее «человекобога» и «Мистерии».
Все произведения, написанные после «Прометея», вероятно, следует рассматривать как своеобразные эскизы к «Мистерии». Характерно, что образ музыкального действа в восприятии Скрябина был связан с образом храма как метафизического пространства, обеспечивающего переход в трансцендентную реальность. Именно этим религиозно-мистическим переживанием творчества можно объяснить желание композитора купить место для постройки храма в Индии, которая в восприятии виделась духовной прародиной человечества. В идее «Мистерии», под знаком которой проходит последнее пятилетие творческой жизни Скрябина, прослеживается общность духовно-эстетических установок с культурфилософским проектом символизма, целью которого было, как писал А. Белый, создать искусство, способное подготовить человека к метафизическому перерождению. Тем самым христианская концепция преображения оказалась погружена в пространство мифа о художнике-творце, чья воля создавала новую реальность, где искусство преодолевало свои собственные границы, трансцендируя в новую целостность бытия, полноту которой воплощал Демиург.
Идея мифологической целостности бытия как новой онтологической целостности культуры и человека подготовило почву для художественно-творческого проекта русского авангарда, который характеризует собой новое качество культурной реальности – неклассический модус исторического существования русской культуры.
Метафизические проекции неклассической культуры. Значимая для русской культуры проблема смысла творчества во взаимоотнесенности искусства и религии заново переформулируется в рамках художественной философии авангарда и становится идеологемой неклассической культуры, артикулируемой ее теоретиками и практиками. Две линии неклассической культуры – изобразительная и литературная – обнаруживают морфологическое сходство в процессе рождения и самообоснования эстетических концептов. Так, творчество Василия Васильевича Кандинского (1866–1944), посвященное поиску духовного содержания искусства, представляет собой опыт возвращения русской художественной культуры в общеевропейское культурное предание, что выразилось в теоретическом конструировании предмета и содержания искусства в философско-эстетических и художественных работах Кандинского.
Для Кандинского созидающим началом искусства выступало начало духовное. «Живопись есть искусство, и искусство в целом есть не бессмысленное созидание произведений, расплывающихся в пустоте, а целеустремленная сила; она призвана служить развитию и совершенствованию человеческой души – движению треугольника. Живопись – это язык, который формами, лишь ему одному свойственными, говорит о нашей душе и о ее хлебе насущном», – формулирует Кандинский в книге «О духовном в искусстве»[236]236
Кандинский В. Точка и линия на плоскости. СПб: Азбука, 2001. С. 131.
[Закрыть].
Интерпретация духовного у художника и теоретика искусства была связана с особой трактовкой художественного произведения, которое в мире человеческой культуры выступает аналогом творчества вселенной. Живопись в понимании художника – это модель мироздания, художественное целое которой организуется по законам жизни космоса, тем самым целостность искусства предстает как реальность, в которой соединяется творческий дух мира и человека. Соприкасаясь со многими современными направлениями изобразительного искусства (югендстиль, русский модерн, фовизм), Кандинский постепенно приходит к созданию своей уника льной художественной теории. Открытый им принцип беспредметной живописи призван выразить музыку вселенной, «музыку сфер». С беспристрастностью аналитика и вдохновенным энтузиазмом художника Кандинский «распредмечивает» мир в своих полотнах. Какая же реальность должна была открыться зрителю в произведениях художника?
Два события в жизни Кандинского, по его собственному признанию, имели решающее значение: открытие деления атомов на элементарные частицы и художественное пространство русской крестьянской избы. Два мира – мир науки и мир искусства – соединились в художественном сознании и воображении Кандинского, создав экспрессивно-абстрактный образ реальности на плоскости холста. С одной стороны, научная картина мира на необходимом уровне абстрагирования давала представление о структуре вселенной и формах бытия; с другой стороны, многокрасочный мир русского фольклорного искусства с его богатством орнаментальных украшений в восприятии художника связывался с образом живописи вообще, с ее допрофессиональным прошлым, данным в исторической целостности традиции. Экспрессия линии и цвета, взятая сама по себе, независимо от предметного содержания, в понимании Кандинского, и являлась первоэлементом, праматерией искусства. Она напрямую обращена к внерациональному, интуитивно-эмоциональному способу восприятия, соответствуя самой природе творчества как допонятийного, образного мышления.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?