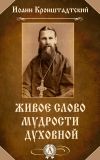Автор книги: Ольга Жукова
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Такой предельной трудностью для Федотова был отстаиваемый им синтез либеральных ценностей и традиции национальной культуры – русский путь в Европу с ее христианским универсализмом. Он предполагал, что именно подобный выбор станет стержнем политической и культурной самоидентификации будущего российского общества, и поэтому главной задачей интеллигенции определил задачу возвращения в русскую культуру. Ученый-историк понимал, что революция – это катастрофический итог развития негативных сторон русской действительности, которая изгнала духовную традицию из процесса построения русской жизни, из новой творимой культуры.
И поэтому малое стадо думающих и верующих людей «не может взять на себя ответственности за “вражие” строительство. Но придет время, и Русская Церковь станет перед задачей нового крещения обезбоженной России. Тогда на нее ляжет ответственность и за судьбу национальной жизни. Тогда окончится двухвековая отрешенность ее от общества и культуры. И опыт общественного служения древних русских святых приобретет неожиданную современность, вдохновляя Церковь на новый культурный подъем», – провидел Федотов[543]543
Аксаков И. С. У России одна – единственная столица… С. 473.
[Закрыть].
Чрезвычайно важно, на наш взгляд, вслед за Федотовым понять природу цивилизационных срывов, перечеркивающих высокие достижения отечественной культуры. Необходимо продолжить критическую работу по осмыслению прошлого и настоящего в горизонте исторического образа будущего. Точкой опоры здесь должно стать не реставрируемое прошлое, по Георгию Федотову, а возвращающееся будущее – таким, каким оно представало в возможности творческого переосмысления духовной и социальной традиции России для философа культуры и истории.
Глава 7. Русская культура в европейском контексте: философия культурного универсализма В. В. ВейдлеВладимир Васильевич Вейдле (1895–1979), выдающийся русский мыслитель, искусствовед и философ культуры, точкой отсчета в жизни которого стала революция. После революции, подобно многим русским интеллектуалам, он вынужден был покинуть Россию. Оказавшись в эмиграции, большую часть своей жизни Вейдле провел за пределами отечества, в Париже. В фокусе его философских рассуждений находится историческая трагедия русского государства и русской культуры. Отмечая пятидесятилетний символический рубеж исторической трагедии, постигшей русский народ и русское государство, Вейдле, развивая центральную для него мысль о культурном единстве России и Европы, выступил с призывов «всем, живущим в России, вернуться в Россию»[544]544
Федотов Г. П. Собр. соч. Т. 11. С. 355–356.
[Закрыть].
О какой России говорит Владимир Вейдле в небольшой, но исключительно важной для него программной статье «Пора России снова стать Россией»? Какой исторический образ провидит он сквозь страну Советов, какие границы во времени и пространстве мировой культуры он прочерчивает для сгоревшей в пламени Первой мировой войны и русской революции Российской империи? Прочитывает ли философ и культуролог в незавершенном XX веке русскую культурную историю как целостный текст? Да и возможно ли вообще рассматривать русскую культуру в XX веке в качестве сохраненной и унаследованной традиции, для которой выполняется закон культурной преемственности и культурной памяти, работающий вместе с механизмом культурной самоидентификации человека и общества? В историсофских рассуждениях Вейдле о России нет радикального модернизма. Мы не встретим в них радостного приветствия будущего, в которое нужно шагнуть, освободившись от груза истории. Но не найти в работах Вейдле и трактовки прошлого как неприкосновенного архива древности и объекта традиционалистской консервации. Ведущая идея Вейдле – это наследование, преемственность и творческое переосмысление культурного опыта. В этом смысле границы России как исторического субъекта для него выстраиваются в координатах пространства и времени культуры. Они совпадают с исторически возникающей и производящей смыслы и ценности семиосферой культуры, в которую включен тезаурус не только европейской, но и культуры мировой. В бытийствовании на границе мировых культур, привязанных к месторазвитию и ко времени истории, и формируется особый тип экзистенциального проживания культуры в лимитрофной зоне. Назовем эту пограничную зону культурного обмена зоной культурного универсализма, преодоле вающего монологичность и гомогенность собственной культуры в процессе знакомства, усвоения и творческой переработки ценностей, смыслов и значений другой культуры. Границы этой зоны могут расширяться за счет увеличения числа участников диалога, могут, наоборот, локализоваться в рамках ограниченного количества национально-культурных субъектов общения, но культурный универсализм всегда включает в себя логику другого как своего-иного, т. е. конституируется логикой диалога, открытого к постижению опыта различных культур.
Будучи перемещен в инокультурную, иноязычную среду, эмигрант В. В. Вейдле представлял русскую культуру за рубежом, т. е. буквально находился в пограничной русско-европейской зоне культуры. Жизнь Вейдле почти вместила в себя двадцатое столетье. Она сама, как произведение культуры, может послужить эпиграфом и логической основой для анализа трагического века, в котором судьбы европейской и русской культуры тесно переплетены, пройдя испытания двумя мировыми войнами и революционными потрясениями. Свидетель века Вейдле, собирая и осмысляя исторический опыт России в XX веке, обращает свой призыв к будущему молодому поколению. Это уже не те люди, которые делали революцию, «а люди, сделанные ею»[545]545
Вейдле В. В. Задача России. Минск: Белорусская Православная Церковь, 2011. С. 284.
[Закрыть]. Вейдле ожидает от нового поколения советской молодежи работы по восстановлению России, основой которой является достигнутый в ее историческом развитии универсализм национальной культуры. Осуществить такую историческую и интеллектуально-творческую работу может «ведущий общественный строй», который Вейдле называет «новым служилым сословием»[546]546
Там же. С. 284.
[Закрыть]. Он наделен энергией, знаниями, патриотически настроен и еще не порвал связей с рабочей и крестьянской средой, которая несет в себя черты христианской этики труда и служения. Вейдле признает факт рождения новой генерации советских людей, способных реализовать культурно-историческую программу возвращения в историческую Россию. Эта программа, или задача, воплощается, как можно понять Вейдле, в одной формуле: Россия должна найти себя в пространстве общей европейской истории, соединив по оси времени прошлое своего Отечества, его настоящее и будущее. Согласно Вейдле, «путь к будущему ведет через воссоединение с прошлым, через восстановление нарушенной революцией преемственности. Плечистый недоросль СССР должен вновь овладеть отнятым у него прошлым; тогда он станет вновь Россией – той, что вросла в Европу тысячелетней своей историей»[547]547
Там же. С. 284.
[Закрыть].
В приведенной цитате в свернутом виде содержится ядро философии культуры и истории Вейдле, его главная идея о вросшей в Европу русской истории и культуры, которую можно было бы определить как идею русско-европейского культурного универсализма. Она лейтмотивом проходит через весь корпус сочинений культурфилософских, искусствоведческих, мемуарных и публицистических работ В. В. Вейдле. Попытаемся произвести реконструкцию центральной мысли Вейдле и тематизировать ее в проблемном поле современной философии истории и культуры. Философско-культурологическая интерпретация феномена России Вейдле сводится к нескольким тезисам.
Певрый тезис: дореволюционная Россия была частью Европы. Там, где ставится проблема целого и части в понимании реальности культуры, возникает и проблема границы. В бахтинско-лотмановской парадигме культура осознает свою целостность (содержание, идентичность) именно на границе, при встрече с другой культурой, которая может быть выражена языком, неким текстом (текстами) или практикой (высокими или обыденными практиками культуры). Как пишет Ю. М. Лотман, «Функция любой границы и пленки (от мембраны живой клетки до биосферы как – по Вернадскому – пленки, покрывающей нашу планету, и до границы семиосферы) сводится к ограничению проникновения, фильтрации и адаптирующей переработке внешнего во внутреннее. На разных уровнях эта инвариантная функция реализуется различным образом. На уровне семио сферы, – подчеркивает исследователь, – она означает отделение своего от чужого, фильтрацию внешнего, которому приписывает статус текста на чужом языке, и перевод этого текста на свой язык. Таким образом происходит структуризация внешнего пространства»[548]548
Там же. С. 284.
[Закрыть]. Как справедливо замечает Лотман, «никакое “мы” не может существовать, если отсутствуют “они”»[549]549
Там же. С. 267.
[Закрыть]. В логике Вейдле таким конструктом перевернутого самоотражения для России выступает Европа. Европа, которая исторически и культурно была объединена с Древней Русью и Российской империей общностью христианского предания.
Второй тезис: подлинная Россия – Россия петербургская – есть христианская и европейская. В интерпретации Вейдле, расхождение между культурами западного и восточно-христианского мира было обусловлено двумя драматическими процессами, развернутыми во времени – погромом крестоносцами столицы православной империи – Константинополя, который провел непреодолимую границу обид, неприязни и недоверия между Востоком и Западом, и монголо-татарским нашествием, привнесшим черты азиатской деспотии в социальный порядок древнерусского государства. Возвращение России в Европу в петровском проекте Российской империи стало, согласно Вейдле, опытом преодоления азиатского элемента, въевшегося в социальную ткань Московского царства. Петербургская Россия восстановила единство русско-европейского мира. Как отмечает Вейдле, «Но и в течение этих четырех с лишним веков отчуждение было менее полным, чем обычно думают, а главное, после того, как оно кончилось, очень скоро стало ясно, что, преодолев его, Россия обрела подлинный свой путь, который именно отчуждение ей и преграждало»[550]550
Вейдле В. В. Задача России. С. 285.
[Закрыть]. Мысль Вейдле близка многим выдающимся авторам-эмигрантам – Ф. А. Степуну, П. Б. Струве, Г. П. Федотову, С. Л. Франку, которые продолжали развивать интеллектуальную традицию русского европеизма.
Именно эту идею наиболее полно и четко Вейдле выразил на страницах своей известной статьи «Границы Европы» (1936), опубликованной в «Современных записках», в Париже, и затем вошедшей в сборник «Задача России» (1956). Вейдле с горечью констатирует факт раскола в русском общественном сознании, выразившийся в линии противостояния «западничества» и «почвенничества», в то время как, по его мнению, такая поляризация мнений есть плод заблуждения и полного непонимания исторической и культурной природы России. «Вместо осознания России как неотъемлемой составной части европейско-христианского мира, временно выделенной из него (от XIII до XVII века), но имеющей вернуться в его лоно, сохраняя при этом свою особенность, свое национальное лицо, у нас либо превозносили и готовились закрепить навсегда ее отдельность, либо отрицали все личные ее черты и стремились к простому уравнению ее с Западом», – настаивает Вейдле[551]551
Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 265.
[Закрыть].
Золотой и серебряный век русской культуры, по мысли Вейдле, стал «знаком окончательного соединения с духовной жизнью Западной Европы»[552]552
Вейдле В. В. Задача России. С. 285.
[Закрыть]. Весьма примечателен следующий факт в историсофских рассуждениях Вейдле. Он указывает, что открытие национально-культурных сокровищ России, начиная с Пушкина, и позже для демократической части образованного класса, равно как и для просвещенных интеллектуалов и аристократов происходило как будто бы в зеркальном отражении – познавая Европу, наше общество заново обретало русскую культуру. Так произошло и на рубеже XIX–XX вв. «“Открытие” новейшей французской живописи посодействовало “открытию” древнерусской иконы, подобно тому, как деятельное и живое изучение западной истории углубило понимание московской и киевской Руси. Паломничества на Запад, к его святыням, к его старинным городам учили понимать Новгород или Владимир; наши поэты и живописцы находили новые пути, сближаясь с западной живописью и поэзией», – делает признание Вейдле[553]553
Вейдле В. В. Умирание искусства. С. 121–122.
[Закрыть].
К этому поколению открывателей России как Европы принадлежал и сам Вейдле. В ранней юности он испытал потрясение от встречи с шедеврами античного искусства. Большое время европейской, а через нее и мировой культуры вошло в сознание молодого человека как глубоко прочувствованное эстетическое наслаждение искусством, приобретя интимно-личностное значение благодаря знаменитым древнегреческим архитектурным памятникам на Апеннинском полуострове. Они были запечатлены в его душе и сердце художественными образами Пестума. Величественная простота и совершенство дорических храмов Пестума стали личностнообразующим ландшафтом памяти – индивидуальной меморией культуры, которая примиряла с реальностью, вдохновляла и побуждала Вейдле к профессиональному творческому поиску в области философии культуры, истории европейского и русского искусства на протяжении всей жизни.
Интеллектуальная биография Вейдле как будто бы прорастает из мифопоэтического синтеза европейской и русской культуры. Она полнится переживаниями художественных и душевно-психологических событий, погружается в «мифологически-личностную символику» (в терминологии А. Ф. Лосева) культурных традиций и «трепещущую неоднородность мифического времени», если воспользоваться лосевскими определениями мифа как личностной формы[554]554
См.: Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат, 1991. С. 72–91.
[Закрыть]. Органическая целостность личностно проживаемого культурного мифа обнаруживает себя в пророческих детских сновидениях и символически коннотируемой процедуре самоидентификации. Примечателен один эпизод, который Вейдле особо выделит в своих поздних воспоминаниях. Отдыхая семилетним ребенком с матерью на французско-итальянской Ривьере, в городочке Нерви, близ Генуи, он переживет детский ночной кошмар:
«Страшный сон мне в Нерви приснился. Тигр меня терзал и грыз, растерзал и съел»[555]555
Там же. С. 286.
[Закрыть]. Проснувшегося и кричащего от ужаса ребенка отпоят сахарной водичкой. Но случай этот уже для взрослого человека станет той метафизической памятью души, которая послужит экзистенциальной мерой определения исторической катастрофы, пережитой Россией и Европой в XX веке. «А с некоторых пор, думается мне, что тигр этот был наш век, уже начавшийся тогда, но лишь позже показавший нам всем свое редкостное свирепство. Однако свирепство это, в те времена, почти никто даже и на четвертушку не предвидел, и уж всех менее малолетний двухзимний обитатель еще невонючих лазурных берегов»[556]556
Там же. С. 50.
[Закрыть].
Образ свирепого «века-тигра», возникающий на страницах воспоминаний Вейдле, зеркален метафоре «века-волкодава» в знаменитом пророческом стихотворении Осипа Мандельштама:
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых кровей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе,
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.
Внутренняя смысловая взаимосвязь, обнаруживаемая в образном параллелизме приведенных выше воспоминаний и стихотворения, очевидна. Вейдле, учившийся в одно время с Мандельштамом в Петербургском университете, знал его, но не был близок, поэзию же высоко ценил. И когда в 1961 году, в Нью-Йорке вышел русский альманах «Воздушные пути», посвященный позднему творчеству поэта, он написал статью-послесловие «О последних стихах Мандельштама», где признавался, что «дружил с его стихами», «благоговел», «благодарно их любил»[558]558
Вейдле В. В. Зимнее солнце. Из ранних воспоминаний. Н.-Й: Издательство Камкина, 1965. С. 50.
[Закрыть].
Есть прямое свидетельство, что в мемуарах Вейдле (1976), созданных гораздо позднее трагического шедевра Мандельштама, детский образ подвергается переосмыслению и культурологической реинтерпретации не без влияния выдающегося русского поэта. «Больше двадцати лет прошло с тех пор, как он умер; почти полвека со времени наших первых встреч, – вспоминает на страницах альманаха Вейдле. – И вот теперь на моем столе целый ворох листков с его стихами, новыми для меня и не для одного меня, напи санными частью одновременно с только что приведен ными, частью ближе к середине тридцатых годов, частью же еще немного позже во время воронежской не то ссылки, не то каторги, по-видимому длившейся около трех лет, и которая уже в первый год вырвала у него стон – Пусти меня, отдай меня, Воронеж, а потом еще столько других… Их то я и слышу прежде всего, перебирая эти лист ки. Нахожу среди них список так сильно взволновавшего меня в свое время и такого волнующего прекрасного стихотворения 31 года За высокую доблесть грядущих веков, с текстом значительно лучшим, чем тот, что уже был напечатан»[559]559
Там же. С. 77.
[Закрыть]. Как следует из послесловия, Вейдле хорошо знал это произведение. Более того, в своей статье он вспоминает и стихотворение «Век», написанное поэтом в 1923 году, где уже возникает образ века-зверя: «Век мой, зверь мой, кто сумеет / заглянуть в твои зрачки…»[560]560
Вейдле В. О последних стихах Мандельштама // Воздушные пути. Альманах. II. Редактор-издатель Р. Н. Гринберг. Нью-Йорк. 1961. С. 71–72.
[Закрыть]
Обращает на себя внимание и тот многозначительный факт, что в сознании наиболее чутких авторов XX века – и художников, и теоретиков искусства, – новый век ассоциируется с поглощающим культуру и человека зверем. Этот антихристианский двойник Европы и России стал выражением апокалиптических предчувствий – разверзнувшейся бездны, в которую рухнули христианские народы в XX веке…
Еще более показателен неожиданный, глубоко личностный, но, как представляется, совершенно не случайно введенный «знак» принадлежности Вейдле одновременно к России и Европе. Он связан с воспоминаниями о родителях. Владимир Васильевич младенцем был усыновлен богатой бездетной семьей Вейдле. Его мать – этническая немка, из прислуги в состоятельном доме. Позже родители приоткрыли сыну тайну рождения. И вот, в поздних мемуарах появляется следующий биографический пассаж: «Ту, что меня родила – изредка я все же о ней думаю – звали Мария Вестгольм. Нянюшкой молодой остзейской или служанкой она была в доме того, женатого, и конечно постарше ее, человека, – Грановского, скажем, (звали его не совсем так, но вроде этого). Не приглянись она ему, не было бы меня на свете»[561]561
Вейдле В. В. Зимнее солнце. С. 100.
[Закрыть]. Здесь можно было бы найти немало объяснений того, как формируется мифология культурного героя. Отметим лишь одно обстоятельство. Почему-то для обозначения имени отца Вейдле выбирает, (именно выбирает) фамилию Грановского, знаменитого профессора европейской истории, сформировавшего генерацию образованных людей, – фамилию, которая для всякого просвещенного русского уже со второй половины XIX века стала синонимом европеизма, его просветительской, культурной линии русского христианского либерализма.
В биографическом случае Вейдле проблема наследования имени условного Грановского как способ самоидентификации уже несет в себе код культурной преемственности. Не будет преувеличением утверждать, что в настоящем русском отце Вейдле с присвоенной ему фамилией профессора-европеиста Грановского угадывается и отец незаконнорожденного юноши Аркадия Долгорукова – Версилов. Отсылка к знаменитому роману Ф. М. Достоевского «Подросток», который Вейдле неоднократно вспоминал в своих литературно-философских эссе, закономерна. В романе юноша Аркадий Долгоруков пытается решить сходную проблему. Рожденный в «случайном семействе» герой проходит путь взросления, вступая в сложные отношения со своими «фактическим» и «юридическим» отцами. Настоящий отец, рефлексирующий дворянин Версилов, рассуждает о социальной и духовной природе русской и европейской нации, защищая культурный универсализм, и возлагая на русское дворянство, как носителей ценностей европейского просвещения, задачу высшей национальной идеи служения отечеству. Соблазн обогащения – эту овладевшую сознанием подростка «ротшильдовскую идею» – Аркадий преодолевает не без влияния историсофских рассуждений Версилова, пересматривающего на русской почве применимость европейского опыта, и бесхитростных откровений приемного отца Макара Долгорукова, выражающего в идейном замысле романа нестяжательный путь и духовные ценности русского православия.
Можно говорить, что граница между русским и европейским миром подобным актом самоидентификации через образ человека культуры, ставший неким архетипом и обрастающий широким культурно-смысловым контекстом, устанавливается не только типологически, но и экзистенциально-личностно. Подобно тому, как культура осознает свои отличия на границе, так и личность конституируется своим инобытием в «ты», во встрече с другой личностью. В этом смысле Вейдле – человек на границе, воплощающий в себе встречу русской и европейской культуры, их духовно-интеллектуальный синтез. Как человек этой синтетической культуры он существует в актуальном диалоге, развернутом в пространстве и времени XX века. Вейдле иск лючительно талантливый, но чрезвычайно типичный представитель поколения университетских интеллектуалов, для которых культурный диалог России и Европы на рубеже XX века оказался творчески и профессионально продуктивным.
И тем ужаснее было этому поколению русского образованного класса осознавать, что проект будущего, который сулил России в начале XX века необычайный культурный подъем, успехи в экономике и модернизацию политической системы, не состоялся. Цивилизационное развитие России было сорвано, и по прошествии полувека понадобилось новое собирание исторических сил России, о чем и говорит Вейдле.
Свою мысль он формулирует в следующем тезисе: преемственность с исторической Россией может и должна быть восстановлена. Вейдле прекрасно понимал, что простого реверса история не знает, и в этом смысле возврат к прошлому невозможен. Но восстановить связь по оси исторического времени и культурного пространства – двух координат, в рамках которых выстраивается культурно-историческая субъектность любой национальной общности, имевшей длительный опыт существования, в том числе и государственный, реально! Этот призыв Вейдле, обращенный к новому образованному поколению советской России, актуален и для России постсоветской. Чтобы наследовать всю полноту русско-европейской культуры, стать носителем христианского культурного универсализма, который Россия на высоте развития своих интеллектуально-творческих достижений золотого века классики и века серебряного уже демонстрировала, необходимо, по словам Вейдле, заново прорубить окно. Но на первых порах не в Европу, «а в свое близкое, родное, но на половину неведомое ей, украденное у нее прошлое»[562]562
Там же. С. 72.
[Закрыть]. Вейдле уверен, что «соединясь с ним, как того ищет пореволюционное молодое поколение, она соединится и со всем другим, что от нее прячут и калечат: с европейским прошлым, столь же нужный ей, как и свое, и с европейским настоящим, для построения единого для России и Европы будущего»[563]563
Вейдле В. В. Задача России. С. 288.
[Закрыть].
Следует признать, что чаемый Вейдле проект построения единого российско-европейского будущего, с учетом доминирующей политической повестки дня, может показаться вновь отодвинутым на неопределенный срок. Тем не менее, его нельзя признать утопическим и нереализуемым. Так и Вейдле, осознавая культурную пропасть между дореволюционной и советской Россией, не просто верит в такой шанс для нового поколения, но как историк и философ культуры обосновывает его возможность и необходимость. Что служит теоретическим основанием его исторического прогноза – сценария возвращающейся к самой себе России, обретающей себя в процессе восстановления памяти национального предания в духе культурного универсализма Европы? Другими словами, в каких границах Вейдле хочет восстановить утраченную в XX веке Россию?
Реконструкция культурфилософских оснований сценария возвращения России в европейскую и мировую историю, на наш взгляд, может быть представлена следующим образом. Границы России, по Вейдле, должны быть восстановлены, во-первых, во времени. В работе «Три России» он говорит о двух завершенных во времени эпохах русской истории – допетровской и петербургской – и выделяет третью, пореволюционную, начавшуюся в XX веке и отличную о первых двух[564]564
Вейдле В. В. Умирание искусства. С. 132.
[Закрыть]. Категории, которыми оперирует Вейдле, – культурно-исторические. В истории для него существуют реальности прошлого, настоящего и будущего, обозначающие динамически-процессуальную сторону жизни культуры, ее структурный профиль во времени. Историческое бытие культуры обеспечивается законом наследования и преемственности, который заключается в передачи социального и духовно-творческого опыта от поколения к поколению. Проблеме преемственности культурного наследия России Вейдле посвящает немало страниц. Понимая преемственность, как «непреложный закон истории,…самого человеческого бытия»[565]565
Там же. С. 288.
[Закрыть], в отношении России он устанавливает критерий наследования «русскости», или национальной культуры. Говорить о «самом русском в России», означает говорить о «языке, литературе, искусстве, и не столько даже о них самих, сколько о мысли, которая их питала, которой Россия жила…»[566]566
Там же. С. 168.
[Закрыть]
Из этого положения проистекает еще один вариант интерпретации границ России, которые должны быть, согласно программе Вейдле, восстановлены. Эти границы пролегают в духовно-ментальной сфере и имеют две проекции – пространственную, локализующуюся топосом европейской и русской культуры, и смысловую, определяемую ценностями и значениями доминантной культуры, ее духовным модусом. Овеществленное наследство хранится в культурных институциях – архивах, музеях библиотеках, в то время как сам опыт даже «не передается, а преподается». Именно преподавание как передачу языка Вейдле называет основой предания[567]567
Там же. С. 168.
[Закрыть]. Язык речевого общения, равным образом как язык искусства и религии передает смыслы, т. е. образы мира. Таким образом, осуществление преемственности для Вейдле возможно как освоение смыслового богатства русской культуры – освоения ее семиосферы. Вейдле специально поясняет, что передача наследства – это не однородный и одноканальный процесс. Традиции и предания могут друг другу противоречить, не исключают они обновлений и перемен, даже требуют их. Смысловая преемственность, как подчеркивает Вейдле, «предполагает усвоение новым поколением того, что ему передается, а значит, и обновление, хотя бы частичное, переданного; но предполагает она все же и непрерывность этой передачи, непрерывное наследование меняющегося наследия»[568]568
Там же. С. 169.
[Закрыть]. Рассматривая проблему преемственности в таком методологическом ключе, Вейдле признает, что в сравнении с наци ональной историей Италии, Англии или Франции Россия как культурно-политическая нация не удалась. Он сетует на то, что история России прерывиста и связана «лишь единством рождающей земли, а не преемственностью наследуемой культуры»[569]569
Вейдле В. В. Задача России. С. 168.
[Закрыть]. Однако Вейдле отмечает, что русская история, представленная тремя типами культуры, социального порядка и государственности (в авторской версии «три России»), при всей ее исторической изменчивости все же демонстрирует некую логику самовоспроизводства. Она – в христианской основе ее цивилизации и духовно-культурном диалоге с Европой. Именно здесь и возникает вопрос отношения к традиции. В первом случае под традицией понимается сохранение ее наследия в культуре памяти, во втором традиция выступает как основание культуры, связанной с определенным типом ментальности, форм хозяйствования и быта, структурой социальных отношений.
Вейдле прямо указывает на исторический парадокс традиции с ее диалектикой консервативного и новаторского, что для философа однозначно выступает как возможность творческого освоения наследия. Двойственную роль традиции в наследовании социального опыта отмечал и Ю. М. Лотман, связывая ее с разновременной скоростью процессов, происходящих в культуре. Если история материальной культуры, особенно техники, сдает предшествующее изобретение в музей, работая в «последнем временном срезе», то «семиотические аспекты культуры (например, история искусства) развиваются, скорее, по законам, напоминающим законы памяти, при которых прошедшее не уничтожается и не уходит в небытие, а, подвергаясь отбору и сложному кодированию, переходит на хранение, с тем чтобы при определенных условиях вновь заявить о себе»[570]570
Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 615.
[Закрыть].
Память культуры как основание преемственности в случае с Россией работает не всегда. Во многих своих работах Вейдле говорит о том, что неоднократно в отечественной истории прихо дилось «и русское государство заново строить, и русскую душу»[571]571
Вейдле В. В. Умирание искусства. С. 132.
[Закрыть]. При этом существует и дополнительная трудность, которая не позволяет в полной мере механизмам памяти осуществлять свой отбор прецедентов социального творчества и переоценку исторического опыта. С этой трудностью, по словам Вейдле, не справилась ни киевская, ни московская, ни петербургская Россия. Очевидно, что с ней не справилась и Россия советская, а постсоветская продолжает транслировать всю ту же самую неразрешимую проблему национальной истории. Эта проблема заключается «в разобщенности народа и культуры, народа и государства». Она лишает «культурную традицию настоящей прочности» и не дает возможности вылечить «однажды происшедший разрыв»[572]572
Там же. С. 132.
[Закрыть].
В своих работах «Наследие России», «Россия и Запад», «Умирание искусства» Вейдле указывает на единственно возможный, по существу, путь восстановления России в ее исторических и ментальных границах – через восстановление преемственности интеллектуальных, творческих, духовных и образовательных практик. В рамках этой концепции история культуры и искусства работает как «закон памяти», актуализированный религиозной традицией. Для Вейдле анализ художественных текстов и творческого опыта создателей европейской и русской культуры выявляет значимые духовно-эстетические концепты, которые выступают смыслопорождающими моделями самой культуры. История прочитывается сквозь призму борьбы художественных идей, другими словами, искусство становится самым точным репрезентантом исторической и социальной динамики – наиболее аутентичным текстом культуры, способным отразить всю сложность протекающих в ней процессов. «Есть три ступени исторических катаклизмов (и, быть может, три разных слоя исторической жизни вообще); нельзя их ясней определить, чем исходя из их отношения к искусству», – пишет Вейдле[573]573
Вейдле В. В. Умирание искусства. С. 132.
[Закрыть]. Если первый слой в виде революций, войн, вторжений, переселений народов, и дает материал, и грубо вмешиваясь, может и убить, но не переродить, второй слой имманентен внутренним событиям и вызывает «изменения стиля, колебания вкусов и манер, перерыв или столкновение традиций», то третий грозит уже всеобщей катастрофой. Эта историческая трагедия, по мысли Вейдле, соприродна самому искусству, потому что она характеризует разлом внутри самой культуры, проявляя себя в разрушающем личность художника разладе[574]574
Там же. С. 41.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?