Текст книги "Искушение богини"
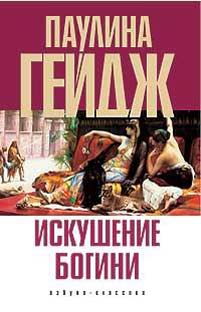
Автор книги: Паулина Гейдж
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
Изнывая от нетерпения, она ждала первых признаков беременности, не давая покоя лекарям и присматриваясь к себе; и когда наконец она узнала, что снова готовится подарить Тутмосу и Египту дитя, то немедленно отправилась в храм и взмолилась Амону, чтобы он сделал растущее в ней семя мальчиком. Страна возрадовалась, зато Асет выслушала новость в зловещем молчании, посадила маленького Тутмоса к себе на колени и так свирепо стиснула его, что ребенок испугался. После она никогда не заговаривала со своим царственным возлюбленным о предстоящем появлении на свет еще одного младенца. Сам Тутмос не радовался, но и не сердился – он старался не обижать Хатшепсут, чтобы и дальше наслаждаться ее сильным телом, и она охотно принимала его, пользовалась им, испытывая к нему все большую благодарность, по мере того как подавленное состояние духа проходило.
Время шло, она опять стала ко всему безразличной, но мысль о том, что она будет делать, если ребенок окажется девочкой, посещала ее все чаще. Амон ничего не обещал ей, и даже в уединении собственной комнаты, ночь за ночью простаивая на коленях перед его алтарем, она не ощущала согревающей уверенности в ответ на свои молитвы. Она приказала приносить больше жертв, и велела Тахути отлить для храма новые двери из меди и бронзы, украшенные электрумом, чтобы бог видел, как она ему предана. Когда их навешивали, она сама пришла совершить приношение, крохотная на фоне непомерно больших створок, которые полыхали в лучах раскаленного добела Ра так, что сияние густо-коричневого металла можно было видеть с другого берега реки.
По мере того как близился срок, беспокойство Хатшепсут распространилось сначала на ее непосредственное окружение, а потом и на весь город, так что и жители Фив, и обитатели дворца, и жрецы в храме просто сходили с ума, гадая, кто же родится у царицы. Сенмут, видя в царице отражение собственных потаенных желаний, выбивался из сил, стараясь занять ее текущими делами, но даже его общество не приносило ей облегчения. С горечью она думала о том, что это ее последний шанс, что, только дав Египту наследника чистой царской крови, она сможет смириться с мыслью о необходимости до конца дней прятать свое могущество за спиной Тутмоса.
Наконец срок настал, и князей Египта снова призвали к царскому ложу. На этот раз роды были стремительными. Хатшепсут, которая в перерывах между схватками расхаживала по комнате от стены к ложу и обратно, мучимая сомнениями и нетерпением, едва успела лечь и приготовиться, когда младенец, громко крича и молотя ручками и ножками, явился на свет.
Мгновение все затаив дыхание ждали, но вот повитуха с улыбкой повернулась к ним, а лекарь начал собирать свои снадобья.
– Снова девочка! И красавица!
Хатшепсут издала долгий протестующий крик и зарылась головой в подушки, а мужчины молча вышли из комнаты, обрадованные рождением еще одной царевны и озадаченные реакцией царицы, ибо все понимали, что в случае неожиданной смерти Неферуры другая царская дочь узаконит право наследника на престол, когда придет время.
Сенмут замешкался у дверей, всей душой стремясь обратно в комнату, чтобы утешить женщину, чьи рыдания не могла заглушить даже подушка, но мудро решил оставить ее одну, приложил свою большую печать к свитку на коленях писца Анена и зашагал сквозь шелесты ночи домой, к себе во дворец.
Тутмос не был так деликатен. Он стоял у ложа, склонившись над женой, и, не зная, как выразить свое участие, молча гладил ее содрогающиеся плечи. Но когда он попытался ее приподнять, она сердито вырвалась из его рук, и фараон, потоптавшись еще рядом, ушел. Ему было больно от сознания ее поражения и своей неспособности понять, что творится в ее голове. «Но, в конце концов, – думал он виновато, пробираясь назад, в свои покои, – она и впрямь дитя Амона, его истинное подобие в Египте, а богу, должно быть, нелегко умереть, зная, что он не оставляет после себя другого бога на троне». В более тонкие детали ситуации Тутмос предпочел не вникать, к тому же он рано встал в тот день, поэтому сразу лег в постель и крепко заснул.
В детской Неферура с опасливым благоговением рассматривала маленькую сестричку, а измученная мать наконец-то забылась беспокойным сном.
Асет взяла с Тутмоса обещание послать ей весточку, как только Хатшепсут родит, и он, прежде чем опуститься со вздохом на свое ложе, отправил к ней глашатая. Он очень хорошо представлял себе ее реакцию и теперь тоскливо желал, чтобы она не была такой злорадной и алчной. «Что поделаешь, – подумал он, когда раб укрыл его простыней и с поклоном вышел из комнаты, – даже фараон не может иметь все».
Асет повела себя именно так, как он ожидал. Глашатай застал ее в саду, где она бросала сыну мяч, а он бегал за ним среди деревьев, пытаясь перепрыгивать через цветочные клумбы. При виде высокого мужчины, который широкими шагами шел к ней по траве, и двух его телохранителей, которые следовали за ним, точно пара молодых львов, она поднялась, ее сердце быстро забилось, и мяч выскользнул из внезапно похолодевших пальцев. Глашатай и телохранители его величества поклонились Асет, а она подняла дрожащую руку и заслонила глаза от солнца.
– Ну? – нетерпеливо потребовала она. – Кого родила царица – мальчика или девочку?
Глашатай едва заметно улыбнулся.
– Божественная супруга, возлюбленная двух земель, сегодня разрешилась от бремени… девочкой, ваше высочество.
Глаза Асет сузились и вспыхнули, и вдруг она захохотала. Она хохотала до тех пор, пока слезы ручьями не потекли по ее лицу, до тех пор, пока не согнулась пополам от хохота. Мужчины смотрели на нее во все глаза, не веря, что возможно такое открытое неуважение. Тутмос подбежал к ней, подобрал мяч и стоял, прижимая его к себе, а его глаза делались все круглее и круглее, но мать все хохотала и остановилась только тогда, когда у нее заболел живот. Наконец она выпрямилась, хватая ртом воздух и вытирая слезящиеся глаза куском льняной ткани.
Глашатай холодно ждал, сохраняя бесстрастное выражение на лице.
– Что прикажете передать фараону? – спросил он.
Его ледяной тон заставил ее очнуться, и она ответила, дерзко глядя ему в глаза:
– Ничего. Скажите ему просто, что сегодня я здорова… и очень счастлива.
Он чопорно поклонился, повернулся на пятках и зашагал прочь, прямой как палка.
Асет опустилась перед Тутмосом на колени и принялась в порыве радости ласкать его бритую головенку и смуглые руки.
– Ты слышал, царевич мой маленький? Слышал? Ты станешь царем, Тутмосом III! Как ты будешь хорош в сияющем двойном венце и как могуществен! Я, скромная танцовщица из Асуана, стала матерью фараона!
Но в выражении лица Асет, когда она взяла мяч из рук сына и запустила его изо всех сил, не было ничего скромного. Мяч взмыл в воздух – все выше, выше, вот он растворился в солнечном свете, а потом упал прямо за стену, которая отделяла ее владения от владений Хатшепсут. Тогда она снова расхохоталась, приняв это за добрый знак; потом взяла сына за руку и не спеша повела его во дворец.
Каким-то образом об этом происшествии стало известно, и через два дня уже все знали, как вторая жена Асет долго и громко смеялась над тем, что царица родила вторую дочь, и осмелилась даже передать самому фараону, как она счастлива.
Дошла новость и до Хатшепсут, которой проболталась однажды утром парикмахерша, и царица, с трудом сохраняя на лице бесстрастную маску, хотя внутри у нее все кипело и клокотало от гнева, дождалась, пока глупая женщина уберется. Тогда она одним взмахом руки смела с туалетного стола все баночки с косметикой и направилась в приемную Тутмоса, оттолкнув стоявшего у дверей часового с такой силой, что тот ударился о стену и выронил копье. Несмотря на то что она еще не полностью оправилась после родов и чувствовала себя слабее, чем обычно, Хатшепсут решительным шагом подошла к окруженному придворными трону, на ступеньке которого примостилась Асет, и велела им всем убираться.
– Это и тебя касается, ты, шлюха! – прикрикнула она на Асет, лицо ее в этот миг было перекошено от по-настоящему звериной ярости, так что Асет подпрыгнула и, пригнувшись, шмыгнула мимо царицы, вмиг позабыв о своем обычном нахальстве.
Потрясенный, Тутмос спустился с трона, а Хатшепсут шагнула вперед и вплотную приблизила свое пылающее гневом лицо к его лицу, так что ему пришлось даже немного отступить.
– Тебя, мямлю, я еще терплю! – закричала она. – Терплю твою вопиющую никчемность и глупое позерство, но чтобы меня оскорбляла в моем собственном дворце, под носом у высших чинов двора, деревенская девка, вырядившаяся царевной, – это уже слишком!
Она потрясла кулаком у него перед носом и плюнула на пол, потом развернулась так, что юбки взлетели, и заходила по комнате взад-вперед, гневно раскачивая серьгами и звеня браслетами.
– Я терпела ее, Тутмос, ради тебя. «Фараон ничем не нарушил закон, – говорила я себе. – Он имеет право взять другую жену, потому что такова его привилегия, даже если его выбор пал на женщину, чье происхождение и род занятий оскорбляют самый воздух, которым я дышу!» Она глупа и вульгарна, Тутмос, и никогда не научится добродетелям, которыми обделена от рождения. Но теперь моему терпению, моей готовности идти тебе навстречу нанесен последний, решающий удар, и нанесли его вы оба, да, оба, – она ткнула в него пальцем, обличая, и он весь сжался под ее взглядом, – ибо оставить такую дерзость, такую ересь безнаказанной значит сказать всему городу: «Глядите! Одна моя жена смеется над другой, и я смеюсь вместе с ней!»
Ей не хватило воздуха, и она замолкла, стиснув кулаки и побледнев. Но это был еще не конец.
– Более того, – сказала Хатшепсут уже спокойнее, подходя к нему, – если ты сам не прикажешь ей оставаться в своих комнатах и не попадаться мне на глаза, пока мой гнев не утихнет, я прикажу ее выпороть. Я сделаю это, Тутмос, и ты меня не остановишь. Асет нужно преподать хороший урок, и сделать это надо сейчас, покуда ее растущая жадность и честолюбие не привели ее на эшафот.
Несчастный Тутмос крутил кольца у себя на пальцах. Ее ярость не произвела на него большого впечатления, ведь он знал, что характер у нее настолько же отходчивый, насколько и вспыльчивый. Но он знал, что она права и что он сам из трусости допустил, чтобы такое вопиющее нарушение дворцового этикета и вообще приличий осталось безнаказанным.
– Мне в самом деле очень жаль, Хатшепсет, и ты права, – заговорил он, видя, что ее гнев постепенно ослабевает. – Разумеется, я накажу Асет, но ты должна понимать, что она получила не столь утонченное воспитание, как мы с тобой. Жизнь у нее была не из легких.
– Ах, Тутмос, – возразила Хатшепсут устало. – Сколько людей рождаются в нищете и живут себе тихо и скромно, служа богу и своим ближним. В целых Фивах не найдется другой женщины, которая проявила бы такое жестокосердие к самому злейшему врагу, какое Асет проявила ко мне, а ведь я ей не враг, и она поняла бы это, если бы только дала себе труд подумать как следует. Я могла бы стать ее другом.
– Она тебя боится, – указал Тутмос. – Она чувствует себя неуверенно; вечно оглядывается через плечо. Ведь для нее царица – серьезная соперница.
Хатшепсут отрывисто рассмеялась:
– Да как она смеет думать о каком бы то ни было соперничестве между нами! Пусть себе оглядывается через плечо сколько ей заблагорассудится, у нее нет других врагов, кроме нее самой!
– Прости меня, – повторил Тутмос. – Мне приказать ее выпороть?
Хатшепсут взглянула на его озабоченно нахмуренное лицо с жалостью и презрением.
– В этом нет необходимости, по крайней мере сейчас. Но если она будет продолжать упорствовать в своей глупости, то это может оказаться единственным средством. Нет, Тутмос, просто запри ее в покоях и запрети выходить в сад. Я не хочу ее видеть ни за обедом, ни на прогулке, ни во время праздников. А теперь я возвращаюсь к себе.
Хатшепсут рассеянно отвесила ему короткий поклон и пошла к двери. Вдруг она обернулась и с кривой усмешкой, точно упрекая сама себя, спросила:
– Как тебе новая дочь?
Он смущенно переступил с ноги на ногу.
– Честно говоря, Хатшепсут, не знаю. Она, безусловно, здоровее, чем Неферура, но черты лица у нее какие-то смазанные. Она не похожа ни на тебя, ни на меня, ни на кого из наших родителей.
Хатшепсут скорчила гримаску.
– Вот именно, – бросила она. – Ну что же, Амон не захотел дать мне царя в сыновья!
И она вышла, тихонько притворив за собой дверь.
Девочку назвали Мериет-Хатшепсут, и Хатшепсут приняла этот выбор не моргнув и глазом. Имя было хорошее, надежное, оно не будило никаких воспоминаний или предчувствий, и ребенка в должном порядке принесли в храм и представили богу. Сенмут не испытывал никаких опасений за эту девочку. Она была очень здорова, росла не по дням, а по часам, и все же не вызывала в нем столь же теплого чувства, как хрупкая Неферура. Он был доволен, что его не назначили ее опекуном. Радовало Сенмута и то, что Хатшепсут быстро оправилась после вторых родов и уже через несколько недель вернулась к делам. Дворец снова загудел, как большой улей, собирая, точно нектар, золотую дань и высылая разведчиков, рабочих и посыльных, которые ездили по Египту из конца в конец, исполняя приказы царицы.
Хатшепсут справилась со своим разочарованием. Но, как и Сенмут, она не могла найти в своем сердце любви к младшей дочери. Она все время задавалась вопросом: потому ли, что так отчаянно хотела сына, или потому, что отказалась подержать девочку на руках в первый момент после ее рождения? Как бы то ни было, крохотное красное личико с тонкими чертами совершенно ее не трогало, и она чувствовала себя виноватой. Когда подошел первый день рождения Мериет, Хатшепсут, к своему ужасу, заметила, что та похожа на Асет – не лицом, а характером. Девочка оказалась плаксой, она то и дело заливалась слезами, иногда настоящими, но чаще притворными, чтобы получить то, чего ей хотелось. День за днем она испытывала терпение своих нянек. В детской стало шумно, и в конце концов Сенмут настоял, чтобы Неферуре отвели отдельный маленький покой. Хатшепсут согласилась, и царевну водворили в специально для нее отделанную комнату для слуг рядом со спальней матери. Так случилось, что царица и будущий соправитель сблизились еще больше, оставив плаксивого, вечно орущего младенца на попечении наемных кормилиц.
У Хатшепсут и в мыслях не было пренебрегать Мериет. Она приходила поиграть с ней и покачать ее так часто, как только могла, но она была занятой женщиной, у которой никогда не хватало времени. Ей проще было брать с собой Неферуру и разговаривать с ней, переходя из храма в рабочий кабинет, а оттуда в обеденный зал. А малышка в детской в бессильном гневе топала ногами, видя, как сестра и мать вместе уходят, оставляя ее с кормилицами и няньками. Мериет-Хатшепсет очень рано узнала, что такое ревность.
Глава 19
В начале месяца Тот, когда река уже начала подниматься и феллахи работали в полях день и ночь, чтобы собрать урожай, прежде чем злые зимние воды зальют землю, Тутмос простудился. Несколько дней подряд фараон отказывался от еды, жалуясь, что у него болит голова. – Когда у него начался насморк и поднялась температура, он тут же улегся в кровать. Врач прописал смешанный с кассией горячий лимонный сок с медом, и несчастный Тутмос пил лекарство и окружал себя амулетами и заговорами. Три дня спустя лихорадка продолжалась, хотя все симптомы простуды прошли. Встревоженный врач пошел за Хатшепсут. С ней был Инени: они вместе просматривали отчеты о расходах храма за последний месяц.
– Как себя чувствует сегодня Тутмос? – быстро спросила у лекаря Хатшепсут, не отрывая глаз от лежавшего перед ней свитка и думая о цифрах Инени.
Лекарь стоял, неловко теребя золотого скарабея на своей впалой груди.
– Могучему Гору совсем нехорошо, – начал он. Едва услышав его голос, Хатшепсут тут же повернулась к нему, забыв о свитках. – Простуда прошла, но лихорадка не унимается. Его величество слабеет.
– Тогда позови магов, немедленно! Чары и заклятия – лучшее средство от лихорадки. Как ты лечил его до сих пор?
– Я лечил кашель и заложенный нос, ваше величество; это прошло. Но больше я ничего не могу сделать. Фараон просит, чтобы вы пришли к нему, но я не советую этого делать.
– Почему нет?
– Его дыхание источает зловоние. Простите мои слова, ваше величество, но, по-моему, вам не следует к нему приближаться.
– Вот еще! С каких это пор я стала бояться дурных запахов? Инени, на сегодня мы закончили. Унеси свитки обратно к писцу.
В спальне Тутмоса было душно и воняло. Он лежал на спине и постанывал. Наклонившись к нему для поцелуя, она почувствовала, что кожа у него горячая и сухая. Она отпрянула в тревоге.
– Хатшепсет, – прошептал Тутмос. Его голова перекатилась по подушке в ее сторону. – Вели этим дуракам принести мне воды. Они не дают мне пить.
Озадаченная, она поглядела на лекаря, гневные слова уже были готовы сорваться с ее губ. Старик был непреклонен.
– Его величеству можно лишь цедить воду маленькими глоточками, а не пить по полхекета, как он настаивает. Я уже говорил ему, что потребление такого количества жидкости зараз вызовет сильные боли.
– К Сету тебя с твоей воркотней! – Тутмос резко пошевелился под простынями, и она почувствовала его дыхание, зловонием ударившее ей в нос.
– Но ведь помыть-то его, по крайней мере, можно! – прорычала Хатшепсут. – Принесите теплой воды и полотенец, я сама его обмою. И поднимите занавеси на окнах! Разве он может уснуть в такой жаре?
Жавшиеся в углу рабы бросились исполнять приказания, а она опустилась в кресло у ложа Тутмоса.
– Ближе поднесите опахало! – рявкнула она.
Едва воздух над ним пришел в движение, Тутмос закрыл глаза.
– Я горю, – снова прошептал он. Тут его затрясло, дрожащие пальцы стиснули покрывало, зубы застучали. Хатшепсут посмотрела на него по-настоящему испуганно, поправила ему подушку.
– Не тревожься, Тутмос, – сказала она. – Я приказала привести магов, скоро они прогонят лихорадку из твоего тела.
Он метался и стонал, не отвечая.
Раб с тазом горячей воды приблизился к постели. Она велела поставить воду рядом с собой и стала снимать кольца. Потом плеснула в воду немного вина, обмакнула в нее край полотенца и провела по его лицу. Он слабо улыбнулся, его рука зашарила в поисках ее руки. Потихоньку она сняла с него простыни и обмыла его с головы до ног. Все его тело болезненно блестело, и это был не пот. Его слегка раздуло, и, работая, она поджала губы. Что бы это ни было, но заклинания тут вряд ли помогут.
Кончив, Хатшепсут ополоснула руки в прохладной воде и стала в задумчивости надевать кольца. Пока она сидела, объявили о приходе магов. Склонившись над мужем, Хатшепсут прошептала ему в ухо:
– Тутмос, волхвы пришли. Мне нужно идти. Меня ждут в другом месте, но я вернусь, как только смогу, и помою тебя снова. Хочешь?
Он вдохнул запах ее духов, который едва уловимым приятным облаком витал над ним. Ему хотелось повернуть голову и открыть глаза, но это было выше его сил, и он только кивнул один раз.
Хатшепсут поднялась.
– Приступайте немедленно, – приказала она безмолвным фигурам в плащах, – и не останавливайтесь до тех пор, пока фараон снова не выйдет из своей спальни на охоту!
Она сверкнула улыбкой и, затворяя за собой дверь, услышала низкое тягучее пение.
Царица послала Асет известие, разрешив ей навестить Тутмоса, но запретив брать с собой сына. Телохранителю, который должен был доставить это сообщение, она велела подождать и убедиться, что ее приказ исполнен в точности. После этого женщина пошла в мастерскую к Тахути и оставалась там некоторое время.
Когда она вернулась в спальню Тутмоса, лекарь встретил ее у дверей. Вокруг него толпились придворные фараона. Вид у врача был напуганный.
– Ваше величество, вам нельзя входить, – сказал он. – Фараон спит, но это нездоровый сон, у него по всему телу высыпали пустулы.
– А где вторая жена Асет? – спросила Хатшепсут.
– Она была здесь, но я отослал ее к себе, – сказал лекарь. Как он ни протестовал, Хатшепсут все-таки проложила себе дорогу в комнату.
– Хватит! – крикнула она магам, и бормотание тут же умолкло. Она подошла к Тутмосу.
Фараон лежал на боку и спал, рот его был открыт. Дышал он тяжело, его хрипы заполняли всю комнату. Покрывало сползло до пояса, и она увидела, что вся верхняя часть его тела покрылась мелкими белыми узелками, а кожа между ними стала желтой, нездоровой и блестящей.
– Это чума? – шепнула она последовавшему за ней лекарю.
Он покачал головой и вскинул руки, точно удивляясь и смиряясь одновременно.
– Ее разновидность, – был его ответ.
Оба умолкли, глядя на спящего царя, и каждый думал о своем.
– Не отходи от него, – приказала Хатшепсут, – и дай мне знать, как только наступит перемена.
Он поклонился, Хатшепсут вышла и направилась в храм в сопровождении притихших женщин и телохранителей. К богу она вошла одна, но дверь в святилище была заперта на замок. Она легла перед дверью ничком, касаясь ее пальцами вытянутых вперед рук, и закрыла глаза. «О Отец мой, – молилась она, не чувствуя ничего, кроме желания оказаться в объятиях его золотых рук. – Неужели Тутмос умрет? Если он умрет…» Ей показалось, будто насмешливое эхо шепотом повторило ее мысли и они зазмеились среди громоздящихся вокруг колонн, вырвались в зияющую пустоту внутреннего двора, поплыли вверх со струйками ароматного дыма.
Если он умрет, если он умрет, если он умрет, если он умрет… Она изо всех сил зажмурилась и потерлась лбом о золотой пол. Но слез не было.
Вечером она вернулась в его комнату и села рядом с ним. Пустулы прорвались, из них вытекала бесцветная слизь, которая приклеивала простыни к телу, причиняя еще больше мучений. Он беспрерывно метался и звал Хатшепсут, его грузное тело стало мягким и дряблым, как у мертвого животного. Она много раз наклонялась над ним, но всякий раз видела, что он без сознания и бредит ею. Казалось, он заживо гниет. Запах разложения вызывал позывы к рвоте у каждого, кто приближался к его постели. Одна Хатшепсут сидела неподвижно. Без всякого выражения на прекрасном лице она сидела, не сводя с него глаз.
Однажды Асет прокралась в комнату, опасливо глядя на Хатшепсут, но видя, что царица не возражает, подошла к ложу, зажав ладонями нос. Тихо вскрикнув, она уставилась на мечущееся, бормочущее тело. Настала ночь, зажгли лампы, но даже при их мягком золотистом свете была видна гниющая плоть. Асет стремительно отвернулась и встретила пристальный взгляд Хатшепсут.
– А сейчас ты любишь его, Асет? – спросила та тихо. – Вдоволь нагляделась на царственного мужа? Уже бежишь в свой уютный маленький покой?
Она повернула голову и крикнула управляющему Тутмоса:
– Принесите кресло для второй жены! Поставьте по другую сторону ложа. А теперь, Асет, садись. Садись!
Женщина упала в кресло, но отворачивала лицо в сторону, покуда Хатшепсут не прошипела:
– Смотри на него! Он поднял тебя из грязи, осыпал сокровищами и дал тебе столько любви, сколько иная женщина не увидит, проживи она хоть тысячу жизней. А ты воротишь от него нос, как будто он нищий перед вратами храма! Если он придет в себя, то должен встретить твой обожающий взгляд, прикованный к нему, неверная!
Асет, у которой даже губы побелели, подчинилась.
Но Тутмос не пришел в себя. Около полуночи он заскулил жалобно, точно раненый пес, по его Лицу потекли слезы. Хатшепсут взяла его беспокойно мечущиеся руки в свои, крепко сжала, и он вздохнул. После этого он продолжал дышать мелко и часто, его веки дрожали. Когда рога протрубили полночь, он умер, все еще плача, и его слезы падали на постель и на ее руки.
Она встала и обратилась к потрясенным свидетелям его смерти:
– Пошлите за жрецами, а когда они унесут его, присмотрите за тем, чтобы белье как следует простирали, а ложе отмыли.
Асет, вся обмякнув, все еще сидела в кресле, по лицу женщины было видно, что она еще не постигла суть произошедшего. Хатшепсут подошла к ней и мягко помогла подняться.
– Иди к своему сыну, – сказала она сердечно. – Он любил вас обоих, так что пока его запрет на твое передвижение по дворцу снят. Ходи где хочешь.
Асет вышла из комнаты деревянной походкой, как сомнамбула.
Наконец ушла и Хатшепсут. У нее было такое чувство, словно Тутмос умер понарошку, а завтра они проснутся, и все пойдет по-прежнему: он будет охотиться, она – править, а вечером они встретятся за обедом и будут добродушно подтрунивать друг над другом весь вечер. Тот факт, что за пределами зловонного золотого покоя не изменилось ровным счетом ничего, показался ей почти оскорбительным.
Весь Египет был потрясен. Неудачное время года для смерти фараона, особенно молодого и здорового. Сбор урожая стремительно подошел к концу, и людям ничего не оставалось делать, кроме как сплетничать да следить, как поднимается река. И, как и следовало ожидать, тут же поползли самые противоречивые слухи.
Хатшепсут знала о них. Однажды, когда траур уже почти кончился, она послала за лекарем Тутмоса, пригласив судей, Асет и маленького Тутмоса присутствовать при разговоре. Когда все пришли, она, не теряя времени, перешла к делу.
– До моих ушей, – начала царица без обиняков, – дошли грязные и клеветнические слухи, которые распускают обо мне. Поскольку все присутствующие их слышали, я не стану осквернять свой рот их повторением. Лекарь, отчего умер мой брат?
Тот, не колеблясь, ответил:
– Он умер от чумы, ваше величество. Я в этом нисколько не сомневаюсь.
– Существует ли какой-нибудь яд, отравление которым привело бы к тем же симптомам, какие наблюдались у него?
Лекарь покачал головой:
– Я уже много лет лечу разные болезни, ваше величество, и никогда с таким ядом не сталкивался.
– Перед тобой лежат документы. Готов ли ты поклясться Амоном, Осирисом и именами своих предков, что фараон умер естественной смертью?
Хатшепсут бросила проницательный взгляд на Асет, которая стояла молча, не отрывая птичьих глаз от лица лекаря. Тот уверенно кивнул:
– Я могу дать такую клятву.
– Боишься ли ты меня, благородный? Он улыбнулся ей.
– Ваше величество, я старик, и мне уже некого бояться, кроме Анубиса и его суда. Я говорю правду. Гор умер от чумы. Вот и все.
– Тогда сядь и приложи свою печать к каждому листу. Мои глашатаи пронесут их по всем городам страны, большим и малым. С сегодняшнего дня всякий, кто осмелится утверждать противное, умрет.
Все видели, как царица намеренно посмотрела на Асет и как та переступила с ноги на ногу, привлекая малыша Тутмоса к себе. Судьи закивали и зашептались. Она спросила, удовлетворены ли они. Те хором подтвердили свое полное удовлетворение, низко поклонились ей и ушли. Асет тоже вышла, не сказав ни слова.
Похороны пришли, почти как запоздалая мысль. Тутмос II сошел в свою могилу неподалеку от любимого храма Хатшепсут, не оставив даже ряби на водах общественной жизни Египта. Задолго до того, как похоронная процессия, увязая в песке, потянулась к могиле, всем уже стало казаться, будто его и не было никогда, если бы не дети, торжественно выступавшие за гробом. Первой шагала Неферура с матерью, обе были в траурных синих одеяниях; Асет с Тутмосом сослали в дальний конец процессии, туда, где выли и рвали на себе одежды женщины из гарема. Мутнеферт было позволено идти за гробом рядом с Хатшепсут, и она жалобно плакала всю дорогу, так что сердце разрывалось при взгляде на нее. Хатшепсут грустно подумала, что никто, кроме Мутнеферт, не принес истинной скорби к дыре в скате и нарядному посмертному храму, где изображение Тутмоса уже ждало приношений и молитв народа. Руки Мутнеферт были заняты охапкой цветов, которые она собиралась положить на фоб. Неферура тоже прятала носик в букет, ее лицо ничего не выражало, а мысли были скрыты от прекрасной женщины, которая держала ее за руку, безмолвно шагая рядом с ней. Ожидая, когда гроб поставят стоймя, придет Менена со священным ножом и начнет церемонию открывания рта, Хатшепсут вспоминала все похороны, какие ей довелось видеть: своей сестры, матери, отца и вот теперь брата. Женщине казалось, что ей и только ей одной суждено жить вечно, всегда оставаясь молодой, сильной и прекрасной.
Через четыре дня, который обычай отводил для таинственных ритуалов, Хатшепсут вошла в могилу, чтобы проститься с Тутмосом. Она оглядела все его вещи, но не почувствовала никакой силы, исходящей от них, как это было после смерти сестры или отца. Ее глаз не остановился ни на одной вещи, которая пробудила бы в ней воспоминания или сожаления. Когда Асет, утопая в слезах, упала на его фоб, Хатшепсут спросила себя, что это: истинная любовь или страх перед тем, что ждет их с сыном в будущем без благосклонной поддержки фараона?
Несколько недель Египет ждал, что царица вот-вот подтвердит право Тутмоса III на престол, а себя объявит регентом на время, пока он не повзрослеет. Однако ее ближайшее окружение не удивляло, что долгожданное объявление задерживается. Колеса власти крутились, как им и полагалось. Царица проводила аудиенции и принимала послов. Она молилась и охотилась, танцевала и пировала, точно ни Асет, ни ее ребенка не было на свете.
Сама Асет несколько дней, последовавших за похоронами, провела в непрестанном страхе: в любой миг она ожидала услышать, что ее с Тутмосом изгоняют из страны. Но время шло, страхи отступали; наконец она начала искать способ выяснить, что у царицы на уме. Но все ее попытки словно натыкались на глухую стену. Асет вернулась к себе, встревоженная и озадаченная. Хатшепсут не возобновила запрет на ее передвижение по дворцу, так что, когда страх уступил место злости, женщина мерила шагами сад. А царица по-прежнему не подтверждала прав ее сына на престол. Тогда Асет решила взять дело в свои руки.
Однажды утром, когда Хатшепсут в присутствии Сенмута, Инени и Хапусенеба только начала разбирать утреннюю корреспонденцию, в зал ворвался Дуваенене, главный глашатай. Он запыхался, взгляд его был безумен. Едва он начал заикаясь объяснять, в чем дело, как следом вошел Ипуиемре, второй пророк Амона. Последним в зал бочком пробрался Менена, он встал, сложив руки на пухлом животе, с выражением благочестивой радости на елейной физиономии.
– На пол, все вы! – закричал Сенмут. – Здесь вам не пивная!
При этом громком напоминании все тут же пали ниц.
– Встаньте, – ровным голосом сказала Хатшепсут. В мыслях она металась от одного вошедшего к другому, пытаясь угадать причину внезапного вторжения, но те стояли молча.
– Ипуиемре, друг мой, ты, по-моему, здесь самый спокойный, – сказала она. – Учитывая, что я поклялась никогда не вступать в беседу с первым пророком Амона, тебе разрешается говорить.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































