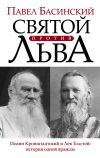Читать книгу "Страсти по Максиму. Горький: девять дней после смерти"

Автор книги: Павел Басинский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
«Надумали болеть!»
Вспоминает Пешкова: «Приехали Сталин, Молотов, Ворошилов. Когда они вошли, А. М. уже настолько пришел в себя, что сразу же заговорил о литературе. Говорил о новой французской литературе, о литературе народностей. Начал хвалить наших женщин-писательниц, упомянул Анну Караваеву – и сколько их, сколько еще таких у нас появится, и всех надо поддержать…»
Сталин беспокоится:
– О деле поговорим, когда поправитесь.
Горький переживает:
– Ведь сколько работы!
Сталин строго шутит:
– Вот видите… а вы… Работы много, а вы надумали болеть, поправляйтесь скорее.
И наконец – последний аккорд:
– А быть может, в доме найдется вино, мы бы выпили за ваше здоровье по стаканчику.
«Принесли вино… Все выпили… Ворошилов поцеловал Ал. М. руку или в плечо. Ал. М. радостно улыбался, с любовью смотрел на них. Быстро ушли. Уходя, в дверях помахали ему руками.
Когда они вышли, А. М. сказал: “Какие хорошие ребята! Сколько в них силы…”»
Но насколько можно доверять этим воспоминаниям Пешковой? В 1939 году она выправила свой устный рассказ, записанный летом 1936-го с ее слов сразу после чудесного возвращения Горького к жизни. С тех пор состоялись судебные процессы 1936–38 годов, на которых была разгромлена сталинская оппозиция, а образ Горького был внедрен в народное сознание в качестве жертвы этой оппозиции и друга вождя.
В 1964 году на вопрос американского журналиста и близкого знакомого Исаака Дон Левина об обстоятельствах смерти Горького Пешкова отвечала уже иначе: «Не спрашивайте меня об этом! Я трое суток заснуть не смогу, если буду с вами говорить об этом».
Ее можно понять. Можно понять и Будберг, наговорившую свои воспоминания через пять дней после смерти Горького, перед тем как ее выпустили в Лондон. Она не могла не учитывать, что между тем, что она скажет, и ее отъездом существует прямая зависимость. Будберг утверждает, что в течение девяти последних дней жизни Горький непрерывно думал о «сталинской» Конституции. Ее проект был опубликован как раз в эти дни.
«Очень хотел прочитать Конституцию, ему предлагали прочитать вслух, он не соглашался, хотел прочитать своими глазами. Просил положить газету с текстом Конституции под подушку в надежде прочитать “после”. Говорил: “Мы вот тут занимаемся всякими пустяками (болезнью), а там, наверно, камни от радости кричат”».
Через девять лет Черткова резонно возразит в своих воспоминаниях: «Если бы газета лежала под подушкой, я бы видела…»
Тем не менее в воспоминаниях Будберг проскальзывают и опасные замечания: «Приехавшие (Сталин, Молотов и Ворошилов. – П. Б.) с деланой бодростью (курсив мой. – П. Б.) заговорили о текущих делах». Из ее же воспоминаний следует, что Сталин с товарищами приезжали второй раз в два часа ночи. Но зачем?! Крючков относит этот ночной визит на 10 июня. Но почему ночью? Горький спал. Крючков и Будберг говорят, что Сталина «не пустили». Воспротивился профессор Кончаловский. Будберг утверждает, что не пустили она и профессор Ланг, а вот доктор Левин (впоследствии расстрелянный) «лебезил и говорил Сталину: “Ну, если вы так хотите, то я попытаюсь”».
Визит Сталина с членами Политбюро в два часа ночи к смертельно больному Горькому сложно понять нормальному человеку. Хорошо известно пристрастие Сталина к ночным посиделкам с выпивкой и обсуждением важных государственных проблем. Молотов и Ворошилов входили в ближайшее окружение Сталина. Может быть, 10 июня ночью они просто решили изменить маршрут и заехать к Старику? Вино в доме есть. Подали ведь шампанское в прошлый визит, дабы отметить чудесное воскрешение Горького.
Согласно воспоминаниям Крючкова, третий – и последний – визит Сталина состоялся 12 июня. Горький не спал. Однако врачи, как ни трепетали они перед Сталиным, дали на разговор только десять минут. О чем они говорили? О книге Шторма про крестьянское восстание Болотникова. Затем перешли к «положению французского крестьянства» (воспоминания Будберг). Получается, что 8 июня главной заботой генсека и вернувшегося с того света писателя были женщины-писательницы, а 12-го стали французские крестьяне.
Будберг говорит, что 12 июня Горькому было очень плохо. То же подтверждается и врачебными хрониками: «…значительная общая слабость, спутанность сознания, часто цианоз. <…> Сидит. Время от времени дремлет. <…> Около 1 ч дня вырвало свернутым молоком. <…> Дремлет сидя. Отек нижних конечностей»…
Однако после посещения Сталина, как вспоминает Будберг, Горькому стало гораздо лучше. И доктора это подтверждают: «Сознание ясное. <…> Пульс правильный».
Создается поразительное впечатление! Приезды Сталина волшебно оживляют Горького. (Если на минуту забыть об ударных инъекциях камфары.) Горький словно не смеет умереть без разрешения Сталина. Это невероятно, но Будберг прямо скажет об этом пять дней спустя после кончины писателя: «Умирал он, в сущности, 8-го, и если бы не посещение Сталина, вряд ли вернулся к жизни. Ощущение смерти было и 12-го». Именно в тот день Сталин приезжал в последний раз. После его посещения Горький проживет еще пять дней.
Семнадцать врачей круглосуточно бьются за жизнь государственно важного пациента. Но спасает его мудрая беседа со Сталиным. О женщинах-писательницах и французских крестьянах.
«Надумали болеть!»
«Максимушка» и «товарищи»
«Были у Вас в два часа ночи. Пульс у Вас, говорят, отличный (82, больше, меньше). Нам запретили эскулапы зайти к Вам. Пришлось подчиниться. Привет от всех нас, большой привет. И. Сталин».
Эскулап в римской мифологии – бог врачевания, соответствует греческому Асклепию. В переносном смысле – это врач. Кстати, Асклепий воскрешал мертвых.
Сталин умел быть ироничным.
Что же все-таки происходило?
Горький не входил в сталинское окружение. Сталин мог называть (и даже считать) его своим соратником. Он мог называть (и даже считать) его своим другом. Но не частью окружения. Положение Горького в СССР и во всем мире было слишком значительно, чтобы Сталин посмел без необходимости вламываться к нему ночью, прекрасно зная о его физическом состоянии.
Впрочем, Ромен Роллан в «Московском дневнике» с удивлением замечает, как Сталин развязно подшучивает над Горьким во время застолья: «Кто тут секретарь, Горький или Крючков? Есть порядок в этом доме?»
Вячеслав Иванов, лингвист, сын советского писателя Всеволода Иванова, вспоминает (со слов отца), что Горький был возмущен резолюцией Сталина на поэме «Девушка и Смерть», начертанной осенью 1931 года. Вот ее точный текст: «Эта штука сильнее, чем “Фауст” Гёте (любовь побеждает смерть). 11/Х–31 г.».
«Мой отец, говоривший об этом эпизоде с Горьким, утверждал решительно, что Горький был оскорблен. Сталин и Ворошилов были пьяны и валяли дурака…»
Вообще-то валять дурака было нормой в семье Горького. Там ценились острые шутки. Особенно когда появлялся неугомонный Максим. Но Сталин не был членом семьи. Как и Бухарин, который (о чем с не меньшим изумлением пишет Ромен Роллан) в шутку «обменивается с Горьким тумаками (но Горький быстро запросил пощады, жалуясь на тяжелую руку Бухарина)». И дальше: «Уходя, Бухарин целует Горького в лоб. Только что он в шутку обхватил руками его горло и так сжал его, что Горький закричал».
Горький не был вполне человеком партийного круга. Его культурная и нравственная харизма была иной. Поэтому Горький мог свободно общаться с пушкинистом Ю. Г. Оксманом, физиологом И. П. Павловым, художником А. Н. Бенуа, востоковедом С. Ф. Ольденбургом и другими людьми отнюдь не партийного круга. И Сталин не мог этого не понимать…
Значит, попытка ночного вторжения была вызвана необходимостью. Сталину это было зачем-то нужно. И 8-го, и 10-го, и 12-го ему был необходим откровенный разговор с Горьким или стальная уверенность, что такой же откровенный разговор не состоится с кем-то другим. Например, с ехавшим из Франции к умиравшему Горькому Луи Арагоном.
Отношение Сталина к воскрешению Горького не вполне понятно. Он смущен и недоволен, что вокруг Горького слишком много людей. Особенно он недоволен присутствием Ягоды. На первый взгляд это кажется нелогичным. Кому же, как не главе НКВД, сторожить последнее дыхание (и последние слова!) государственного человека? И ведь уже не секрет, что у вождя с Горьким возникли разногласия. Он дружит с противниками Сталина – Рыковым, Бухариным, Каменевым. Григорий Зиновьев обращается к нему за помощью из тюрьмы:
Алексей Максимович!
Искренно прошу Вас, простите мне, что после всего случившегося со мной я вообще осмеливаюсь писать Вам. У меня давно не было с Вами ни личного, ни письменного общения, и мне, по правде говоря, часто казалось, что я лично не пользовался Вашими симпатиями и раньше. Но ведь Вам пишут многие, можно сказать, все. Причины этого понятны. Так разрешите и мне, сейчас одному из несчастнейших людей во всем мире, обратиться к Вам.
Самое страшное, что случилось со мною: на меня легло гнуснейшее и преступнейшее из убийств, совершившихся на земле, – убийство С. М. Кирова, того Кирова, о котором Вы так прекрасно сказали, что «убили простого, ясного, непоколебимо твердого, убили за то, что он был именно таким хорошим и – страшным для врагов» (цитата из статьи Горького «Литературные забавы», опубликованной в газете «Правда» 24 января 1935 года. – П. Б.). Конечно, раньше мне никогда и в голову не приходило, что я могу оказаться хоть в какой-то степени связанным с таким, по Вашему выражению, «идиотским и подлым преступлением». А вышло то, что вышло. И пролетарский суд целиком прав в своем приговоре. Сколько бы ни пришлось мне еще жить на свете, при слове «Киров» мое сердце каждый раз должно почувствовать укол иглы, почувствовать проклятие, идущее от всех лучших людей Союза (да и всего мира). <…>
Два дня суда были для меня настоящей казнью. До чего дошло дело, я здесь увидел целиком впервые. Описать мне то, что пережито за эти дни, нет сил. Да для этого нужно и перо другой силы. В душе настоящий ад. Болит каждый нерв. Страшно даже пытаться это описывать. <…>
Вы – великий художник. Вы – знаток человеческой души, Вы – учитель жизни, Вы знаете и хотите знать всё. Вдумайтесь, прошу Вас, на минуточку, что означает мне сидеть сейчас в советской тюрьме. Представьте себе это конкретно. <…>
Помогите, Алексей Максимович, если сочтете возможным! Помогите, и, я думаю, Вам не придется раскаиваться, если поможете.
Живите счастливо, Алексей Максимович, живите побольше – на радость всему тому, что есть хорошего на земле. Того же от всего сердца я желаю Иосифу Виссарионовичу Сталину и его соратникам. Если позволите, жму Вашу руку.
Г. Зиновьев
Я кончаю это письмо 28 января 1935 г. в ДПЗ, и сегодня же меня, как мне сказано, увозят… Куда – еще не знаю. Самое страшное: книг, которые мне переданы родными, я не получил. Мне их не дают пока. Я полон по этому поводу ужасной тревоги. Помогите! Помогите!
Ни письмо Зиновьева, ни письмо Каменева с такой же просьбой о помощи не были переданы Горькому. Это были гласы вопиющих в пустыне, «увы, не безлюдной», как любил говорить Горький.
Обратим внимание, что Зиновьев отделяет Горького от непосредственного окружения Сталина. В его глазах Горький – последняя сила, не только не подчиненная Хозяину, но и способная сама повлиять на него. Понятно, что письмо написано эзоповым языком, с недвусмысленными намеками, по каким направлениям вести защиту Зиновьева перед Сталиным, если эта защита состоится. Зиновьев льстил Сталину в расчете на то, что Горький (например, во время дружеского застолья) передаст Хозяину лесть и по доброте душевной замолвит за него словечко.
Но сравним это с посланием бежавшего после революции из Петрограда в Сергиев Посад писателя-философа В. В. Розанова. Розанов погибал с семьей от голода и холода и в конце 1917-го обратился за помощью к Горькому:
«Максимушка, спаси меня от последнего отчаяния. Квартира не топлена, и дров нету; дочки смотрят на последний кусочек сахару около холодного самовара; жена лежит полупарализованная и смотрит тускло на меня. Испуганные детские глаза… и я, глупый… Максимушка, родной, как быть? <…> Максимушка, я хватаюсь за твои руки. Ты знаешь, что значит хвататься за руки? Я не понимаю ни как жить, ни как быть. Гибну, гибну, гибну…»
Жертвы и палачи на краю могилы – как они похожи друг на друга! Как новорожденные дети, которых только матери способны различить. И как это разительно противоречило горьковской мечте о гордом Человеке! Вот они, «человеки», умоляют «Максимушку», который еще чем-то может помочь. А чем он может им помочь? Он сам бессилен.
Впрочем, в 1918 году он помог Розанову. Передал через М. О. Гершензона четыре тысячи рублей, позволившие семье философа выжить лютой подмосковной зимой 1917–1918 годов.
Но могло ли спасти Зиновьева заступничество Горького, если бы таковое состоялось? Нет. Обречен был не только Зиновьев. Обречен был сам Горький. Слишком запутался. И даже если бы не грипп, не пекло, не майский ветер… И не смерть сына Максима…
«Погубили, плохо»
«Председательствующий. Подсудимый Крючков, поскольку вы подтвердили уже свои показания, данные на предварительном следствии, расскажите вкратце о ваших преступлениях».
Крючкова обвиняли в том, что он вместе с доктором Левиным по заданию Ягоды «вредительскими методами» умертвил сына Горького Максима Пешкова. Но зачем? Если следовать показаниям других подсудимых, политический расчет был у «заказчиков» – Бухарина, Рыкова, Зиновьева и других «оппозиционеров». Они таким иезуитским способом хотели ускорить смерть самого Горького, выполняя задание Троцкого. У Крючкова, если верить его признаниям, были «экономические» задачи. Убивая Максима, он якобы надеялся стать собственником огромного творческого наследия писателя. Но каким образом? Для этого Крючкову следовало устранить еще и жену Горького, его невестку и внучек. Этого законного вопроса А. Я. Вышинский подсудимому не задал.
«Крючков. Он (Ягода. – П. Б.) тогда говорил мне так: дело тут не в Максиме Пешкове – необходимо уменьшить активность Горького, которая мешает “большим людям” – Рыкову, Бухарину, Каменеву, Зиновьеву. Разговор происходил в кабинете Ягоды. Он мне говорил также о контрреволюционном перевороте. Насколько я помню его слова, он говорил о том, что в СССР скоро будет новая власть, которая вполне будет отвечать моим политическим настроениям. Активность Горького стоит на пути государственного переворота, эту активность нужно уменьшить. “Вы знаете, как Алексей Максимович любит своего сына Максима. Из этой любви он черпает большие силы”, – сказал он».
Налицо был самооговор. Крючков говорил как по писаному. Причем писанному плохим литератором. Нестыковка была в том, что Горький как раз относился к породе людей, которых удары судьбы не ослабляли, а закаляли. Мобилизовали волю. Кто-кто, но уж Крючков, работавший с Горьким с давних пор, не мог этого не знать.
Горький не был обычным человеком. У него было особое отношение к жизни и смерти. В том числе – к жизни и смерти близких людей. Даже такие удары, как смерть собственных детей, он переносил (внешне) со странным хладнокровием.
Когда в Нижнем Новгороде умирала от менингита дочь Горького Катя, писатель находился в Америке. Выступал, встречался с Марком Твеном, давал интервью газетам, собирал деньги для московского восстания и писал «Мать». Вдруг 17 августа 1906 года приходит телеграмма от Е. П. Пешковой. Положение Горького было вдвойне мучительным. Известие о смерти пятилетней Катюши пришло не просто от безутешной матери – ведь Горький бросил Пешкову ради актрисы Московского Художественного театра М. Ф. Андреевой (она и была с ним в американской поездке как гражданская жена). Всякий мужчина растерялся бы в этой ситуации. Только не Горький…
«Я прошу тебя – следи за сыном, – пишет он Пешковой. – Прошу не только как отец, но – как человек. В повести, которую я теперь пишу, – “Мать” – героиня ее, вдова и мать рабочего-революционера <…> говорит:
– В мире идут дети… к новому солнцу, идут дети к новой жизни… Дети наши, обрекшие себя на страдание за все люди, идут в мире – не оставляйте их, не бросайте кровь свою вне заботы».
Но ведь это Горький «бросил кровь свою вне заботы». И потом – за что была обречена на страдание пятилетняя девочка? «За все люди»?
Горький мог расплакаться над литературным произведением, о чем с иронией писал Маяковский, вспомнив в автобиографии, что Горький разрыдался у него на плече после прочтения поэмы «Облако в штанах». Но вот конец одного из самых пронзительных рассказов Горького – «Страсти-мордасти». В рассказе говорится о несчастном обезноженном мальчике и его матери, проститутке, больной сифилисом. Покидая их подвал, автор от имени своего героя говорит: «Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь». Но почему бы не зареветь? Рассказ автобиографичен. Эту семью Алексей Пешков встретил, когда ему был двадцать один год и он разносил в Нижнем Новгороде «баварский квас». Очень может быть, что в реальности он и заплакал, слушая страшненькую колыбельную проститутки:
Придут Страсти-Мордасти,
Приведут с собой Напасти;
Приведут они Напасти,
Изорвут сердце на части!
Ой беда, ой беда!
Куда спрячемся, куда?
Сердце автора разрывается на части. Он скрипит зубами, сдерживая рыдания. Но важно, что слезы нужно сдерживать! Нельзя ослаблять волю, давая свободу слезам над обреченными людьми. Тем более – умершими. Даже если это твои дети. 22 мая 1934 года, через одиннадцать дней после смерти Максима, Горький пишет Сталину:
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Согласно разрешению Вашему посылаю Вам письма изобретателей Поспелова и Львова. Поспелов утверждает, что устрашающий шум – треск пулеметов, крики «ура», топот конницы и т. д. – можно перенести в тыл позиции врага и этим смутить его. Сын мой видел электросварочный аппарат Львова в работе и говорил мне, что работает аппарат безукоризненно – с техникой электросварки Максим был неплохо знаком, изучая ее в Италии. Львов – конструктор аэроплана «Сталь-2», имеет орден Ленина. Болен: туберкулез и ревматизм, нужно бы усилить и улучшить его питание. Я очень прошу Вас предложить Серго Орджоникидзе вызвать Львова к себе и немножко приласкать его, позаботиться о нем, он человек высокой ценности.
Будьте здоровы.
Врач Сперанский вспоминал: «В семье Горького мне пришлось уже пережить одно тяжелое событие. Два года назад умер его сын – Максим Алексеевич Пешков, человек большого своеобразия, талантливая, искренняя, несколько отвлеченная натура, преданная делу своего отца, оставивший многие из подлинно своих начинаний, чтобы служить ему. Болезнь сразу приняла катастрофический характер. В последний день Алексей Максимович не ложился спать. Долго, до поздней ночи, сидел в столовой и вел беседу на посторонние темы – о войне, о фашизме, но главным образом о ходе работ института <ВИЭМ>. Временами мне было трудно говорить, так как я знал, какая трагедия подготовлялась наверху. Однако Горький сидел, лицо его было полно внимания, реплики к месту, и только нервное постукивание пальцев лежащей на скатерти руки могло вызвать подозрение о том, что у него делается внутри. Когда через два часа после смерти сына к нему со словами сочувствия пришли старшие товарищи, он сделал усилие и перевел разговор на рельсы посторонних вопросов, сказав: “Это уже не тема”. Так же Алексей Максимович умер и сам. Просто, как если бы исполнял настоятельную обязанность».
В воспоминаниях Сперанского (кстати, опубликованных в «Известиях» 24 июня 1936 года, до суда над «убийцами» Горького и Максима) бросается в глаза фраза: «Мне было трудно говорить, так как я знал, какая трагедия подготовлялась наверху (курсив мой. – П. Б.)». Сперанский намекает на врачебную ошибку Левина и Плетнева, лечащих докторов Горького. Именно они находились с Максимом, пока Горький со Сперанским скрепя сердце обсуждали проблемы долголетия, а может быть, и бессмертия человека. Но почему Сперанский не спешил наверх, где умирал Максим?
«Крючков. Когда Максим Пешков узнал, что он болен крупозным воспалением легких, он попросил – нельзя ли вызвать Алексея Дмитриевича Сперанского, который часто бывал в доме Горького. Алексей Дмитриевич Сперанский не был лечащим врачом, но Алексей Максимович его очень любил и ценил как крупного научного работника. Я сообщил об этом Левину. Левин на это сказал: ни в коем случае не вызывать Сперанского. <…> Консилиум, который был созван по настоянию Алексея Максимовича Горького, поставил вопрос о применении блокады по методу Сперанского, но доктора Виноградов, Левин и Плетнев категорически возражали и говорили, что надо подождать еще немного. В ночь на 11-е число, когда Максим уже фактически умирал и у него появилась синюха, решили применить блокаду по методу Сперанского, но сам Сперанский сказал, что уже поздно и не имеет смысла этого делать».
Таким образом, всё более или менее становится на свои места. Оскорбленный недоверием к своему методу Сперанский и сочувствующий ему, но не желающий возражать Левину и Плетневу, Горький, понимая, что «дело кончено» и Максим обречен, ведут беседу о том, что важнее смерти сына. О жизни и долголетии человека. Когда «старшие товарищи» (так не без иронии называет Сперанский врачей: Левин старше его на восемнадцать лет, Плетнев – на шестнадцать) приходят выразить свое сочувствие, Сперанскому остается развести руками. А Горькому с хладнокровием сказать: «Это уже не тема».
Но это еще не доказывает убийства Максима.
Правда, переплетенная с вымыслом, хороша в литературном произведении. Метод художественного преображения действительности был излюбленным методом Горького. В 1938 году на «бухаринском» процессе этот метод применили на живых людях. Их принудили стать творцами собственных мифологизированных биографий – убийц, шпионов и заговорщиков. Причем творцами публичными, живописующими свои злодеяния прилюдно.
Всё, что мешало, не принималось в расчет. Сперанский, который был бесценным свидетелем, даже не был допрошен судом. Зачем? Левин и Крючков и так всё на себя взяли.
Это был суд, основанный только на признаниях самих подсудимых. А уж как они были получены… На самом деле гибель Максима, наоборот, могла только помешать «заговорщикам», возбудив в Горьком ненависть к врагам и крепче привязав к Сталину.
Отчасти так и произошло.
Именно Сталину пишет письмо Горький, едва похоронив сына. И в этом письме делает покойного Максима помощником в их со Сталиным общем деле – развитии оборонной мощи СССР. Конечно, Сталин не может отказать отцу, который привлекает в качестве эксперта только что погибшего сына. На автографе письма стоит сталинская резолюция: «Сделано. В мой арх[ив]. И. Ст[алин]». Подчеркнуто рукой вождя. Писем изобретателей Львова и Поспелова в архиве нет. Стало быть, не легли под сукно, а были переданы кому надо.
Тем не менее есть несколько свидетельств, как тяжело переносил Горький потерю Максима. Его крымский шофер, сотрудник Главного управления НКВД Крыма Г. А. Пеширов (кстати, приглашенный на работу Максимом, который лично устраивал жизнь отца в Тессели) в своих воспоминаниях рассказывает: «Похоронив сына, А. М. вернулся в Крым, на дачу в Тессели. Работал так же, как раньше, так же вставал в определенный час, завтракал и шел в свой рабочий кабинет и работал до обеда. После обеда выходил в парк, но уже не работал, а только руководил нами (обитатели дачи, включая самого Горького, расчищали дорожку к морю от колючего кустарника. – П. Б.), а сам, опираясь на палку, ходил от костра к костру и своей палкой поправлял горящие ветки. Всем было ясно, что А. М. потерю любимого сына сильно переживает, и боялись, как бы он не слег».
В таких же мрачных тонах описывает состояние Горького и комендант дома на Малой Никитской И. М. Кошенков. Судя по записи в дневнике от 28 мая 1934 года, Кошенков все-таки подозревал Ягоду и Крючкова в убийстве Максима. В дневнике рассказывается о том, как после смерти Максима Горький выходит в сад и подходит к бассейну, куда недавно пустили мальков окуня.
«– Где же рыба – мальки?
Я объяснил, что всё погибло.
– Погубили, плохо. – С этими словами он ушел в столовую пить кофе».
Впрочем, Кошенков объясняет причину гибели мальков: рыба ушла в канализационную трубу, потому что кто-то сдвинул загораживающую сеть.
Потерянность Горького видна из таких деталей, как дважды повторенные слова «посылаю Вам» в оригинале цитированного письма к Сталину, а также в ошибке в подписи под другим письмом к вождю: «М. Пешков». Свои письма к Сталину он подписывал либо «А. Пешков», либо «М. Горький», но в данном случае произошло наложение подписей друг на друга. Но какое символическое! «М. Пешков» (Максим Пешков) как бы пишет Сталину рукой отца через тринадцать дней после своей смерти.
И все-таки – убили Максима или нет? Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. И едва ли когда-нибудь станет возможно. Есть загадки истории, которые обречены быть вечными тайнами.
«В том, что Макса убили, сомневаться не приходится», – пишет лингвист Вячеслав Иванов. Это его мнение происходит от уверенности его родителей, которые были близки к Горькому и тем людям, которые его контролировали. Так, Вячеслав Иванов откровенно пишет о близком знакомстве отца с самим Сталиным, Дзержинским и Ягодой.
Для устранения Максима, полагает Вячеслав Иванов, у Сталина были как личные, так и политические мотивы. Максим имел независимый характер и не желал считаться с тем, что отец является фигурой государственного значения. Сам тесно связанный с органами со времен работы в ЧК, Максим Пешков пытался в обход Сталина и Ягоды обустраивать и регулировать жизнь в семье. Например, он запретил комендантам в Горках и особняка в Москве носить при себе личное оружие. «Мы частная семья», – говорил он.
В то же время Максим раздражал Сталина своей бесшабашностью. Однажды он, страстный автогонщик, обогнал на шоссе машину Сталина. Горький знал, что делать этого категорически нельзя, и сразу поехал к Сталину с извинениями.
Но главная причина, считает Вячеслав Иванов, была политическая. Максим мешал Сталину контролировать отца через Крючкова. Кроме того, Иванов выдвигает любопытную гипотезу, что Максим, как и отец, был сам причастен к антисталинской оппозиции и даже ездил весной 1934 года в Ленинград с поручением к Кирову. Это произошло во время напряженной внутрипартийной борьбы на XVII съезде партии. Вскоре Киров был убит террористом Николаевым прямо в Смольном при загадочных обстоятельствах.
«В день убийства Кирова, – пишет Вячеслав Иванов, – Горький был на даче в Тессели. Утром он вышел в столовую, где была одна В. М. Ходасевич (художница, племянница поэта Владислава Ходасевича, в семье Горького ее звали Купчихой. – П. Б.). Было еще темно. Шторы были задернуты. Горький подвел Валентину Михайловну к окну, отодвинул занавеску и показал ей на чекистов, окруживших дачу сплошным кольцом и сидевших под каждым кустом в саду. Горький сказал ей, что они не охраняют его, а стерегут».
Максим вполне мог оказаться жертвой политических интриг. Если так, то слова Крючкова на суде были полуправдой. Еще Крючков признался, что по заданию Ягоды спаивал Максима.
Но о пристрастии Максима к алкоголю можно судить по многим свидетельствам. Например, покинув осенью 1921 года Россию и приехав в Берлин, Горький пишет Е. П. Пешковой: «Многоуважаемая мамаша! Приехав, после различных приключений на суше и на воде, в немецкий городок Берлин, густо населенный разнообразными представителями русского народа, я увидал на вокзале самое интересное для Вас существо – Вашего собственноручного сына. Мы с ним поздоровались обоюдно почтительно и радостно, а затем поехали на автомобиле пить различные алкоголические жидкости в улицу, которая называется Фридрихсдамменштрассе – по-русски: Фридриховых дам».
За иронией, с которой Горький пишет о многочисленной русской эмиграции в Берлине, легко не заметить важные слова, которых явно, ждала от него Пешкова. Вот они: «В опровержение тех совершенно точных сведений, которые ты получила от справедливых людей, доподлинно знающих всяческие интимности о жизни ближних своих, свидетельствую: М. А. Пешков в употреблении спиртуозных напитков очень скромен и даже более чем скромен. Это наблюдение мое клятвенно подтверждают люди, живущие с Максимом под одной крышей и тоже очень трезвого поведения. Полагая, что юноша не совсем здоров, потому и не спиртоспособен, я тщательно исследовал состояние его души и тела».
Если опустить иронию, то обнаружится истинный смысл письма. Горький отвечает на тревожный вопрос обеспокоенной Пешковой, до которой уже дошли слухи о пьянстве Максима за границей.
Проблема эта существовала.
У Горького такой проблемы не было. Ромен Роллан описывает пир, который устроили для него на даче Горького: «Стол ломится от яств: тут и холодные закуски, и всякого рода окорока, и рыба – соленая, копченая, заливная. Блюдо стерляди с креветками. Рябчики в сметане – и всё в таком духе. Они много пьют. Тон задает Горький. Он опрокидывает рюмку за рюмкой водки и расплачивается за это сильным приступом кашля, который заставляет его подняться из-за стола и выйти на несколько минут. Ни у кого из присутствующих – даже у Крючкова, любящего его и присматривающего за ним, – не хватает смелости помешать ему нарушать запреты врача».
Напомним, что Горькому остается год до смерти. Но его «пьянство» никого не волнует. «Я должен добавить, – продолжает Ромен Роллан, – что в обычное время Горький всегда трезв и ест на удивление мало, даже слишком, но доктора Левина это не беспокоит: у Горького вне сомнений конституция человека, лучше приспосабливающегося к недостатку, чем к избытку».
С Максимом было сложнее… В воспоминаниях о Леониде Андрееве Горький приводит слова Андреева: «Ты пьешь много, а не пьянеешь, от этого дети твои будут алкоголиками. Мой отец тоже много пил и не пьянел, а я алкоголик…»
Невозможно было придумать лучшего способа убить Максима, чем напоить и оставить спать на холодном воздухе, зная о его слабости к алкоголю и наследственно уязвимых для пневмонии легких. Но если Сталин «заказал» Максима, то через Ягоду. Преданный Горькому секретарь Крючков мог выступать только запуганным исполнителем. Таким образом, всё могло происходить именно так, как рассказывал Крючков на суде. За исключением одной-единственной детали. Максим мешал не «большим людям» Рыкову, Бухарину, Зиновьеву и другим. Он мешал самому большому человеку в СССР – Сталину.
При этом, как показывают недавно обнародованные факты (Генрих Ягода. Нарком внутренних дел СССР, Генеральный комиссар государственной безопасности: сборник статей. Казань, 1997), именно Генрих Ягода был одной из главных фигур оппозиции, а вовсе не исполнителем чужой воли. На это намекает и Вячеслав Иванов в статье «Почему Сталин убил Горького?»: «Горький в этом смысле был в уникальном положении. Он был в близких отношениях с Ягодой и в то же время связан давними политическими разговорами с “Ивановичами” (Николай Иванович Бухарин и Алексей Иванович Рыков. – П. Б.). Если тот союз Ягоды с правыми, о котором шла речь на подложном процессе, и мог существовать, то только при посредничестве Горького, о чем на процессе, где Ягоду винили в его убийстве, говорить было нельзя».