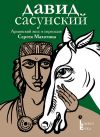Текст книги "Нью-йоркский бомж"

Автор книги: Петр Немировский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Глава вторая
1В пятницу у нас с бабушкой много дел, а поспеть нужно всюду: показать меня директору школы, зайти в магазин «Школьник» – купить там новую ручку. Бабушке еще нужно купить разную мелочь – молоко, мясо, хлеб. А после обеда должна приехать баба Женя, папина мама.
Утром подниматься с постели не хочется. Даже после трижды сказанного «Игорь, вставай». Напоследок еще можно постоять на коленках, уткнувшись закрытыми глазами в кулаки, и увидеть цветные круги, выплывающие из темноты. А потом снова завалиться на классическую «минутку».
На стуле ждут новые штаны и рубашка. В таком наряде хочется пройтись щеголем по двору.
Двор – лает, щебечет, стрекочет. Пару раз я дернул ручку колонки, перепрыгнул не совсем удачно через лужу. Из дома вышла бабушка.
– Ну вот, уже весь испачкался, – присев, отряхнула на мне штаны, заправила рубашку.
Все. В путь.
– Ба, а правда, что раньше в той школе была немецкая конюшня?
– Тебе кто это сказал?
– Маслянский.
– Я тоже такое слышала, но точно не знаю. Когда немцы пришли в Киев, мы с твоей мамой уехали в Ташкент.
– А Маслянский?
– Скрывался. Священник прятал его у себя дома.
– А что, немцы и Маслянского хотели убить?
– Да.
Мне стало жалко Маслянского. Одно дело кино – там убивают незнакомых. А Маслянского я знаю давно. Он – мой друг. Когда занимается своей работой – чинит мебель, – рассказывает мне истории и про татар, и про казаков, и про фрицев. Я представил его: лысого, с остренькими гвоздиками в сомкнутых губах, с папиросой за ухом, сидящим в темном шкафу – прячется от немцев. Иногда, оставаясь один в комнате, я залезаю в пропахший нафталином шкаф и прячусь там. Но ведь я балуюсь.
– А кто такой священник?
– Тот, кто молится Богу.
– Ба, а кто такой Бог?
– Бог живет на небе. Он все знает и все может.
– Почему же Бог сам не спрятал Маслянского, если видел, что его немцы хотели убить? И почему Бог не спас моих дедов?
Бабушка остановилась. Посмотрела мне в глаза – так серьезно, что я даже губу прикусил. Вдруг как-то печально пожала плечами.
– Не знаю, почему не спас…
* * *
Показалось двухэтажное здание – школа. Во время войны немцы превратили ее в конюшню: на первом этаже держали лошадей, на втором – был склад с оружием. А вдруг там на полу валяются гильзы или патроны?
Школьный пол в холле сразу разочаровал – вымыт до блеска. Какие уж тут патроны… Зато сама школа – не сравнить с нашим детсадом, всё по-настоящему: длинные коридоры с колоннами, высокие потолки, двери с табличками.
– Ди-рек-тор, – прочитал я надпись на одной из дверей.
Бабушка постучала.
– Здравствуйте. К вам можно? – спросила, отворяя дверь.
И мы вошли в просторный кабинет.
– Здравствуй. Меня зовут Александра Николаевна. А тебя? – женщина с аккуратно зачесанными каштановыми волосами сидела за столом. Отложив ручку, улыбнулась.
– Игорь.
– Хочешь учиться в школе?
– Да, я уже большой.
– Большой, а ногти кусаешь.
Тут же я отдернул руку.
– А считать ты умеешь? Тогда реши задачу: на дереве сидело десять воробьев. Девять улетели, один прилетел. Сколько воробьев осталось?
– Два, – сразу ответил я. Тоже мне задача – я и не такие решаю, когда торгуюсь с бабушкой за ложки бульона.
– Молодец. А читать ты умеешь?
– Конечно!
Я подошел к Александре Николаевне. С улицы доносилось щебетание птиц. Ветерок, ворвавшись в окно, сдул со стола пару листков.
– Спасибо, – сказала женщина, принимая из моих рук поднятые листы. – Ну-ка прочитай, – и вручила раскрытую книжку.
– Уж я не тот лю-бо-вник-стра-ст-ный, ко-му ди-ви-лся пр-пр… – (застрял) – пре-жде-свет.
– Хватит, – засмеялась Александра Николаевна.
Бабушка тоже улыбнулась.
– Еще я писать умею. Можно? – взял ручку и через минуту протянул ей листок, на котором неровными буквами было написано: «Игорь». В тот момент я чувствовал в себе столько сил и талантов, что, казалось, могу сдвинуть горы. И еще, если честно, мне очень понравилась Александра Николаевна – и ее сиреневое платье, и запах ее духов…
– Хорошо. А кто твои родители?
– Мама – медсестра в больнице, папа – главный инженер на заводе. И бабушка.
– Отец – штамповщик, – неожиданно поправила бабушка.
Я раскрыл рот, все звуки застряли в горле. Как – штамповщик?! Папа рухнул с высот главной инженерии, сдулся, стал маленьким.
– Вот и хорошо, – промолвила Александра Николаевна. – Первого сентября приводите его. До свидания, любовник страстный. И ногти больше не грызть, договорились?
* * *
Мы вышли из школы.
– Ба, а разве папа – не главный инженер?
– Нет, конечно. Он – штамповщик.
– Почему же он называет себя главным инженером? И ты тоже говоришь, что так, как он, обедают только главные инженеры.
– Мы шутим.
– Ба, а на каких столбах рабочие будут вешать директора и парторга папиного завода?
Бабушка замерла. Оглянулась.
– Придем домой – объясню, – проговорила она тихо. Кажется, у нее испортилось настроение.
Дома я тут же решил проверить новую ручку. Заправил и стал рисовать. Бабушка тем временем хлопотала на кухне – готовилась к приезду бабы Жени. Что-то варила, пекла, гремела кастрюлями. Раскрасневшаяся, в испарине, вошла в комнату и села в кресло.
– Фу-ух, жарко, – взяла газету и стала обмахиваться. Прядка седых волос у ее виска слегка раскачивалась.
– Ты чем занимаешься?
– Пишу.
Бабушка понимающе кивнула. Достала из буфета свою шкатулку. Снова села в кресло и надела очки – в очках она выглядит очень смешной. В руках у нее появлялись какие-то листки, газетные вырезки, фотографии. Перебирала бумаги, что-то шептала, усмехалась. Терпение мое лопнуло.
– Что это?
– Письма твоего дедушки Пейсаха.
– А кем он был?
– Врачом. Заведующим отделением в больнице.
– Там же, где и мама работает?
– Нет, в больнице Павлова. Он лечил сумасшедших.
– Таких, как Вовка-дебил?
Бабушка строго взглянула из-под очков.
– Больше никогда не говори это слово. Обещаешь? Пейсах их называл «мои сумасшедшенькие», а иногда – «мои мишугене». Знаешь, как его уважали в больнице? Вот, смотри, – взяла пожелтевшую газетную вырезку. – «Коллектив больницы Павлова поздравляет Пейсаха Наумовича Кагана с сорокалетием». Вот он, – достала маленькую фотокарточку.
Я взял фото. Ничего особенного – овальное лицо, темные волосы зачесаны назад, губы – ленточкой, как у мамы.
– Знаешь, какие он мне письма писал, когда ухаживал? – бабушкины пальцы стали бережно перебирать бумаги. Вытащила открытку с нарисованной горящей свечой. – «Милая Хана. Родная моя. Выходи за меня замуж. Не пожалеешь…»
– А как он погиб?
Бабушка долго молчала.
– Его немцы убили. В душегубке. Были такие машины, в которых убивали людей. Когда немцы вошли в Киев, они подогнали душегубки к психбольнице и всех больных загнали туда…
– Почему же он не уехал с вами в Ташкент?
Бабушка снова помолчала.
– Не хотел оставлять своих больных, думал, что немцы их не тронут. И в душегубку ушел вместе с ними…
Она сняла очки, положила их на колени. Вдруг прикрыла ладонями глаза. Только нос торчал.
– Ба, ты что?
Бабушка медленно отняла руки, посмотрела на меня. Улыбнулась.
– Ты похож на моего Пейсаха. У вас одинаковые глаза – добрые, – она стала укладывать бумаги в шкатулку. Вдруг резко приподняла голову, втянула носом воздух. – Жаркое! – и, сунув шкатулку в буфет, ринулась на кухню.
Я остался один. Снова сел за стол, взял ручку. Перо повисло над бумагой, но не прикоснулось и не вывело ни одной буквы. Потому что я хотел, но тогда еще не мог написать то, что пишу сейчас:
Милая Хана. Твоя фотография висит передо мною на стене. Стоит мне взглянуть на нее, как я слышу твой голос. И смех. И вижу сложенные на груди руки. Как ты складывала их всегда, когда садилась отдыхать. С такими же сложенными на груди руками я увидел тебя в последний раз, лежащей в красном, как маки, гробу. Ты была маленькой, и лицо твое, белое, качнулось, когда я наклонился, чтобы поцеловать твой лоб.
Рядом с твоей фотографией на той же стене висит карточка деда, твоего Пейсаха, – овальное лицо, волосы зачесаны назад и губы ленточкой. Он пошел в душегубку, поддерживая за руку одного своего «сумасшедшенького», который смеялся, не понимая, что происходит. В темноте он услышал, как завелся мотор, и решил, что их перевозят в другую больницу. Он не знал, что выхлопная труба была проведена в фургон машины. И немецкий солдат, открыв дверь, чтобы сбросить трупы в одну из ям Бабьего Яра, увидел искаженное лицо с раскрытым ртом, в котором застрял крик: «Милая Хана…»
2Секретный документ Рейха
Оберштурмбанфюреру СС Рауффу,
Берлин
Осмотр газовых автомобилей «Айнзацгруппы-С» окончен. Я приказал, чтобы во время пуска газа служебный персонал находился на возможно большем расстоянии от автомашины, для того чтобы здоровье не пострадало от газа, который может выходить наружу. Довожу до вашего сведения, что некоторые команды должны были своими силами произвести разгрузку после применения газа. Я обратил внимание командира зондеркоманды на огромный психологический вред, который может принести служащим эта работа. Люди жалуются на головные боли после каждой разгрузки. Газ не всегда применяется правильным образом. Чтобы как можно скорее закончить работу, шофер нажимает на акселератор до отказа. Таким образом, люди умирают от удушья, а не от отравления, как это было запланировано. Выполнение моих инструкций показало, что при правильном положении рычага люди мирно впадают в глубокий сон. При этом не приходится видеть искаженные лица и испражнения. Сегодня я продолжу свою инспекционную поездку.
Доктор Беккер, унтерштурмфюрер СС.
Киев, 19 октября, 1941 год.
Сегодня приезжает баба Женя. Ростом она невысокая – как бабушка. Но у бабушки волосы седые, жиденькие, стянутые узелком (иногда она закалывает их гребешком), а у бабы Жени – черные с отливом, как воронье крыло. У бабушки лицо бледное, губы бесцветные и глубокие морщины на лбу. А баба Женя всегда густо накрашена и напудрена, лоб гладкий. Бабушка – худая, как засушенная вобла, баба Женя – пухленькая хрюшка. Ну и самое главное: бабушка – обыкновенная, из мира кастрюль, дырявых носков и вечных жалоб на нехватку денег, а баба Женя – из мира красивых напудренных женщин, гарниров и «взрослых» разговоров.
Иногда баба Женя приходит к нам с мужчинами. Я различаю их по медалям. К примеру, дядя Яша мне нравился не очень: ни медалей, ни орденов. Хоть бы значок какой нацепил. А вот дядя Юзик – орел: с тремя медалями и одним орденом. Мы с ним сразу нашли общий язык: он по-солдатски снял все медали и дал их мне. Поиграть. Я надеялся, что он забудет их, но перед уходом он забрал их и пристегнул к пиджаку. У нас с дядей Юзиком мужской уговор: после его смерти его медали переходят ко мне.
Если речь заходит обо мне, баба Женя всегда обращается к папе в моем присутствии. «Он что-то худой. Вы его нормально кормите?» или «По-моему, он отстает в развитии. Вы его показывали психиатру?» Папа что-то бормочет в ответ, а баба Женя неодобрительно качает головой. Зато ко мне она всегда обращается, как ко взрослому: «Сделай тише звук телевизора» или «Принеси стакан воды». Перед тем как выпить, внимательно разглядывает стакан, прищурившись, и если находит что-то подозрительное, кривится и возвращает, не пригубив.
Так же осторожно она приступает к еде: сначала, сузив глаза, осмотрит на тарелке жаркое – его вид, затем чуть наклонится, понюхает и только после этого накалывает на вилку кусочек мяса и делает пробное прожевывание. Дальше все зависит от вкуса жаркого и вкусов бабы Жени. Если не понравилось, блюдо подвергнется жесточайшей критике: пережарено, недоперчено, мало лука. Зато если блюдо приходится ей по нутру, она благостно мычит и живо работает челюстями, произнося одно-единственное: «Изумительно!» Правда, такие кулинарные удачи случаются нечасто. После отъезда бабы Жени мама обычно возмущается (в присутствии отца): «Жаркое, видите ли, ей не понравилось! Принцесса. Что не так? Свежая базарная телятина, обжаренная с луком, приперченная, с лавровым листом и душистым горошком…» Папа выслушивает со скучающим взглядом. Неожиданно спрашивает: «Кстати, там, в чугунке, еще что-то осталось?» – и бегом на кухню.
Баба Женя любит рассказывать о своих болезнях. С ее уст порой слетают странные слова: низкий гемоглобин, депрессивный синдром, поздний климакс. Она постоянно упоминает каких-то врачей. Рассказывая о том, что очередной кардиолог подтвердил у нее гипертонию, она оттопыривает нижнюю губу и сразу превращается в старуху.
Баба Женя почти всегда в новом наряде. Войдя в дом, сразу же направляется к зеркалу. Достает из сумочки помаду, подкрашивает губы, приглаживает брови, припудривает лицо. Изрекает: «Даже в гробу женщина должна лежать с накрашенными губами». «Совершенно с вами согласна», – подтверждает мама.
…Они пришли почти одновременно: сначала родители с работы, следом и баба Женя.
– Это тебе, – она протянула мне коробку цветных карандашей.
– А сказать спасибо? – напомнила мама.
– Спасибо, – и я скрылся в комнате.
Усевшись на диване, вытащил карандаши из коробки. В комнату вдруг вошел папа. Он был хмур и бледен, будто заболел. Посмотрел на меня так, что я невольно поднялся.
– Ты говорил еще кому-нибудь, что рабочие хотят повесить директора и парторга завода? – стараясь быть грозным, тихо спросил папа.
– Нет, только бабушке…
– Ты уверен?
– Да.
– Никому не говори об этом. Понял?
– Понял.
– Никому, – он угрожающе помахал пальцем перед моим носом и вышел.
Я почесал затылок. Наверное, это тайна. Нельзя, чтобы директор и парторг раньше времени узнали о казни. Но зря папа так перепугался – я его не выдам. А бабушка – предательница. Больше ничего ей не скажу! Ударив кулаком подушку, я побежал в кухню.
Там шли приготовления к ужину.
– Ты веришь, что он никому не говорил? – допытывалась у отца баба Женя.
– Все нормально, забудь, – папа, уже спокойный и благодушный, восседал на троне-табурете.
– Добром это не кончится, – предупредила баба Женя. – Вы совсем его не воспитываете. Кинетесь – поздно будет.
Мама подошла ко мне, присела, чтобы поправить рубашку.
– Игорь у нас честный мальчик, правда?
– Да-да, – пробурчала баба Женя. – Много ты знаешь. Повидала я на своем веку, как честные в тюрьму садятся.
Мама резко встала. Похоже, хотела что-то сказать в ответ, но сдержалась. Потянулась рукой к какой-то кастрюле, вдруг, вскрикнув, отставила ее и подула на пальцы.
– Осторожней, горячая, – подсказал папа.
На столе появились бутылки с лимонадом и минеральной водой, овощи.
– Хотите боржоми? – бабушка налила в стакан и подала бабе Жене.
– Спасибо.
– А мне врач рекомендует ессентуки – прочищает желчные протоки. Хотя сейчас уже все равно…
– Лене должны удалять желчный пузырь, – сказала бабушка.
Баба Женя покачала головой:
– Такая молодая, а уже удалять. В наше время, смотрю, молодые и болеют чаще, и умирают раньше. А у меня в почках обнаружили камни.
– Боже-Боже, желчный пузырь… – повторяла мама.
– Сначала они считали, что почка застужена. Хорошо, что я обратилась к Левинзону. Сделали снимок – камни, – перебила ее баба Женя.
– А мне мой врач советует ежедневно принимать по сто грамм, – изрек папа, направляясь к холодильнику. Достал оттуда бутылку водки. Не пролив ни капли, наполнил свою рюмку. – Теща, садитесь. Вам налить пять капель? Не хотите? Мама, а ты? Тоже нет. Ладно, о чем с вами, язвенниками-трезвенниками, говорить? Будем здоровы! – одним махом он опрокинул рюмку. Сразу покраснел, на глазах выступили слезы.
Зазвенели ножи и вилки.
– Семен, передай хлеб.
– У меня что-то нет аппетита.
– Ну что, еще по граммульке?
– Сегодня нашего Игоря приняли в школу. Он сдал экзамен самому директору, – сказала бабушка.
– Ну-ка расскажи, как тебя приняли, а мы все послушаем, – попросила мама.
Я надулся гордостью:
– Решил задачку про птичек и прочитал книжку про любовника страстного.
На миг воцарилась тишина.
– Ему дали Пушкина прочесть, – пояснила бабушка. – Директор – очень приятная женщина.
– Теперь придется купить ему школьную форму, – промолвил папа, почему-то вмиг погрустнев.
Бабушка развела руками: мол, что поделаешь.
– И ранец. Я знаю, какой хочу.
– Он сказал директору, что его папа – главный инженер. Он думал, что кроликов едят только главные инженеры.
* * *
По экрану телевизора побежали титры, начинался фильм.
– Ложись спать, – сказала мама. – Завтра папа вернется с базара и пойдет с тобой покупать ранец.
– И пенал?
– И пенал.
Маме для меня ничего не жалко, что ни попрошу – сразу достает свой кошелек. Правда, в мамином кошельке денег всегда почему-то очень мало. Папа говорит, что деньгами хуже всех в семье распоряжается мама, а лучше всех – бабушка. Бабушка всегда торгуется. К примеру, остановится возле торговки с укропом, выберет пучок, будет вертеть его, нюхать, сбивать цену. Уйдет, так и не купив. Сделает пару шагов, остановится, вернется и – снова за свое. А папа не торгуется. Он стоит у прилавка и что-то подсчитывает: глаза слегка закатываются, губы беззвучно шевелятся. Если, вздохнув, покачает головой, значит, дорого, дела не будет; а если решительно махнет рукой – к покупке.
…Плюшевый мишка лежал рядом на боку и вместе со мною слушал, о чем говорят взрослые.
– Семен, убавь звук в телевизоре, Игорь спит, – попросила мама. – Быть может, вообще не нужно, чтобы телевизор стоял в этой комнате?
– А куда его поставить, себе в кровать, что ли? – отозвался папа, убавив звук.
– Плохо жить в такой конуре.
– Что слышно о новой квартире? – поинтересовалась баба Женя.
– Не знаю, – ответил папа. – На следующей неделе комиссия с завода будет ходить по домам, проверять жилищные условия.
– А-а, ничего нам не дадут, – вздохнула мама. – Уже пора рожать второго, а тут даже коляску негде поставить.
– Куда вам еще второго? С одним справиться не можете, – проворчала баба Женя.
– Почему это не можем? – возмутилась мама.
– Лена, прикрой окно, дует, – вдруг попросила бабушка.
Скрипнула рама, щелкнул шпингалет.
– Форточку не закрывай, – дал указание папа.
– Тебе же на операцию, как ты собираешься рожать второго? – спросила баба Женя.
– Ну и что? После операции. Годы-то идут, – ответила мама.
– Тебе сейчас сколько? Тридцать? Я Семена родила в двадцать два. Тогда – не дай Бог! – даже молочных кухонь не было. Помню, у меня начался мастит, пришлось искать кормилицу. Мой Игорь с ног сбился, пока нашел.
– А у меня, когда Игорь родился, было столько молока – не знала, куда девать. Но он грудь брать не хотел ни в какую. Мне тогда посоветовали посыпать сосок сахаром. И он так полюбил, что почти до двух лет нельзя было оторвать.
– Куда это годится, если ребенок двух лет берет грудь? – сказала баба Женя и неожиданно повернула голову в мою сторону. Ее левый глаз прищурился. Засекла! – А ну вытащи оттуда руки! Семен, вы следите, где он держит свои руки?!
Ладоши мои, как ошпаренные, выскочили из трусов.
– Игорь, ты почему не спишь? – спросила мама.
Повернувшись на бок, я поначалу закрыл глаза, а потом снова открыл.
– Помню, когда я была на седьмом месяце, – продолжала баба Женя, – вышла на улицу, поскользнулась и упала. Что я тогда пережила! Привезли в больницу – думали, начнутся преждевременные роды. Игорь прибежал с работы, бледный: «Женечка-Женечка». Я ему говорю: иди, а то на работе неприятности будут, видишь сам, какое сейчас время. «Нет, Женечка, как же я тебя одну оставлю?»
– Вам делали кесарево? – поинтересовалась мама.
– Нет. Я Семена легко родила – как выплюнула. А второго не успела. Игорь, помню, просил: «Женечка, сын у нас есть, роди мне дочку». Ему-то уже было под сорок. А я не хотела. Боялась: вдруг придется одной с двумя детьми остаться. Кто мог тогда знать, что ждет завтра? В тридцать восьмом мы дважды были готовы, что за ним придут, ведь он был парторгом на заводе.
Едва слышно звучали голоса из телевизора. Папа, кажется, перестал отстукивать «капцей».
– Когда началась война, Игорю от завода дали броню, – продолжала баба Женя. – А он, дурак, отказался. Я даже на вокзале его умоляла: «Одумайся, поедем!» Он лишь головой кивал: «Женечка-Женечка…» По-моему, он предчувствовал, что мы больше не увидимся.
– Почему же он не уехал с вами в эвакуацию? – спросила мама.
– Потому что дурак. Думал, что, кроме него, Киев некому будет оборонять.
– Ты говорила, что его видели в Дарнице, – подал голос папа.
– Это мне Людка Аландаренко рассказывала: когда ходила в лагерь для военнопленных своего искать, видела там за колючей проволокой одного, похожего на Игоря. Но она, говорит, не уверена – для евреев и комиссаров там внутри огородили отдельный лагерь. Игорь-то и на еврея не очень был похож, разве что густые брови и длинные ресницы. Но долго ль узнать? Приказали снять штаны – и всё. Тогда ведь все наши мужчины были обрезанными.
Я прикрыл глаза. Зачем деду приказали снять штаны? Что обрезали?
…Дед лежал на шкафу – его большой фотопортрет. Иногда я влезал на стул и смотрел на мужчину в темной, застегнутой на все пуговицы рубашке. Волосы аккуратно зачесаны набок, подбородок слегка приподнят. Официальный. Отретушированный специально для заводского стенда… Такого трудно представить сидящим в окровавленных кальсонах на земле лагеря для военнопленных. На пятый день он грыз ботинки, на девятый – обгрызал и жевал ногти. Выискивал вшей в рубахах мертвых и бормотал: «Женечка-Женечка, роди мне дочку, видишь, сколько здесь еды». Вдоль колючей проволоки бегали овчарки. На двенадцатый день, когда он, полумертвый, лежал на земле и заталкивал в рот траву, вошли пьяные полицаи и добили прикладами автоматов тех, кто еще шевелился. Трупы сбросили в ров, неподалеку от лагеря…
Дед не любил фотографироваться. Остался его единственный фотопортрет, которому по непонятной причине не нашлось иного места, кроме как на нашем пыльном шкафу. Папа все собирался найти подходящую рамку и вырезать под нее стекло. Но по разным причинам откладывал, пока фото, изогнувшись, не лопнуло. Обнаружили мы это случайно, когда папа однажды зачем-то туда полез. Попытались склеить – безуспешно, лишь окончательно разорвали пополам. Огорчившись, папа с несвойственной ему энергией принялся искать фотохудожника, чтобы восстановить снимок. Нашел какого-то халтурщика, отдал ему два обрывка, а через неделю принес портрет незнакомого круглолицего мужика с густыми бровями и непропорционально маленьким ухом.
– Совсем не похож на Игоря, – заключила баба Женя.
И забракованный портрет незнакомца отправился на шкаф. С годами пропало все то немногое, что с ним было связано: одно коротенькое письмо, отправленное вслед за поездом («Женечка. Киев мы не сдадим. Береги Семена. Целую тысячу раз. Твой Игорь»), выписка из Трудовой книжки, поздравительная открытка с завода. Через десятки лет, почти забытый, дед неожиданно объявился. Он материализовался в шпротах, сырах и шоколадных конфетах, которые по предъявлении специальной карточки стала получать на праздники баба Женя как вдова погибшего на войне политрука.
В последний раз его неприкаянная тень возникла, когда баба Женя решила уехать в Израиль и у нее зачем -то потребовали документ о муже. Похоронка, как и следовало ожидать, была утеряна. Пришлось обращаться в архив военкомата, где подобных справок ожидали тогда сотни уезжающих евреев.
– Ваше счастье, что ваш муж был в командирском составе. Иначе мы бы вам помочь не смогли, – сказал офицер, протягивая ей справку с печатью.
«Игорь Исаакович Баталин. Политрук пехотного батальона. Пропал без вести. 30 декабря 1941 год».
– Что вы знаете о моем муже? – резко ответила она. И подумала, что из всех ее мужей Игорь был единственным, кого она любила.
…Первое время после получения похоронки она не верила, что Игорь погиб. Ждала. Увидев похожую мужскую фигуру, бежала следом. Поначалу похожие фигуры появлялись часто, затем – реже. Наконец вовсе исчезли. С годами, когда она поняла, что больше никого не сможет полюбить, от жалости к себе стала испытывать угрызения совести – ей начало казаться, что Игорь тогда остался в Киеве по ее вине. Прояви она характер. Пообещай ему родить дочку. Он бы тогда воспользовался своей законной броней. Ведь он же исполнял любой ее каприз. Сдувал с нее каждую пылинку. Как с королевы.
Как-то вечером она подошла к окну и отпрянула – рядом со своим отражением в стекле увидела его – таким, каким он был в жизни: сильным, заботливым, немного суетливым. Она положила под язык валидол и легла спать. На следующий день проснулась и поняла, что ей осталось недолго. Спешно, никому ничего не говоря, начала откладывать деньги на памятник: чтобы на гранитной плите были выгравированы два лица – ее и Игоря. С датами рождения и смерти. Как положено – муж и жена. Чтобы наконец они встретились и оба обрели покой, долюбив друг друга в Той жизни, если не довелось в Этой. Она даже стала ходить по различным конторам, приглядывалась к образцам памятников, интересовалась ценами. Горячка эта, однако, прошла. Спустя некоторое время с новым мужем она уехала в Израиль, истратив все «могильные» сбережения на дорогую одежду и ювелирные украшения.
– Да, было время… – вздохнула бабушка.
– А эвакуация? – сказала баба Женя после недолгого молчания. – Это сейчас молодые жены только жалуются. А ведь у них все есть: и мужья, и родители, и крыша над головой. Посмотрела бы, окажись кто в моей ситуации: одна с ребенком, без денег, в незнакомой башкирской деревне. А у Семена – воспаление легких. Врач говорит: срочно нужны лекарства и витамины. А где взять? Не согласись я им помогать, Семен пропал бы.
– Кому это – им? – тихо спросила мама.
– Им, тем самым, – с плохо скрываемым раздражением ответила баба Женя. – Вызвали и предложили: «Евгения Юрьевна, мы знаем, что вы сейчас в трудном положении. Мы хотим вам помочь. Но и вы взамен должны оказать нам небольшую услугу. Вы – бухгалтер, сидите с директором совхоза в одном кабинете. Мы хотим, чтобы вы записывали в эту тетрадку все его слова, которые вам покажутся подозрительными».
– И вы согласились?
– А что оставалось делать? Сегодня все умные и храбрые. Посмотрела бы на тебя. Ты вон, если у сына прыщ, с ума сходишь. А мой – с температурой сорок, неделю горит! А из витаминов – черствый хлеб да мерзлая картошка… Потом у меня эту тетрадку забрали, а директора на следующий день увели. Затем мне предложили переехать в город, на фабрику. Но тоже – чтобы записывать слова начальства.
Все затихли. В кухне запел сверчок.
– Мне они помогли еще раз, когда мы с Семеном вернулись из эвакуации в Киев, – нарушила молчание баба Женя. – Нашу квартиру заняла Пархоменчиха. Я ей говорю: «Убирайся!» – а она в ответ: «Мало вас, жидив, нимци постриляли!» Ах ты, мерзавка! Что ж нам, на улице жить? Я пошла в НКВД, у меня с собой специальное письмо было, все им объяснила. Тут же приехали и ее выгнали. Соседи потом рассказывали, что ее муж, Мирон, был полицаем. Ушел, негодяй, с немцами.
– Нашу квартиру не заняли, лишь всю мебель растащили, – сказала бабушка. – Я нашла буфет, и то случайно. Зашла как-то к Ждановым, смотрю – наш буфет, только выкрашенный в серое. Но вижу – ведь наш. Ногтем краску отколупнула – он самый, ореховый. Правда, Ждановы сразу отдали, без разговоров.
Заиграла музыка – закончился фильм. Никто не вставал.
– Ну что, гей шлофен? – нарушил молчание папа.
Потихоньку зашевелились. Папа открыл кладовку, вытащил оттуда раскладушку. Баба Женя ее недоверчиво потрогала:
– Не грязная?
– Вы что? – возмутилась мама.
– Вы в кладовке когда в последний раз убирали?
– Знаете что? Не нравится – не ночуйте. Семен, пусть твоя мать подойдет и своими глазами посмотрит, какой здесь порядок, – мама подошла к кладовке, распахнула дверь. (Осторожно, крыса!)
– Заколочу эту кладовку к чертовой матери! Завтра же! – взорвался папа.
– Тише, тише, Игорь спит.
Мама приблизилась ко мне, проверила, сплю ли. Притворяться спящим уже и не надо было – глаза слипались сами.
…Лаяли овчарки. За колючей проволокой стоял дед без штанов. По залу в белом платье кружила баба Женя. В гробике лежал ребенок. С неба сыпался пепел. Ребенок вдруг встал, взял в руки ружье и начал стрелять по сидящим на ветке воробьям. Воробьи падали на землю, и в тех местах возникали глубокие ямы. Из ям вырастали красные маки. Ребенок побежал по этому алому морю и закричал: «Мама! Папа! Бабушка-а!..»
– Я здесь, спи, родной! – рядом сидела бабушка.
Я прижался к ней и заснул.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.