Текст книги "Провинциальный апокалипсис"
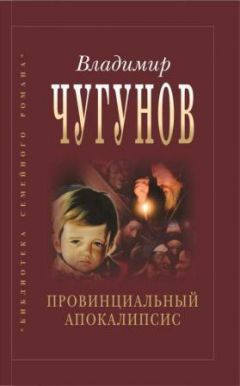
Автор книги: протоиерей Владимир Чугунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Часть вторая
1
Как, спрашивается, имея «такого» отца, я докатился до «такой» жизни. И ведь не только я, но и моя сестра. Она в итоге ещё больше отцу досадила, потому что… Нет, не могу так сразу сказать, тем более что это не только моя тайна, а вот о том, как такое могло «стрястись» мной, поделюсь, да и пора уже.
Как мы познакомились с Катей, вы уже знаете, а вот как после того, что я тогда в подъезде учинил, смогли найти общий язык, поскольку обиделась на меня Катя крепко, описывать не стану. Да и непонятно ли, что иначе и быть не могло? Пусть в ту минуту я врал, что люблю Катю, как, впрочем, и Родину, потому что я её тогда, признаться, не очень любил, а почему, сейчас станет понятно.
Итак, памятный 1974-й. Я сначала абитуриент, затем студент. Наш дворовый ансамбль полагает на музыку и разучивает на три голоса уже и мои опусы. После двухлетнего казарменного заточения, и особенно после знакомства с Катей, из меня, как из вулкана, попёрло. И чтобы всё это причесать, я начинаю ходить на занятия литературного объединения, которое ведёт член того самого союза, куда мечтает попасть каждый из нас. Но вот беда, творчество нашего руководителя мне совсем не нравится, и я уже подумываю, куда бы податься, как однажды к нам вдруг заглянула на минутку местная знаменитость, за успехами которой с тех пор я стал внимательно следить, поскольку человек этот как бы между прочим обмолвился, что не только знаком с Андреем Вознесенским, но даже ездил с ним не то в Будапешт, не то в Прагу по обмену молодыми талантами, и в подтверждение своих слов показал автограф на подаренной мэтром книге. После московского фестиваля молодёжи и студентов такие поездки практиковались. Впоследствии почти прекратились. И вовсе не потому, что таланты перевелись, а потому, что, когда они наконец становились «членами», за совершенным отсутствием зубов от систематического недоедания, курения и винопития выражались до того нечленораздельно да ещё с таким титаническим трудом передвигали каждым усохшим членом, что их можно было отправлять только в анатомический кабинет для окончательного расчленения, а не за границу. Очевидно, и вашего покорного слугу ждала бы та же участь, но его от этого спасла земная любовь, хотя он в каждом стихотворении как недорезанный поросёнок визжал о небесной. Без всяких шуток. Вот образец.
Я визжал, я кричал, я скакал, я смеялся,
А потом догонял, догоняя, но остался
В дураках, в идиотах, в гордыне своей,
И теперь не похож на нормальных людей.
Потому что люблю и душой всею верю,
Что однажды ты выйдешь ко мне на порог,
Ужаснёшься, вздохнёшь и промолвишь от двери:
«Глупый, да ты весь до нитки промок!»
В отличие от меня Катя была «смиренной прозой». Стихи мои всерьёз не принимала и, как «дурочка» из «Доживём до понедельника», мечтала о будущих ребятишках, о которых я тогда сдуру ляпнул. Но это казалось мне таким мещанством, что я из кожи лез вон, чтобы доказать, что не велика честь производить себе подобных, а вот чего вместо этого надо было делать, лучше не вспоминать.
В общем, «пришла пора», мы поженились. Как и у моих родителей, произошло это во время учёбы, только в разных вузах, на её и моём последнем курсе. Катя была моложе меня на три года и училась в политехе на радиофаке, по окончании которого тесть устроил её на радиозавод, где трудился мастером участка, а тёща – поваром в заводской столовой. В радиоделе Катя ничего не понимала ни до поступления в институт, ни после его окончания и на заводе занималась отправкой готовой продукции (кстати, теперь этого завода тоже не существует).
Стараниями обеих курсов наше семейное торжество было превращено в модную в ту пору комсомольскую свадьбу, хотя комсомольцем я был, сразу скажу, благодаря тому же Хэму, литобъединению и ещё кое-чему, о чём речь ниже, никудышным, Катя, напротив, примерным, но без экстаза, взносы платила исправно, собрания посещала регулярно. Поскольку по окончании учёбы мы были одна семья, как и папу с мамой когда-то, нас разлучать не стали, освободив от обычной трёхлетней отработки в какой-нибудь дыре. Я устроился в вечёрку. Жили мы у Катиных родителей. Был у них ещё старший сын Василий, к тому времени закончивший военное училище, служивший в ГДР и мечтавший поступить в академию. Васенька, как величали его родители, был семейным идолом и не сходил с языка. Его фотографиями в военной форме, с семейством (у них уже были сын и дочь) была заставлена вся стенка, заполненная «огоньковскими» и другими собраниями сочинений, которые в своё время тесть выписывал на заводе «по партийной линии», и мне теперь не надо было ходить в библиотеку для поиска цитат к газетным статьям и заметкам. Судя по всему, книги до меня никто не читал и собрали всего лишь из моды, которой тогда заразились все. Заставленная красивыми переплётами стенка была шиком того времени и являлась наглядным свидетельством, что и в этой квартире культурные люди живут. И, когда Катя забеременела, я уговорил её поменяться с родителями комнатами, тем более что они были совершенно одинаковыми. Всё, что давалось университетской программой бегло, да ещё в известном направлении, да и прочитать всё означенное в списке из-за наличия других предметов было просто немыслимо, теперь находилось в моём распоряжении.
И я приступил. Благо, времени для этого было достаточно. В редакцию я приходил около полудня, а в шесть уже был дома и мог читать хоть до утра, что нередко и случалось. За время Катиной беременности, а особенно после того как она ушла в декретный отпуск, я заразил чтением и её. Дошло до того, что мы перестали ходить на кухню. Так, принесём чего-нибудь и сидим в разных концах дивана с книжками и жуём, запивая давно остывшим чаем.
Родители – они были под стать друг другу, оба упитанные, гладкие, без затей – сначала смотрели на это с уважением, потом с опаской, затем стали высказывать, в основном тесть, тёща только поддакивала да улыбалась в знак согласия, вытирая о вечно висевшее на плече кухонное полотенце и без того чистые руки.
– Вы нам кого родить собираетесь? Понимаешь ли, появится на свет вместо обыкновенного безграмотного ребятёнка какой-нибудь вундеркинд, начнёт шестизначные на шестизначные умножать или поэму какую-нибудь закатит! Или спросит у нас с матерью: а вы читали? А мы ничего и не читали, некогда нам было читать. Ну что, деваться некуда, надо подтягиваться, мать, правильно я говорю?
– Ты у меня всегда правильно говоришь, как соловей! – льёт она ему на душу елей.
– Соловьи, к твоему сведению, не говорят, а поют, – резонно возражает он, хотя за версту видно, что доволен.
– Ну тогда как Карла Маркс с Фридрих Энгельсом.
Но он уже не слышит, он уже взял из рук сидевшей на диване дочери книжку и начинает листать.
– Фридрих, говоришь, с Энгельсом?.. А тут кто? Пу-ушкин. Ну-ка, чего он тут пишет? «Цыгане шумною толпой по Бессарабии кочуют…» Хм. Это уже, поди, не интересно, это мы уже давно-о пережили. Дальше. «Граф Нулин». Это что, фамилия такая? Ну и фами-илия! Представляешь, мать, у нас бы с тобой такая фамилия была? Не Голубевы, а Нулины, а!
– Чай, мы с тобой не графья, – тем же елейным тоном замечает она. – И Васеньку бы в армии за такую фамилию засмеяли.
– А ведь ты, мать, права. Ему бы тогда не то что батарею, взвод бы не дали.
– А детишек бы ноликами во дворе задразнили.
– Фа-акт! Ну, это тоже, видно, не интересно. – Переворачивает ещё несколько страниц. – «Полтава». Этих тоже победили. – Листает дальше. – Гляди, какая длинная, а сражались всего каких-то полдня, а понаписал, понаписал… Корреспондент, – обращается ко мне, – сколько бы ему за такую статью в вашей газете заплатили?
– Да не меньше пятисот рублей.
– Ты это серьёзно?
– А в журнале бы и больше.
– Вот кем надо работать! А мы с тобой, мать, какие-то телевизоры штампуем. А тут написал одну такую статью и цветную «Чайку» с одной получки домой принёс. Да-а… Эхма-а… – Кончил шелестеть, читает: – «Та-ази-ит». Опять про какого-то татарина пишет, – листает дальше. – И чего он к ним привязался, к этим татарам?.. О, вот, наконец, про нас с тобой, мать. Гляди. «Домик в Коломне». А нам бы с тобой в нашей или в вашей деревне, а? Ну-ка, чего тут? «Четырехстопный ямб мне надоел: им пишет всякий. Мальчикам в забаву…» А где же про дом?.. – Перелистывает страницу. – А, вот! Там предисловие было. Слушай, мать. «Мне стало грустно: на высокий дом / Глядел я косо. Если в эту пору / Пожар его бы охватил кругом, / То моему б озлобленному взору / Приятно было пламя…» Это он серьёзно? Вот помещики! Вот дают! Сразу видно, с жиру бесились! На их глазах дом горит, а им на это глядеть приятно! Ну, капиталисты! Нет, это тоже пропустим. Мы свой дом, мать, никогда не сожжем, правильно я говорю?
– Ты у меня всегда правильно говоришь, как… – но так и не может подобрать достойного сравнения и с тем умолкает.
– Нет, видно, книжки нам уже поздно читать, – наконец вздыхает тесть, – да и пишут не пойми про что… Читайте без нас, а мы пельмени пойдём уговаривать. Начитаетесь, приходите и вам дадим. Правильно я говорю, мать?
– Ты у меня… – начинает она опять, но он её на этот раз перебивает:
– Дай-ка я тебя лучше поцелую! – Она не очень настойчиво сопротивляется, он её смачно целует, отрывается. – Ух, и досталась же мне жена!
– Хорошая аль плохая?
– Хоро-ошая!
– Как будто и без тебя не знаю. Пошли, бесстыдник, ишь чего выдумал, на глазах у детей целоваться!
– Эх! И впрямь! Ну да ла-адно, чай, они уже всё-о понимают.
– Ещё бы не понимать, столько книжек прочитав. Зачем накупил столько?
– Не выбрасывать же их теперь?
– Ишь чего выдумал – выбрасывать! Такие-то красивые? Пусть стоят.
– Тогда пошли пельмешки есть.
И они уходят. А мы, глянув им вслед, а потом друг на друга, не выдерживаем и начинаем смеяться.
А через месяц Катины родители и в самом деле купили дом в деревне, вернее, выкупили бывший родительский у младшего тещиного брата, которому дали комнату «со всеми удобствами» на центральной усадьбе колхоза. Посмотрел я однажды на эти «удобства», заскочив как-то по пути в магазин на велосипеде. Серая блочная двухэтажка с облезлой, вечно распахнутой дверью в подъезд – иначе в нём просто задохнёшься, тащило из него, как из коровника, а у каждой двери стояли испачканные в навозе резиновые сапоги, источавшие эту амброзию, а у некоторых на грязных домотканых круглых половиках лежали, свернувшись калачиками, мирные псы. Сие означало, что в этой квартире жил пастух, там, где были одни сапоги – шофера, трактористы, телятницы, доярки, работницы полей. У которых ничего не было – специалисты с бухгалтерией. Председатель колхоза жил в отдельном доме, за высоким забором, как барин. Собственно, им и был. Вся колхозная продукция находилась в полном его распоряжении. Ею он снабжал районное и областное начальство. Устраивал для него охоту. Поставлял к юбилеям больших людей молочных поросят. Ну, а простые колхозники из кожи лезли, чтобы выпроводить от такой жизни детей в город. На селе оставались одни неучи. Что бы там ни пели про колхозную жизнь, она и теперь не сахар. И я за этим на протяжении двух десятилетий наблюдаю.
Домик пришелся кстати. Но прежде чем рассказать о том, что связано с ним и нашей жизнью в деревне, завершу книжную эпопею.
2
Постепенно наше чтение углубляется. Чем больше внепрограммных стихотворений мы открываем у Пушкина, тем большее недоумение вызывают они у нас. Взять хотя бы «Отцы пустынники…», «Воспоминание», «Чудный сон мне Бог послал…». А вообще я не знаю ни одного человека, который бы не нашёл для себя в творчестве Пушкина какой-нибудь драгоценной жемчужины, с которой уже не захотел бы расстаться до смерти и не завещал беречь детям, внукам и правнукам. Но вот незадача! Всякий видит в Пушкине только то, что хочет, а другое как будто не замечает совсем.
Допустим, «Татьяна верила преданьям простонародной старины, и снам, и карточным гаданьям, и предсказаниям луны», потому что в школе не училась. Там бы из неё «всю эту дурь» живо выбили. На первом же комсомольском собрании. А Пушкин ее именно за это любит. Так и пишет: «Я так люблю Татьяну милую мою!» Это что? И нашим, и вашим? Один стишок за царя, другой за будущего Ильича? Что-то не вяжется. Особенно когда читаю Кате о великопостной молитве Ефрема Сирина.
– «Но ни одна меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные великого поста, всех чаще мне она приходит на уста, и падшего живит неведомою силой…» Это что? Так? Для красного словца? Но у многих из нас даже и мысли такой возникнуть не может, потому что это не соответствует не только нашей походке, но и тому, как некоторые из нас цыкают слюной через стиснутые зубы, или эффектно сморкаются, зажав большим пальцем сначала одну, а потом вторую ноздрю, оставляя на асфальте мерзкие кляксы. Ты слышала когда-нибудь от кого-нибудь что-нибудь вроде: «Чудный сон мне Бог послал. С белой, длинной бородою, в белой ризе предо мною старец некий предстоял и меня благословлял»? И я не слышал. И нам с тобой не только никогда такой сон не приснится, но даже перед свадьбой никто не благословил. Они тогда под венец шли, а не ячейку общества создавали. И этим всё сказано! Я уже не говорю о «Воспоминании» – «Когда для смертного умолкнет шумный день…». Об этом стихотворении вообще гробовое молчание. А ты знаешь, что у него есть продолжение? Я нашёл. Вот. «Я вижу в праздности, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы, в неволе, бедности, в гонении, в степях мои утраченные годы…» И так далее, и завершает просто сногсшибательно: «И нет отрады мне – и тихо предо мой встают два призрака младые, две тени милые, – два данные судьбой мне ангела во дни былые. Но оба с крыльями и с пламенным мечом, и стерегут – и мстят мне оба, и оба говорят мне мёртвым языком о тайнах счастия и гроба». Нет, это тебе не «Естудей»! И всё-таки, когда мы во дворе это пели, ребятам нравилось, хотя и ни слова не понимали. От нашего исполнения они получали кайф в виде дополнения к «нищему в горах», пиву, бормотухе, потому что на хорошие сигареты и вино денег никогда не хватало, да и не надо было хорошего, а чтобы побольше дури. Стали бы они слушать про какого-то ангела с пламенным мечом! И всё-таки тешу себя надеждой, что слушали они нас не только для кайфа, а ещё и потому, что даже их огрубевшие сердца красота нашего исполнения задевала. И впоследствии многих из них от беды уберегла. Я за ними слежу, только единицы сели, часть спились и теперь никакой грозы из себя не представляют, а большинство всё-таки женились и работают кто где, детей растят. Так почему не предположить: потому не сгинули, что нас тогда слушали?
Когда таким образом я заводился на полчаса, Катя сидела как под гипнозом, боясь шелохнуться.
Ну, а потом были роды. Я хорошо помню то напряжённое, с томительным ожиданием, время. Мы уже перехаживали положенный срок на десять дней, что в ту пору было на руку и многие стремились переходить, чтобы получить прибавку к декретному. Живот уже опустился, а признаков схваток ещё не было и в помине. Врач из консультации была тёщиной знакомой, на госпитализации не настаивала, в роддоме могли вызвать роды искусственно.
Но вот это началось. Около одиннадцати ночи.
– Ой!
– Что?
– Села как-то неудобно. Ничего, вот так посижу и пройдёт. Ты ложись. И я потихоньку лягу. С краю. Сейчас… М-м-м!..
– Что, опять?..
– Нет-нет, ничего. Видно, повернулась неосторожно. Сейчас пройдёт. В тот раз прошло же… Ма-ама-а-а, как больно… Нет, это, наверное, всё же они…
– Кто?
– Схватки, не понимаешь, что ли!
– Скорую вызвать?
– Погоди, может, отпустит. Кажется, отпустило…
– Может всё-таки вызвать?
– Вызвать-вызвать! Тебе бы только скорей меня спровадить! Приедем, а у меня всё пройдёт. И чего я там лежать буду?
Но через несколько минут всё повторяется опять. А потом ещё и ещё… И, всполошив родителей, я стрелой лечу вниз к телефонной будке у остановки.
– Скорая?.. Женщина рожает!.. Что вы говорите? Какие роды?.. Первые, разумеется, а что?.. Адрес?
Я диктую адрес. Мне говорят: ждите. И, повесив трубку, я вихрем несусь назад. Катя уже собрана. Всё необходимое для роддома они с тёщей давно припасли. Только для будущего ребёнка из-за плохой приметы ничего пока не покупали.
– Что скорая, едет? – спрашивает тёща.
– Да.
– Что же она так долго едет, тут ехать-то?
– Сказали, ждите. Да! Спросили ещё, какие роды.
– А ты какие сказал?
– Ну, а какие у нас?
– Эх ты, ничего-то они не знают! Надо было пятые сказать, тогда бы скорей приехали.
– Почему?
– Потому что первые самые долгие. Я с Васенькой семь часов мучилась. Насилу родила. А Катю через два часа каких-то.
Схватки всё чаще и с каждым разом сильнее. Уже больше получаса прошло, а скорой всё нет. Мы идём потихоньку вниз, а то пока на третий этаж поднимутся, пока вместе спустятся. Катя по лестнице спускается осторожно, поддерживая то одной, то другой рукой живот, часто останавливается, чтобы переждать схватки. Наконец мы на улице. Скорой всё нет.
– Беги, звони, спрашивай, куда они там запропастились? – говорит тёща.
Я врываюсь в будку. Снимаю трубку, набираю 03. Длинные гудки.
– Скорая?.. Почему не едете, женщина уже во дворе рожает!.. Как какая женщина? Я вам полчаса назад звонил! Виноградова фамилия.
Напряжённое шипение в трубке и наконец:
– Выехала к вам скорая, чего кричите?
– Так рожает уже!
Я готов расколотить трубку, но в это время на совершенно пустой улице появляется белый «рафик» с красными полосами. Я выхожу на дорогу и начинаю махать. Затем бегу впереди машины до подъезда. Появляется медсестра, спрашивает, когда срок, и, узнав, что давно прошёл, говорит: «Что же вы до этого дотянули?»
Я помогаю Кате сесть в машину, залезаю сам. Едем. Буквально десять минут. Но в эти минуты Катя несколько раз сильно сжимает мою руку. Подъезжаем к «Приемному покою». Вылезаем из машины. Заходим в роддом. Там никто никуда не торопится. Нас записывают в журнал, велят Кате отдать «мужу» верхнюю одежду, говорят сухо: прощайтесь. Мы торопливо целуемся, Катю уводят, и мне так и не удаётся уловить её последний взгляд. Наверное, у неё в это время были схватки. Так она и ушла, не глянув на меня. И, пока иду назад, всю дорогу думаю об этом. Уже набухают почки на липах. Уже нигде нет снега. В городе он рано сходит. На улицах ни души. Хотя бы один прохожий, хотя бы одна машина. Весна! Кто же у нас всё-таки родится – мальчик или девочка? Ах, если бы мальчик! Правда, Кате хочется девочку. Если родится девочка, она будет похожа на Катю. Девочка тоже хорошо! Я почему-то не говорю: дочь или сын. Этого почему-то пока никто не говорит – ни родные, ни знакомые. Так и спрашивают: кого ждём, мальчишку или девчонку? Я отвечаю, что нам всё равно.
Я не спешу домой. А вдруг уже кто-нибудь родился? Роддомовский телефон у меня в кармане. Плохо, что дома нет телефона, говорят, длинная очередь. Но это ничего. У меня с собой кошелёк. Он, как и всегда, тощий, но двухкопеечных монет я запас. Целых двенадцать! Я подхожу к будке, вставляю монету, набираю номер…
– Скажите, пожалуйста, Виноградова ещё не родила?.. Примерно полчаса назад поступила… Что значит, какой вы быстрый?.. Что значит, не кошка? Так и скажите, что ещё не родила!.. Через сколько позвонить?.. Часов через пять? Да я с ума сойду за пять часов!.. Хорошо, позвоню через два!
Но я звоню через час. Потом ещё через полчаса. Потом ещё… Для этого летаю по ступенькам вниз. И вот наконец в четыре утра слышу: родила… девочку… на три семьсот.
Я выхожу из будки как во сне. Всех больше волнуется сердце. И не понять, отчего я больше счастлив – что всё хорошо обошлось или что родилась дочь? Я тогда впервые говорю в уме – «дочь».
Еще не рассвело, но воздух уже дышит прохладой. Я направляюсь к подъезду, подымаюсь на третий этаж, осторожно, открываю и прикрываю за собой дверь. Свет не включаю. Снимаю туфли и мимо родительской двери на цыпочках иду к себе. Я уже подхожу к своей двери, когда слышу за спиной приглушенный тёщин голос:
– Ну что там?
Я говорю.
– Слава Богу! Поздравляю.
– Спасибо.
– Родила, что ли? Кого? – доносится голос тестя.
– Внучку. А ты разве не спишь?
– А ты думала, я что? Вы не спите, и я с вами не сплю. А теперь и соснуть можно. И ты бы легла, не железная тоже.
– Знамо дело. И ты, Ваня, ложись. Тоже набегался, поди.
Я ухожу к себе. Раздеваюсь, ложусь, зачем-то говорю вслух: четвертое апреля. Закрываю глаза и проваливаюсь куда-то.
С этого дня я начинаю по три раза на дню ходить в роддом. Но только на второй день после обеда Катя появляется в окне третьего этажа. На стекло приклеен номер палаты. Мы просто стоим и смотрим друг на друга, и мне от этого хорошо. На третий день Катя показывает маленький свёрток. С такого расстояния ничего не видать. Но мне всё равно приятно смотреть.
Нас выписывают на седьмой день. И я, отдав коробку конфет нянечкам, впервые слышу, принимая завернутую в завязанное бантом синей лентой одеяло дочь: «Держите, папаша!»
А затем началось то, что бывает у всех. Мы буквально тряслись над нашим первенцем, оберегая от всякого дуновения ветра. Почему-то все микробы к нам прилипали. Я говорю «к нам», потому что все родители так говорят. Не говорят: он или она, а… какие мы больши-ие, у нас уже зу-убки режутся, живо-отик у нас болит, живо-отик. Ка-ашель у нас сухой, температу-урка, гла-азки гноятся, но-осик не дышит… Это означает, что и у родителей то же самое болит и не дышит, и они вместе со своими детьми всё это терпеливо переносят…
3
Надеюсь, читатель не забыл, что до школы я жил в маминой деревне.
У моей бабушки было сказочное имя – Василиса.
Правда, толстая соседка, завидя её из своего огорода, всякий раз визгливым голосом кричит: «Эй, Василиска, у тебя огурцы новы завязались ай нет?» И когда бабушка, не разгибая спины от грядки, отвечает: «Да вроди-к нешто, усы да пасынки вот щиплю!» – та, подперев бока и широко расставив ноги, начинает жаловаться:
– А у меня что ни плеть, один пустоцвет! Вот заразы! И чего им не хватат?
Бабушка наконец разгибает спину, спрашивает:
– Кормила ли их?
– Два раз! Да боюсь сожжечь!
– Что им с литровой банки станется? Только лучше возьмутся. Сколь на ведро льёшь?
– Литру и лью.
– И не вяжутся?
– Не хотят! Может, у тебя навоз слаще?
– Поди отведай. С чего он слаще? Такой же навоз.
– Ну не знаю. Никак ты их приворожила.
– А тебе кто не велит?
– Дак научила бы!
– Дак сама, поди, умеешь!
– Умела бы – не просила. Чего над ими читашь?
– «Богородицу» и читаю. А ты думаешь что?
– Одну «Богородицу»? О-ой ли?
– А моим хватает. Мои не привередливы. Но соседка всё равно не верит.
– Ты мне зубы не заговаривай! «Богородицу» она одну читат! А я, по-твоему, что?
– А ты потише читай, а то ты так читаешь, что на моей кошуке шерсть дыбом встаёт и она под крыльцо прячется.
– А если я така громка уродилась?
– Нешто я не помню, какая ты уродилась! Такая, как все! А какая горласта стала!
– Жизнь така, и я така!
– А у других не такая? У меня не такая, что ли? Твово убили и мово! Ну! Что тебе не так?
– Не могу тебя слушать, кака ты правильна! Всё ей нравится!
– А тебе кто не угодил?
– Давай мне ещё Библию прочитай! Мне по церквам шастать некогда, так я тут послушаю!
– Эх, Нюрка, Нюрка! – качает головой бабушка. – Гляди-ка на что губы надула, на Библию! Она тебя в какое место укусила? Посмотрел бы на тебя Матвей! Вот бы он полюбовался, какая ты стала!
– А ты меня Матвеем не тыкай. А то я тебе так тыкну, три дни с печи не слезешь!
– Ну, совсем с ума спятила, слово ей не скажи, – бурчит уже себе под нос бабушка и, махнув рукой, склоняется над грядкой.
– Ты на меня руками-то не маши! Ишь, барыня какая, слово ей не скажи! Матвеем меня тыкать вздумала! Тебе что Матвей? Он тебе что, а? Матвей! Посмотрел бы и ничего не сказал, так и знай! Я своего Матвея лучше тебя знаю! Матвей… Ну и молчи! Вишь какая молчаливая стала! – уже не так громко продолжает кричать соседка, потом все тише и тише.
И я опять слышу жужжания мух на завалинке, возле которой греюсь на солнышке. Бабушка посадила. Так и сказала, когда я всю кружку противного парного молока выпил: «Поди-ка погрейся на утрешнем солнышке». И я греюсь. И так мне хорошо, доски на крыльце теплые-теплые, белые-белые. Бабушка скоблит их большим ножом каждую субботу. А в воскресенье куда-то уходит на полдня. Я не знаю, куда, и долго не знал, пока соседка однажды, проходя мимо калитки, не спросила, когда я таким же образом на солнышке грелся: «Сидишь? Ну сиди-сиди! А бабка твоя опять, что ли, в церкву умотала?» И когда я дёрнул плечами, утвердительно заверила: «В церкву, куда же ещё!»
С тех пор церковь для меня становится чем-то вроде сказочного царства за семью горами и за семью долами, откуда всякий раз, когда сидеть на крылечке уже опасно, потому что «обедешное солнышко» не такое ласковое и может по головке ударить, бабушка привозит гостинцы – круглые печенья с медовыми карамельками.
В тот день я спросил бабушку:
– А ты в церкви была?
И она «не смогла соврать ребёнку», за что мама её потом ругала.
– Была, милый, была, вот гостинцев тебе опять привезла.
– А там всем дают?
– Всем. Ешь, – и кричит: – Лёньк, а Лёньк, ты где? Ребёнка кормил?
– Поел чего-то, – вяло отзывается с койки, которая стоит в чулане, дядя Лёня.
У дяди Лёни сегодня выходной. А когда у него выходной, почему-то всегда болит голова, а в другие дни не всегда. Он рано уходит на работу и поздно возвращается. От него пахнет сеном, овсом, и мне это нравится. На обед он не ходит. Берёт с собой варёных яиц, краюшку хлеба да луку с солью. Остальное, говорит, у него и там есть. Иногда он проезжает мимо на телеге с таким видом, будто мы ему не родные. На телеге что-то лежит под брезентом. Бабушка смотрит на него в это время сердито и качает головой. Иногда скажет: «Опять повёз. Говори не говори…» Бабушка считает, что дядя Лёня несчастный, «потому что никому такой не нужен». И я всё никак не пойму, что в дяде Лёне не так? А какую он мне свистульку сделал! С горошиной! Как в кино свистит. Кино смотрели на улице. На белой простыне. На какое-то «массово гулянье», как выразился дядя Лёня, привезли на машине, и мы с ним ходили смотреть. После кино дядя Лёня и сделал свисток с горошиной, попробовал свистнуть и, протянув мне, сказал: «На, свисти, минцонер». И я свищу без передыху. До тех пор, пока бабушка не отберёт свисток. «Ну всё, посвистел и хватит. Не всё тебе свистеть. Так побегай».
И я иду бегать с деревенскими ребятишками. Их тут немного. Они разного роста. И те, у которых короткие штаны, умеют курить в себя краденый самосад. И мне дают попробовать: «Накось, зобни». Я осторожненько втягиваю в себя из обмусоленной самокрутки и тут же пыхаю, как паровоз, который в массово гулянье на белой простыне свистел. «Это что-о? Ты в себя зобни. Так что не курить. Так ничего не поймёшь. А ты в себя вдыхни, тогда узнаешь». И я вдыхаю. Вернее, никак не могу вдохнуть, потому что дым встаёт поперёк горла, и рот перестаёт закрываться, и все надо мной смеются. А потом, похлопывая по спине, говорят: «Ну, понял теперь?» И хотя я ничего не понял, согласно киваю. «Ничего, подрастёшь, научишься», – утешают меня.
Понятно, что не всё время мы курим, а только для интереса. И курим потихоньку, чтобы никто не видел. А потом идём к пруду. Это наше любимое место. Сюда пригоняют на полдни общественное стадо. И пока его нет, купаемся мы. Старшие в глубине, мы у берега. Вода такая приятная, что никогда бы не вылез, но купаться долго нельзя, потому что от этого губы синеют, как у покойников, а это нехорошо. Большие ребята купаются в трусах, а мы без, потому что у нас ещё смотреть не на что. После купания мы идём есть витамины – луговую землянику. Она не такая вкусная, как лесная, но в лес мне ходить не велят даже с большими ребятами.
Потом мы идём рвать щавель. Он тоже полезный. И вишнёвая смола, и столбунцы, и дикарка, и барашки.
С девчонками не водимся. Мы их презираем. Просто так, ни за что. А они нас. И даже языки нам кажут. Разумеется, издали. А мы им кулаки. Но никогда не бьём. Старшие ребята говорят: бабу бить – последнее дело. А больше в деревне и бить некого, остальные все свои.
Но проходит лето, наступает осень, старшие начинают ходить в школу «на центральную усадьбу», и мы всё реже собираемся вместе. А когда зарядят дожди, вообще все дни напролёт сидишь дома. Я тогда ещё читать не умел. Это потом меня дядя Лёня грамоте выучит. И я с пяти лет стану читать всё подряд. Кроме бабушкиных книг, разумеется. У неё их всего три, но и те, как говорит дядя Лёня, «на ненашенском». Я заглядывал. Буквы раз в пять больше тех, что в численнике, который на стене висит, все одного размера, корявые, строчки без промежутков и неэкономные, как считает дядя Лёня, поля. Книжки толстые, тяжёлые, корки деревянные, обтянутые обгрызенной мышами кожей. Раньше у бабушки таких был целый сундук, который теперь пустой в чулане стоит, «чай, этот, непутёвый, когда в школу пошёл да с ума спятил, а меня дома не было, сволок с Ванькой Спицыным в овраг и сжёг. Ох, и лупила я его тогда! Думала, убью! Луплю, а он подзадоривает: всё равно Бога нету!» – «А коли, говорю, нету, почто книжки сжёг? Они тебе есть, пить не давали, что ли?» А он всё своё твердит: опиум для народа. А я тебе, говорю, что, не народ? У-у, ирод!.. Через этот самый опиум его Бог и наказал. Никому, кроме матери, не нужен». Дядя Лёня теперь на всё это молчит, потому что бабушка нет-нет да напомнит, видимо, понимает, что маху дал. Правда, бывает это редко. А так мы живём мирно. Вместе копаем картошку, моркошку, свёклу. Жжём ботву.
Потом начинаются заготовки. Мы с бабушкой рубим и солим капусту, огурцы, помидоры, грибы, мочим яблоки в кадках. Больше всего мне нравится варить варенье, есть розовые пенки, которые снимают длинной деревянной ложкой.
В это время дядя Лёня с двумя такими же вечно небритыми мужиками режет поросёнка. Я на это всего один раз ходил смотреть и с тех пор резать поросят не хожу. Только смотрю из окна, как его, подвязанного за задние ноги к суку корявой берёзы перед домом, палят синим огнём, а потом скоблят длинными ножами и омывают водой до тех пор, пока он не станет белым. Затем втроем снимают тяжёлую тушу и рубят на чурбаке. Сортируют.
И когда уже всё готово, бабушка выносит «угощение», ставит в чугуне на печной плите варить «селянку», кричит в открытую дверь копошащимся в сенях мужикам: «Приходите потом селянку исти». Но оттуда летит: «Спасибо, Василиса Егоровна, нам и этого за глаза. Ну, Лёнька, будь здоров, спасибо, что позвал». – «Кого же мне, кроме вас с Ванькой, звать? Чай, мы друзья сколь уж лет? Во-о. Ну, давай…»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































