Текст книги "Монстролог. Все жуткие истории"
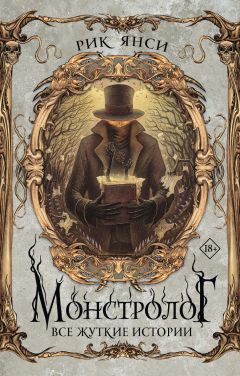
Автор книги: Рик Янси
Жанр: Зарубежное фэнтези, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 43 (всего у книги 78 страниц)
«Примечательный феномен»
Чуть позже рука Уортропа вновь легла на мое плечо. Надо мной было окно – а над окном облака тяжело несли свои полные снега чрева.
– Уилл Генри, – сказал монстролог. Голос был надтреснутый и хриплый, как будто он сорвал его, крича во всю глотку. – Уилл Генри.
– Который сейчас час? – спросил я.
– Четверть четвертого. Я не хотел тебя будить…
– Однако разбудили.
– Хотел показать тебе кое-что.
Я перекатился на бок, отвернувшись от него.
– Не хочу снова на него смотреть.
– Это не мистер Кендалл, а вот, – я услышал, как в руках Уортропа захрустели бумаги. – Трактат французского ученого Альбера Кальметта из Института Пастера. Посвящен теоретической возможности разработки противоядия на основе принципов вакцинирования Пастера. Эта теория применима к ядам ряда змей и паукообразных, однако возможно, что сработает и в нашем случае – в случае мистера Кендалла, я имею в виду. Полагаю, стоит попробовать.
– Так попробуйте.
– Да, – он прочистил горло. – Наш главный враг здесь – время, и у мистера Кендалла его немного.
Я перевернулся на спину, и Уортроп предстал моему взгляду. Вид у него был измотанный; монстролог пошатывался, как человек, пытающийся удержать равновесие на ненадежной палубе судна.
– Тогда вам лучше бы приступить к делу побыстрее.
– Я хотел сказать, что тебе придется посидеть с мистером Кендаллом.
Я сел, свесил ноги с кровати и сунул их в башмаки.
– Значит, посижу.
Прежде, чем впустить меня в комнату Кендалла, доктор открыл небольшой флакон с густой и прозрачной жидкостью и смочил носовой платок несколькими ее каплями.
– Вот. Повяжи это на лицо, – велел он и сам завязал узел. Я чуть не задохнулся от сладкого мускусного аромата, похожего на запах спирта для растирания – только без острой терпкости.
– Что это? – спросил я.
– Ambra grisea, она же серая амбра, выдержанная регургитация китовой спермы, – сообщил монстролог. – Расхожий парфюмерный ингредиент. Нередко, впрочем, задаюсь вопросом, был ли ингредиент столь расхожим, если бы общество – в особенности дамская его часть – знало наверное, откуда он берется. Видишь ли, серая амбра, как правило, исторгается через анус кита вместе с фекальными массами, однако…
– С фекальными массами? – Меня замутило.
– С дерьмом. Однако бывает так, что количество амбры слишком велико, чтобы пройти через сфинктер, и тогда кит срыгивает ее через рот.
– Китовая блевотина?
– Можно сказать и так. В Древнем Китае ее называли «слюной дракона», а в Средние века люди носили шарики амбры повсюду с собой, веря, что запах защитит их от чумы. Пахнет, впрочем, неплохо, не так ли?
Тут я согласился. Доктор удовлетворенно улыбнулся, как будто бы только что преподал мне важный урок.
– Хорошо. А теперь тихо, Уилл Генри.
Мы вошли в спальню. Даже сквозь аромат выблеванного китового дерьма я чуял запах разложения, исходивший от Кендалла: глаза слезились от вони, а на языке оседал привкус. Я ожидал этого – но был подготовлен не слишком тщательно. Однако, к моему изумлению, то было единственное мое оправдавшееся ожидание.
Во-первых, Уортроп вновь уложил одеяло своей матери туда, где нашел: мистер Кендалл был укрыт от шеи до ног.
Но этим дело не ограничилось: сам мистер Кендалл переменился. Я ожидал судорог агонии, рыка сквозь зубы и гортанных стонов – в общем, всего того, что принято ожидать от людей, находящихся в эпицентре духовных и телесных мук. Вместо того он лежал так неподвижно, так тихо, что на краткое мгновение я подумал было, что он наконец скончался; но нет. Кендалл был жив. Покрывала приподнимались и опадали, и при более близком рассмотрении я заметил, как глазные яблоки Кендалла бешено вращаются под полузакрытыми веками. Но удивительнее всего в этих и без того удивительных обстоятельствах была улыбка: Уаймонд Кендалл улыбался, словно видел прекрасный сон!
– Мистер Кендалл… он что…
– Улыбается? Да, можно это и так назвать. Легенды гласят, что на заключительных стадиях заболевания жертва испытывает периоды сугубой эйфории – всепоглощающее чувство блаженства. Это интересный феномен; возможно, всосавшись в кровь, пуидресер высвобождает химическое соединение, по структуре схожее с опиатами. – Он прервался, мягко рассмеялся – самому ли себе? – и затем продолжил: – Мне следует заняться антитоксином. Если его состояние изменится, зови меня тут же.
И с этим монстролог оставил меня наедине с Кендаллом. Он бы не сделал этого, говорил я себе потом много раз за свою долгую жизнь, если бы знал, во что Кендалл превратился, – если бы знал, что Кендалл больше не Кендалл и уже не больше человек и разумное существо, чем манекен в витрине дешевой лавки.
Так я себе говорил.
В комнате холодно, и свет сер. Ровное дыхание существа, некогда бывшего человеком, на кровати – единственный звук, что доносится до ушей мальчика: метроном, тиканье человечьих часов, усыпляющее его.
Он так устал! Мальчик поникает головой и говорит себе, что не заснет. Только прикроет глаза на секунду-другую…
В сером свете холодной комнаты, под мерное дыхание преображающегося чудища – спи.
Спи, Уилл Генри, спи.
Видишь ее? В белом, брезжущем сквозь серое, в тепле, брезжущем сквозь холод, в тишине, что слышна сквозь тиканье часов – она печет пирог, твой любимый – яблочный. А ты сидишь за столом, с высоким стаканом молока, и болтаешь ногами – слишком еще короткими, чтобы достать до пола.
Пусть он сперва остынет, Вилли. Пускай остынет.
Вот прядь волос, выбившаяся из прически и изящно спадающая на ее тонкую шею, вот новый фартук, вот мазок муки на щеке, и какими же длинными кажутся ее руки, погруженные в духовку, и весь мир словно пахнет яблоками.
«Где папа?»
«Снова уехал».
«С доктором?»
«Конечно, с доктором».
«Я хочу с ними».
«Сам не знаешь, чего хочешь».
«Когда он вернется?»
«Надеюсь, что скоро».
«Папа говорит, однажды я поеду с ним».
«Так и говорит?»
«Однажды я с ним поеду!»
«Но если и ты уедешь, кто же со мной останется?»
«Ты тоже можешь поехать со мной и с папой!»
«Там, куда ездит твой отец, у меня бывать нет желания».
Пламя, охватившее ее, не греет, а ее вопль беззвучен. Мальчик сидит на стуле, болтая ногами, со стаканом молока, и смотрит, как огонь пожирает ее, и смеется, пока его мать сгорает заживо, и мир по-прежнему пахнет яблоками.
А затем отец зовет его:
– Уилл Генри! Уилл Генри-и-и-и!
* * *
Я пулей вскочил из кресла, пошатываясь, сделал пару шагов к кровати, повернулся и бросился вниз по лестнице. Меня звал не отец – не голос из сна, – а доктор, как и сотню раз прежде, когда ему вдруг оказывались срочно необходимы мои незаменимые услуги.
– Иду, сэр! – крикнул я, с грохотом сбегая по ступенькам на первый этаж. – Я иду!
Мы столкнулись в прихожей: пока я бежал вниз, он бежал вверх. И мы оба имели вид взвинченный и слегка безумный, глядя друг на друга с одинаковым выражением комического недоумения.
– Что стряслось? – запыхавшись, спросил Уортроп.
– Что стряслось? – одновременно с этим спросил я.
– Почему ты спрашиваешь у меня, что стряслось да что стряслось?
– Что, доктор Уортроп?
– Это я у тебя спрашиваю – что стряслось?
– Что стряслось, что вы спрашиваете, доктор Уортроп?
– Да что стряслось-то – вот что я спрашиваю! – взревел он. – Что случилось, зачем ты меня звал?
– Но – но это вы звали меня, сэр.
– Я тебя не звал. С тобой все в порядке?
– Да, сэр. Наверное… наверное, я уснул.
– Не советовал бы сейчас спать, Уилл Генри. Вернись наверх, будь добр. Мы не должны оставлять мистера Кендалла без присмотра.
В комнате по-прежнему было очень холодно, а свет был сер. И снег шелестел, падая на оконное стекло.
Вот только кровать была пуста.
Кресло; резной гардероб в стиле Луи-Филиппа; погасшие угли в камине; маленькое кресло-качалка; кукла-пигмей в нем и ее крохотные, немигающие глазки из черного фарфора; и мальчик, замерший на пороге как громом пораженный, тупо глядя на опустевшую постель.
Я медленно попятился в гостиную. Там было теплее, чем в комнате, но далеко до моего собственного жара: мои щеки горели как огнем, хоть руки и онемели.
– Доктор Уортроп, – прошептал я, не громче шороха падающего снега. – Доктор Уортроп!
Он, наверное, упал, подумал я. Как-то высвободился из пут и свалился с кровати. Он лежит с другой стороны кровати, только и всего. И пусть доктор его и поднимает. Я к нему не притронусь!
Я повернулся. Это движение заняло у меня будто тысячу лет. Ступени простирались передо мной на тысячу миль вперед.
До лестничной площадки. Еще тысяча лет. Сердце мое колотилось, горячее дыхание надувало самодельную маску, разило серой амброй. И наверху, за моей спиной, робко скрипнула верхняя ступенька.
Я замер, прислушиваясь. Третья тысяча лет.
Я охлопал пустые карманы в поисках пистолета.
Где пистолет? Уортроп забыл мне его вернуть; или, как он сам, вне всякого сомнения, сказал бы, я забыл его об этом попросить.
Я знал, что надо продолжать идти. Инстинктивно я понимал, где лежит мое спасение. Однако привязать себя к мачте, обернуться, как Лотова жена, – вот какова человеческая природа.
Я обернулся.
Часть седьмая«Хочешь жить?»
Оно кинулось на меня с верхней ступеньки, зловонный мертвец с выпирающими костями, содранной кожей и алыми, сочащимися гноем мышцами, разинутый рот оторочен неровными зубами, глаза черны как бездна.
То, что когда-то было Кендаллом, рухнуло на меня, ударив плечом в грудь, и черные глаза завращались в глазницах, как у нападающей акулы в экстазе убийства. Я вслепую стукнул его кулаком в лицо и ободрал костяшки о выпиравшие из лохмотьев плоти острые костяные наросты, кость стукнулась о кость, и вся моя рука зашлась в песне боли.
Чудовище схватило меня за запястье и сбросило вниз, к подножию лестницы, с той же легкостью, с какой мальчишка кидает палку. Я приземлился лицом вниз практически без звука – падение вышибло из меня весь воздух. В промежутке меж двух ударов сердца я перевернулся на спину – и чудовище тут же очутилось на мне, так близко склонившись к моему лицу, что я увидел свое отражение в его лишенных души глазах. Я много раз с тех пор глядел в это лицо; я храню это воспоминание в особой комнатке своей мысленной кунсткамеры, и время от времени, когда день в зените, солнце греет и до сумерек еще далеко, я извлекаю его на свет Божий. Я вынимаю его и держу, и чем дольше держу, тем меньше, видите ли, я боюсь его. Большей части кожи уже нет, она сорвана или слезла, как змеиная, и обнажает мышцы, чудесно сложный – и волшебно прекрасный – фундамент. Заостренные рога из кальцинированной[43]43
Перенасыщенной кальцием и потому похожей на кость.
[Закрыть] ткани выпирают из черепа во множестве, как взрывшие землю корни кипарисов: из скул, изо лба, челюстей и подбородка. У чудища нет губ. Языка у него тоже нет – язык разложился и отпал, только корень его остается во рту, и когда ко мне близится разинутая пасть, я вижу, как судорожно сокращается бурый волокнистый обрубок. Остаток языка чудовище проглотило, как и губы; в желудке мистера Кендалла обретался исключительно мистер Кендалл.
В последний миг перед тем, как Кендалл приземлился на меня, я вскинул руки. Они легко прошли сквозь плоть, и мои пальцы запутались в его ребрах. Если бы я был в состоянии мыслить, я бы сообразил нажать чуть сильнее, добраться до его сердца и давить то, пока не лопнет. Возможно, впрочем, дело было в скорости, а не в остроте ума: времени сообразить у меня не было.
Пока я осознавал, что это нечеловеческое лицо станет последним лицом, что я вижу в своей жизни, пуля вошла в затылок чудовища, прорвав дыру размером с яблоко в его лбу и уйдя в ковер – меньше, чем в четверти дюйма от моего уха. Тело, нанизанное на мои руки, содрогнулось. Я почувствовал – или, во всяком случае, подумал, что почувствовал, – сопротивление его сердца, злобный толчок в обвившие ребра твари пальцы, словно отчаявшийся узник бросился на прутья своей решетки, прежде чем сердце Кендалла все же остановилось. Свет в глазах его не угас: он и прежде не теплился. И я все еще был в плену его незрячего взора – иногда я думаю, что я до сих пор у него в плену.
Уортроп оттолкнул тело – как только высвободил его из моей безумной хватки, – отбросил прочь пистолет и опустился рядом со мной на колени.
Я потянулся к нему.
– Нет! Нет, Уилл Генри, нет!
Он отшатнулся от моей руки; окровавленные кончики моих пальцев лишь царапнули по фалдам его сюртука.
– Ничего. Не. Трогай! – как бы показывая пример, он вскинул руки. – Ты не ранен?
Я помотал головой. Я все еще был лишен дара речи.
– Не двигайся. Держи руки подальше от тела. Я сейчас вернусь. Понимаешь, Уилл Генри?
Он поднялся на руки и бросился к кухне. Но человеческой природе свойственно искушение совершать именно то, от чего вас только что предостерегли. Платок был все еще повязан мне на лицо. Я чувствовал себя так, будто меня медленно душат, и все, о чем я мечтал, было сдернуть его вниз.
Мгновение спустя Уортроп вернулся, в свежих перчатках, и сдвинул маску вниз, словно без слов узнал о причине моих страданий. Я глубоко, с дрожью вдохнул.
– Не двигайся, не двигайся, пока еще нет, – зашептал монстролог. – Осторожно, осторожно. Он ранил тебя, Уилл Генри? Укусил или поцарапал?
Я отрицательно потряс головой.
Уортроп внимательно изучил мое лицо и покинул меня так же внезапно, как только что вернулся. Гостиная постепенно заволакивалась серым туманом. Шок начал оказывать воздействие на мое тело, и я почувствовал ужасный холод.
Где-то вдали до меня доносится жалобный крик паровозного свистка. Туман расступается, и на платформе стоим мы с матерью: мы держимся за руки, и я вне себя от счастья.
«Это он, мама? Это тот поезд?»
«Думаю, да, Вилли».
«Как ты думаешь, папа привез мне подарок?»
«Если нет, то это не твой папа».
«Хотел бы я знать, что это!»
«Хотела бы я не знать, что это».
«Папы в этот раз долго не было».
«Да».
«А сколько, мам?»
«Очень долго».
«В прошлый раз он привез мне шляпу. Дурацкую шляпу».
«Ну, ну, Вилли. Это была очень славная шляпа».
«В этот раз я хочу что-то особенное!»
«Особенное, Вилли?»
«Да! Что-нибудь чудесное и особенное, как те места, куда он ездит».
«Не думаю, чтобы ты нашел их такими уж чудесными или особенными».
«А я нашел бы! И я найду! Папа говорит, когда я достаточно вырасту, он возьмет меня с собой».
Сжимает мою руку. А вдали – рык и пыхтенье локомотива.
«Ты никогда не вырастешь настолько, Уильям Джеймс Генри».
«Однажды он меня возьмет. Он обещал. Однажды я увижу места, которые другим только снятся».
Поезд – живое существо; он злобно визжит, жалуясь на рельсы. Черный дым угрюмо валит из его трубы. Поезд бросает презрительный взгляд на толпу, на важничающего проводника, на носильщиков в аккуратных белых куртках. И он огромен – в нем дрожат сила и сдерживаемая ярость. Это пыхтящий, рычащий, разъяренный монстр, и мальчик зачарован им. Какой мальчишка не был бы зачарован?
«А теперь гляди, Вилли. Ищи своего отца. Посмотрим-ка, кто первый его увидит!»
«Я вижу! Я его вижу! Вон он!»
«Нет, это не он».
«Нет, это… Ох, нет, это правда не он».
«Ищи дальше».
«Вон он! Это он! Папа! Папа!»
Он похудел; его пропыленная одежда, обтрепавшаяся в путешествии, свободно висит на сухощавом теле. Он не одну неделю не брился, и глаза у него усталые, но это мой отец. И я всегда его узнаю.
«А вот и он! Вот мой Уилл. Иди ко мне, сынок!»
Я взлетаю на тысячу футов вверх; руки, что поднимают меня, худые, но сильные, и лицо его на миг оказывается подо мной, а затем я утыкаюсь ему в шею и сквозь копоть рельс вдыхаю его запах.
«Папа! Папа, что ты мне привез?»
«Привез! С чего это ты взял, что я что-то тебе привез?»
Смеется; и зубы его очень белы на небритом лице. Он нагибается поставить меня на ноги, чтобы обнять жену.
«Нет! Понеси меня, папа».
«Вилли, твой отец устал».
«Понеси меня, папа!»
«Все в порядке, Мэри. Я понесу его».
Пронзительный, жуткий вопль чудища, последний злобный клуб выдохнутого им дыма, и, наконец, я дома, в объятиях своего отца.
Уортроп поднял меня на руки, скривившись от мышечного усилия, потребного, чтобы удержать мое тело как можно дальше от его собственного.
– Подними руки, Уилл Генри. И не вздумай ими пошевелить!
Он отнес меня на кухню. Таз для мытья стоял на полу у очага, до половины заполненный дымящимся кипятком. Я заметил на плите чайник и понял, с внезапным уколом грусти, что слышал свисток чайника – а вовсе не поезда. Мои отец и мать вновь исчезли, скрылись в сером тумане.
Монстролог усадил меня на пол перед тазом и сам сел рядом, тесно прижавшись ко мне. Он обнял меня и крепко ухватил за руки, чуть ниже локтей.
– Готовься, Уилл Генри. Обожжет.
Он наклонился вперед, притиснув меня к дымящейся воде, и затем погрузил мои окровавленные руки в раствор – в смесь кипятка и карболовой кислоты.
Тут-то ко мне и вернулся голос.
Я орал; я пинался; я бился; я толкал его изо всех сил, но монстролог не сдавался. Сквозь слезы я видел, как алый туман крови Кендалла заволакивает прозрачный раствор, расползаясь в нем змеиными кольцами, покуда я наконец уже не мог разглядеть в нем свои руки.
Доктор яростно прошептал мне в ухо: «Хочешь жить? Тогда держи! Держи!»
В глазах у меня зацветали черные звезды, превращались в сверхновые, взрывались и гасли. Когда силы мои иссякли, в тот самый миг, когда я замер, колеблясь, на грани обморока, монстролог вытащил мои руки из таза. Обожженная кожа на них стала ярко-красной. Уортроп поднял их, повернул туда-сюда, и я почувствовал, как напряглось его тело. Он тихо ахнул.
– Что это, Уилл Генри? – Доктор указал на маленькую ссадину на средней костяшке указательного пальца левой руки. Свежая кровь выступила у нее в середине. Когда я не ответил немедля, Уортроп слегка встряхнул меня.
– Что это? Он укусил тебя? Или оцарапал? Уилл Генри!
– Я… я не знаю! Я упал с лестницы… не думаю, что это он.
– Подумай, Уилл Генри! Вспомни!
– Я не знаю, доктор Уортроп!
Он встал, а я рухнул, слишком слабый, чтобы подняться, и слишком перепуганный, чтобы сказать еще хоть слово. Я взглянул в его лицо – и увидел человека, зажатого в убийственные тиски нерешительности, вынужденного выбирать из двух равно неприемлемых путей.
– Я не знаю. Прости мне Бог, не знаю!
Стоя надо мной, он казался высоким как великан, как кто-то из «детей Божьих» – племени гигантов, что обитали на допотопной Земле. Его взгляд заметался по комнате, как будто он искал ответа своей невозможной дилемме, словно где-то в кухне скрывалось знамение, способное указать ему путь.
Затем монстролог замер, и его беспокойный взор остановился на моем запрокинутом лице.
– Нет, – сказал он мягко. – Не Бог.
Он быстро шагнул в сторону, и прежде чем я повернул голову, чтобы посмотреть, куда он пропал, монстролог вернулся с мясницким ножом.
Он склонился надо мной, потянулся к моей левой руке, схватил за запястье, вздернул меня с пола, подтащил к кухонному столу, швырнул на стол мою руку, закричал «Растопырь пальцы!», крепко прижал мою руку своей левой, занес нож – и с силой опустил.
Часть восьмая«Все, ради чего я остаюсь человеком»
Хочешь жить?
Запах сирени. Звук воды, каплющей в таз. Прикосновение теплой, влажной ткани.
Тень. Присутствие. Призрак в моих померкших очах.
Хочешь жить?
Я парю под потолком. Подо мной – мое тело. Я вижу его ясно и четко, и рядом с ним, у моей кровати, монстролог выжимает полотенце.
Затем он укрывает меня. Он стоит спиной ко мне, потому что смотрит в мое другое, смертное лицо, принадлежащее мальчику на постели.
Он вновь садится. Теперь я вижу его черты. Я хочу сказать ему что-нибудь; хочу ответить на его вопрос.
Он потирает глаза. Пропускает сквозь волосы свои длинные пальцы. Наклоняется вперед, уперев локти в колени, и закрывает лицо руками. Так он сидит лишь мгновение – и тут же снова вскакивает, вышагивает вдоль кровати туда и обратно. Его тень мечется по полу в свете лампы, ползет по стене, когда он приближается, и волочится за ним, когда он отходит. Уортроп падает в кресло, и я вижу, как он тянет руку – и кладет ее мне на лоб. Жест кажется рассеянным, как если бы прикосновение ко мне помогало ему думать.
Сверху я вижу, как он дотрагивается до меня. Внизу я это чувствую.
Свет, что ярче тысячи галактик, глубоко впивается мне в глаза. А за ним – глаза Уортропа, темнее самой темной пропасти.
Его пальцы на моем запястье. Холодный стетоскоп, прижатый к моей груди. Моя кровь, стекающая в стеклянные сосуды.
Свет, вгрызающийся в мои глаза.
«Что ты привез мне, папа?»
«Я привез тебе семечко».
«Семечко?»
«Да, золотое семечко с Острова Блаженства, и если ты посадишь его и будешь поливать, оно вырастет в золотое дерево, на котором растут леденцы».
«Леденцы!»
«Да! Золотые леденцы! И мятные, и лакричные конфетки, и лимонные. Почему ты смеешься? Посади его и увидишь».
Я вижу монстролога в дверях. У него что-то в руке.
Веревки.
Он бросает веревки на кресло. Сует руку в карман.
Револьвер.
Он кладет револьвер на столик возле кресла. Кажется мне, или его рука дрожит?
Осторожно он вынимает мою руку из-под одеяла, берет веревку – одну; всего их три, – и обвязывает вокруг моего запястья.
Я парю над ним и не вижу его лица. Он смотрит вниз, на лицо мальчика.
Он отшатывается от кровати; свободный конец веревки свешивается с края постели.
Затем он оборачивается, смахивает веревки с кресла на пол и садится. Довольно долго не двигается.
А затем монстролог берет свободный конец веревки, привязывает его к собственному запястью, откидывается на спинку кресла, закрывает глаза и спит.
«Где ты был в этот раз, папа?»
«Я же сказал тебе, Вилли. Я был на Острове Блаженства».
«А где он, Остров Блаженства?»
«Ну, сперва тебе понадобится лодка. И не всякая лодка тут пойдет. Тебе придется отыскать самую быструю лодку на свете, корабль о тысяче парусов, и плыть на нем тысячу дней, и вот тогда-то ты увидишь такое, что бывает раз в тысячу лет. Тебе покажется, будто солнце упало в море, потому что каждое дерево на том острове из чистого золота, и каждый листик на них из чистого золота и сияет сам по себе, так что даже в самую темную ночь остров светится, как маяк».
– Я почему-то все думал о твоем отце, – сказал монстролог мальчику. – Он как-то раз спас мне жизнь. Не думаю, что я тебе когда-либо об этом рассказывал.
Комната казалась такой пустой; я ушел туда, куда ему путь был заказан. Не имело, в сущности, никакого значения, могу я слышать его или нет – слова монстролога предназначались не мне одному.
– Аравия, зима семьдесят третьего… или, может, семьдесят четвертого; не помню. Глубокой ночью на наш лагерь напала стая хищников, злобных и чрезвычайно жестоких, – и я имею в виду представителей вида «человек разумный». Разбойники. Мы потеряли трех носильщиков и проводника – очень славного бедуина по имени Хиляль… Его мне было жаль – он очень высоко меня ставил. Даже пытался выдать за меня одну из своих дочерей – замуж или в рабство, я так и не понял точно, потому что так и не успел выучить их язык как следует. В любом случае, вот только что он говорил со мной, улыбался, смеялся – он был очень веселым человеком. Редкий кочевник бывает угрюм, Уилл Генри; и если ты поразмыслишь, ты поймешь, отчего так. И вот – в следующий миг голова его начисто слетает с плеч… Потом я сказал его вдове: «Ваш муж умер, но, по крайней мере, он умер, смеясь». Думаю, это ее хоть немного утешило. Это вторая из лучших смертей, Уилл Генри.
Какая была самая лучшая смерть, он не упомянул.
– В любом случае, твой отец спас меня. Я бы сражался до последнего, хотя бы ради того, чтобы отомстить за Хиляля, однако меня ранили в бедро, и я истекал кровью. Джеймс перекинул меня через седло своего пони и гнал всю ночь – до ближайшей деревни. А когда лошадь упала замертво, остаток пути он нес меня на плечах.
«Я хочу с тобой, папа. Возьмешь меня на Остров Блаженства?»
«Это очень, очень далеко отсюда, Уилл».
«Неважно. Мы найдем корабль о тысяче парусов и доплывем!»
«Ну, ну. Такие корабли не на каждом шагу, сынок».
«Но ты же нашел такой!»
«Да, нашел. Я такой нашел».
– Две недели я был прикован к постели – в рану попала инфекция, – то выходя из забытья, то вновь впадая в беспамятство. И все это время твой отец не отходил от меня ни на шаг. Однажды, впрочем, я увидел Хиляля у моего ложа – смутно, словно сквозь вуаль или туман, – и знал до мозга костей, что дошел до порога смерти. Я не удивился, узнав его, и нисколько не испугался. Если уж на то пошло, я был счастлив, что он пришел. Он спросил, чего я хочу. «Чего вы хотите, шейх Пеллинор Уортроп? Вам стоит лишь пожелать, и да исполнится». И из всего, что я мог бы загадать, я попросил его рассказать мне анекдот. И он рассказал. И подвох оказался в том, что я его не помню. Я до сих пор мучаюсь – это был очень смешной анекдот. Но я плохо запоминаю шутки – есть у меня такой недостаток. Моя память в этом направлении… не работает.
Он теребил узел у себя на запястье; его слабая улыбка померкла, и вдруг его охватила злоба – яростная злоба.
– Это… неприемлемо. Я такого не потерплю. Не потерплю, понял? Тебе запрещается умирать. Ты не желал смерти своих родителей и не просился ко мне в дом. Это не твой долг, и не тебе должно его платить.
«Ну, ну, полно. Не плачь. Ты еще очень юн, у тебя впереди годы и годы, чтобы найти его. А до той поры я буду твоим кораблем о тысяче парусов. Свистать всех на плечи, юнга, и уж я отвезу тебя на твой сказочный остров!»
* * *
– Я не потерплю, чтобы ты умер, – яростно сказал Уортроп. – Твой отец умер из-за меня, и еще и твоей смерти я не могу себе позволить. Долг меня раздавит. Если ты уйдешь, Уилл Генри, ты и меня за собой утянешь, – натянув веревку.
«Пап, я его вижу! Остров Блаженства! Он горит, как солнце в черной воде».
– Довольно, – закричал он. – Я запрещаю тебе оставлять меня. А теперь – шагом марш, быстро, а ну, поднимайся и кончай с этими глупостями! Я тебя спас. Так что шевелись, ты, глупый, тупой мальчишка!
Он занес руку, привязанную к моей, и с силой ударил меня по щеке.
– Шевелись, Уилл Генри! – Удар! – Шевелись, Уилл Генри! – Удар! – Шевелись, Уилл Генри! – Удар, удар, удар!
– Хочешь жить? – заорал он. – Тогда выбирай жить! Выбирай жить!
Задыхаясь, он упал назад в кресло, соединявшая нас веревка сползла вниз по его руке. Излив горесть в воплях, Уортроп высвободил запястье из узла и бросил веревку лежать на моем теле.
Силы оставили его. А вместе с ними – весь страх, вся злость, вся вина, весь стыд, вся гордость – все. Уортроп ничего не чувствовал; он был пуст. Возможно, бог ждет, чтобы мы опустели, чтобы тогда и наполнить нас собой.
Я так говорю, потому что вот что сказал монстролог:
– Пожалуйста, не оставляй меня, Уилл Генри. Я этого не переживу. Ты был почти прав. Я всегда на грани того, чтобы стать как мистер Кендалл. А ты – я не пытаюсь понять как или хотя бы почему, – но ты тянешь меня прочь от края пропасти. Ты – все… ты все, ради чего я остаюсь человеком.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































