Текст книги "К отцу своему, к жнецам"
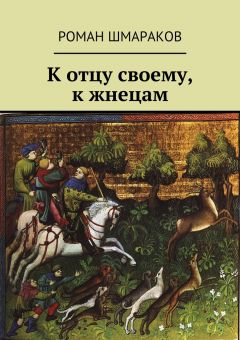
Автор книги: Роман Шмараков
Жанр: Мифы. Легенды. Эпос, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
49
15 августа
Досточтимому и боголюбезному господину Евсевию Иерониму, пресвитеру Вифлеемскому, Р., смиренный священник ***ский, – о Христе радоваться
Премудрость, создавая дом свой, ничего не оставляет на волю неразумия. Иссекает она столпов седмь, то есть водружает в нем необходимую опору всякой духовной милости, во избежание всякого греха и во умножение всякой добродетели. Каким пороком хотят поразить насадители новых мнений стены дома сего после первого освящения? Всеблагий Боже! каким грехом могла быть связана плоть Девы, Которую Ты от века избрал Себе матерью; Которую Ты освятил в материнском чреве и наполнил Духом Святым более, чем предтечу Твоего Иоанна? Небесным научением Ты Ее сладостно наставил, порфирой стыдливости и всякой премудрости духовной внутри и снаружи преславно украсил, сокровищем смирения нескудно наполнил, поставил одесную Себя в златой диадиме. С какой стороны мог войти грех в сей вертоград заключенный, в сей источник запечатленный, в сии врата затворенные? Не ради одной стыдливости наречена Она этими именами, но ради совершенного хранения святости и праведности и ради отсутствия всякого ущерба, благодаря чему пребывали Ее тело и сердце под надежной стражею, не дававшею проникнуть никакому пятну греха. Посему в Песни Она именуется прекрасною, и в похвалу Ей говорится: «Шея твоя, как башня слоновой кости». Меж Христом, Который есть глава, и Церковью, которая есть Его тело, стоит Она посредницею: через Нее мы удостоились приять Создателя жизни, через Нее сделался Христос посредником между Богом и человеками. И сколь уместно шея сия сравнивается с башнею слоновой кости! Такая шея подобает той главе, что несет всё глаголом силы своей, на чью красоту присно желают взирать ангелы. Итак, прекрасно именуется башнею слоновой кости Дева мудрейшая, Жена прекраснейшая и крепчайшая: высокая рвением, крепкая намерением, прямая помышлением, белоснежная девством, чистая чувством, ревностию непорочности ополченная, предложенная всем в пример святости, поставленная для всех убежищем милости. Ни прекраснее сего здания, ни драгоценнее нет, ради блистания слоновой кости; ни крепче, ни надежнее, ради укреплений башенных. От самого рождения поднималась Она в высоту, подобно столпу превознесенному, и ныне взошла до самых небес, дальше коих подняться невозможно. Отдалимся же от порочных и гибельных мнений, как от болот, рождающих чудовищ, и прибегнем под сень башни спасительной, ибо она стоит для каждого помощью во брани, к ней грядут все стязающиеся на поле сего века, дабы приять венец победный, венец тишины, венец чистоты.
50
16 августа
Досточтимому и боголюбезному господину Евсевию Иерониму, пресвитеру Вифлеемскому, Р., смиренный священник ***ский, – о Христе радоваться
Не ловчий меня, но я его ловил сегодня, желая дослушать его рассказ: когда они покинули Кипр, как добрались наконец до Святой земли, что было там сказано и совершено; странно мне было, что он, хранящий столь драгоценные вести, избегает меня, словно я цены не знаю его сокровищам и хочу скорее осквернить их, чем дивиться их виду. На дворе же у нас «Хаос разлился», ведь нынче впервые по своем возвращении наш господин пожелал отправиться на охоту: легко мне было в этой толчее потерять человека, словно в густой дебри, однако подстерег я его и большие усилия приложил, убеждая не откладывать дело, – он же, успевший поутру выпить вина, с редкой настойчивостью мне противился, выставляя причиной спешные сборы, но наконец, видя, что иначе ему не выбраться, уступил моим настояниям и начал такую речь:
«И вот наш господин остался на острове, как было сказано, поскольку король Англии просил его об этом; и вышло так, что стояли они в помянутой крепости Шерине, а неподалеку от нее был прекрасный густой лес. И вот один из тех рыцарей, что были там, – звали его Гильом, и он был владетелем Дарньи и других мест – говорит нашему господину: «Почему бы нам не потешиться, коли есть такой случай? Давайте-ка, пока солнце еще не очень высоко, кликнем людей, повесим на шею рог и поедем вон в тот лесок: сдается мне, тамошних кабанов давно никто не тревожил». Нашему господину не по сердцу была эта затея, но на все его доводы, что-де места им плохо известны, а греки в окрестности питают к ним вражду и ждут лишь удобного часа, тот лишь твердил, что бояться тут нечего и что греки ни на что не отважатся. Много разного было между ними сказано, но кончилось тем, что наш господин, чтобы его не обвиняли в малодушии, кликнул слуг и велел собираться. В скором времени они вскочили на коней и выехали из замка. Вот они подъехали к лесу, беседуя о разных вещах, и на краю его увидели человека, который пас свиней: это был высокий детина безобразного вида. Волосы его торчали, как иглы у ежа, ноздри были больше глаз, зубы широкие, на плечах овчина, в руках дубина, а свиньи у него – худые и щетинистые. Стоял он и смотрел на рыцарей и собак исподлобья, и облик его был не то чтобы приветливый. Гильом де Дарньи, подъехав ближе, говорит: «Помогай тебе Бог, добрый человек!» Пастух отвечает: «И вас благословит Господь, если вы немедля отсюда уберетесь». «Это почему?» – спрашивает Гильом. Тот говорит: «Вы, верно, ничего не слышали про этот лес». «Нет, – отвечает Гильом, – у нас за морем его слава еще не разошлась; поведай нам, будь добр, а мы перескажем другим». «В этом лесу, – говорит пастух, – спокон веку живет демон, которого прежде почитали, а теперь нет, и я вам скажу, что никто отсюда не уходил поздорову. Поворачивайте-ка своих коней, пока не поздно». Гильом на это: «Разве мы можем уехать, не пожелав здоровья хозяину рощи? Если узнают, что мы так себя повели, о нас подумают дурно. Скажи нам, добрый пастух, как свидеться с этим демоном, о котором ты говоришь». Пастух отвечает: «Поедете этой тропкой, никуда не сворачивая, и доберетесь до пещеры, перед которой бьют два ключа. Там вам надобно будет, если вы решили погубить свою душу, зачерпнуть из одного и вылить в другой, а дальше все сделается само». Гильом кланяется ему самым учтивым образом и проезжает мимо, а за ним все остальные. Когда они отъехали от пастуха, наш господин говорит: «Я думаю, благоразумней было бы послушаться; у этих греков что угодно может быть»; Гильом же смеется и отвечает: «По милости Божией тут покамест не заведено английских лесничих, а все остальное, что нам встретится, я уповаю затравить борзыми и проткнуть рогатиной».
И вот они входят в лес, и сперва им слышно, как пастух стучит по дубу своим посохом, чтобы осыпались желуди, а потом и этот стук затихает. Едут они по лесу, перебираясь через черные ручьи, не видя следов зверя, не слыша пения птицы, а в глубине чащобы вспыхивают какие-то огни. Наконец выехали на поляну, на которой, как им было обещано, виднелась пещера, черная и глубокая, а перед нею под корнями каштана били два ключа. Наш господин велел достать его чашу, ведь они взяли с собой всякой еды и вина, чтобы не терпеть голода, если ускачут неведомо куда и будут долго выбираться. Надо вам сказать, что это была чаша, подаренная ему королем Иерусалимским, несравненного вида, украшенная самоцветами и жемчугами: у нее на дне был выложен крест, который делается виден, только когда выпьешь чашу досуха. Так вот, он велел дать ему эту чашу и, взяв ее в руки, сказал, что негоже потчевать здешних хозяев из чего придется; с тем он зачерпнул из одного ключа и вылил в другой, как было велено. Тогда все, кто там был, начинают оглядываться и задирать головы, ища, не появится ли что-нибудь: но ничего, только ветер поднимается и клонит верхи деревьев».
Тут мой рассказчик, понурив голову, начинает бормотать, а я еле слышу, – о смятении, о стыде, о брошенной чаше на поляне: Эдип не угадал бы, что там вышло. Я приступаю к нему, как к осажденному замку, вопрошая: что там? увидели ли кого? отчего бежали? – но он, проглотив половину рассказа, чудесным образом оказывается уже подле замка Шерине, вместе со всеми прочими, насилу переводя дух, и слышит только, словно над лесом, покинутым ими,
грохочет
неба громадная дверь —
а что было до этого, никак у него не добиться: на мое удивление этот хмельной человек так сторожит свою речь, словно не Либер, но Лигер течет в его жилах. Оставив этот труд, я говорю: расскажи хотя бы, что было потом: как выбрались вы с Кипра, куда дальше отправились; а он отвечает: «Через день наш господин оставил крепость Шерине, взяв с собою всех своих людей, и поскакал прямиком в Лимезон, где нашел в порту большой корабль, только что из Палестины. Там были итальянцы, которые рассказали ему, что пилигримы наконец одолели сарацин и вошли в Акру и что при ее осаде было совершено много прекрасных подвигов и там скончались граф Тибо, сенешаль короля Франции, и граф Першский, и граф Фландрский, и многие другие славные мужи, и что король Франции оставил Акру и отплыл из нее в день св. Германа. И наш господин просил итальянцев, чтобы они взяли его вместе с его людьми на корабль, и они сделали это; и мы доплыли обратно без особенных приключений, и высадились в Генуе, а оттуда двинулись в свою землю». Так заканчивает он рассказ и с необыкновенной горячностью просит меня, чтобы я не писал об этом, если не хочу никому плохого, и что никому не на радость и не на славу все то, что он сегодня мне поведал. Тут уж я вижу, что придется его отпустить, не выпытав всего, что меня волновало: ведь что услышишь дельного, когда уже рожок трубит и собаки вьются под ногами.
51
16 августа
Досточтимому и боголюбезному господину Евсевию Иерониму, пресвитеру Вифлеемскому, Р., смиренный священник ***ский, – о Христе радоваться
Оказался я в крайней тесноте и не знаю, куда повернуться. Если скажу, что следует сказать, боюсь, окажется это обидой для тех, под чьим кровом я живу, и обвинят меня в том, чего я не хотел; если промолчу, то, по слову Иова, уста мои осудят меня. Вот, выхожу к пажитям священного Писания, иду к патриархам, поднимаюсь к вождям, спускаюсь к судьям, озираю жизнь святых царей, пророков и священников и ни единого не обретаю, кто предавался бы ловитве, по твоему слову, о блаженный муж: «О святом рыбаке я читал, о святом охотнике – нет»: если же святой Евстахий, как упоминается, был некогда охотником, так и Матфей был мытарем, и Павел гонителем. Нимрод, охотник сильный пред Господом, создал Вавилон в земле Сеннаар, где совершилось разделение языков; Исав, прилежа занятию ловитвы, лишился первородства и отеческого благословения. Если же посмотрим на изобретение и начало охотничьего искусства, откроется, что оно от истоков своих осквернено: ведь сего ремесла изобретателем был род фиванский, мерзостный отцеубийством, ненавистный кровосмешением, знаменитый обманом, славный вероломством. Не лучше и начало птичьей охоты, хоть не от срама произошедшей, но от великой скорби: ведь первым Улисс, как пишут в историях, ввел в Греции хищных птиц, обученных на ловлю, ради утешения тем, чьи отцы погибли в троянской брани, однако сам не захотел, чтобы его сын предавался этой забаве. Вспомним и замысел Париса, из которого вышло все постыдное, что только может выйти из одной мысли: и осквернение брачного одра, и поругание гостеприимства, попрание божественного закона и народного права, и десять годовых кругов Феба, видевшего у своих стен гибель стольких славных мужей: подлинно, вот пламенник малый, коим сожжен целый город! А ведь на ловитве родилась эта мысль, из глуши лесной возникла: в час, когда солнечный жар возрос и погоня за быстрой дичью его утомила, ушел он от своих товарищей в глубокую дубраву, где ему, задремавшему в тени высокого лавра, явились богини со своей распрей, явилась и Киприда, улыбкой золотою обольстила, пленила дивными рассказами, уволокла в преисподнюю. Но возразят, что многие, кого славит древность, предавались этому занятию непостыдно. Что скажем?
Хоть медноногую лань поразил, хотя эриманфской
дебри мир даровал
победитель Алкид, хотя начальник римского племени преследовал оленей, хотя Мелеагр умертвил вепря, опустошавшего Калидон, все они в этом занятии не личной забаве служили, но общей пользе. Сколько бы слов мы ни истратили, увещевая этих людей, которые скорее живут в лесу и гостят у себя дома, все покажется немного, если нам удастся отвратить их от этого дела. Не в добрый час они выходят из дому, где могли бы и жизнь, и разум, и доблесть свою охранить. Так мальчик, сын сонамитянки, вышедший на поле к отцу своему, к жнецам, пришел и сказал: «Голова моя, голова моя болит»; и вернулся к матери, и лежал на коленях ее до полудня, и умер. Так Дине, дочери Иакова, вышедшей видеть жен области той, грядет навстречу Сихем, готовый одолеть ее насилием. Ведь и они, подобно Дине, выходят из дому, дабы посмотреть на других (нет иного порока, чья власть равно простирается на мужей и жен, как тщеславие), и, мнимым стыдом ведомые, сравнивают себя с ними и стремятся не отстать от товарищей ни в яркости наряда, ни в неутомимости, ни в удали перед лесной опасностью, дабы не укорили их ничем: и часто бывает, что многие, поутру отправившись на ловлю, к полудню погибают от звериных когтей и клыков и испускают дух без покаяния, не причастившиеся жертве бескровной, но запятнанные кровавой корыстью. Лучше бы им в благовременье помянуть слово Господне, реченное через пророка: «Пошлю им ловцов многих, и уловят их от всякой горы и от всякого холма и от пещер каменных»: ибо когда совершится время, пошлет Бог ангелов своих, и уловят всякого человека от высоты веры его, и от холма деяний его, и от пещеры помыслов его, дабы все его тайное и несодеянное обнажилось на великом суде.
52
16 августа
Досточтимому и боголюбезному господину Евсевию Иерониму, пресвитеру Вифлеемскому, Р., смиренный священник ***ский, – о Христе радоваться
Представь, что по отбытии нашего господина на охоту люди, кто в чем был занят, еще обсуждали его выезд, по быстроте своего воображения оказавшись в лесу раньше него: о том говорили, долго ли будут искать кабана, станет ли тот свирепствовать или поспешит укрыться; какая из собак первою его настигнет и какая будет ранена, а какая, по неизменному своему счастью, из пылкой битвы выйдет невредимою; кто из ловчих, оказав свою доблесть, заслужит похвалу, а кто промешкает и вместо зверя добудет лишь рой насмешек от щедрых своих сотоварищей; доволен ли будет хозяин охотою и когда прикажет ее снова; все обсудили, все предугадали, за того опасаясь, за этого радуясь, и когда под их задумавшеюся рукою обычные дела останавливались или шли вкось, не себя попрекали, но строптивого кабана или боязливую борзую. Скажешь: «Откуда тебе знать? верно, и сам ты не пристойными делами занимался, но тешил себя, наблюдая за празднословящими и бродя между их химер». Да, так и было; недолго, впрочем, ибо посреди этого предосудительного занятия раздался стук в ворота, во всех, кто его слышал, остановив и воображение, и прежний страх, и радость. Не успели мы ничего подумать, как в ворота въезжает наш господин, со всеми людьми, кои час назад отправились с ним на ловлю; на лице у них смущение, нашего взгляда избегают, как бедного родственника; и собаки бредут, уткнувшись в землю. Проходят длинной чередою внутрь и скрываются, мы же стоим и глядим в изумлении. Не знаю, от кого от вернувшихся дошла весть, что господин вдруг приказал поворачивать домой, когда лес уже был перед ними, и сурово прикрикнул на тех, кто пытался его уговорить. Тут бы среди опомнившейся толпы вмиг закипели новые мнения и пересуды,
если бы розовый Феб коней изнуренных в иберской
заверти не погрузил,
заставив всех отложить споры и разойтись по своим жилищам до утра.
53
16 августа
Досточтимому и боголюбезному господину Евсевию Иерониму, пресвитеру Вифлеемскому, Р., смиренный священник ***ский, – о Христе радоваться
Вернется к нам заря со своего шафранного ложа, и каждый поднимется с объяснением, отчего наш господин, переменив намерения, повернул прочь от леса, к которому так стремился. Конюх увидит причину в конях, кузнец – в подковах, старушка, полная египетскими суевериями, – в зайце, перескочившем дорогу, и много всякой пустоши будет сказано и перетолковано между теми, кому досуг слушать. Не только со сновидениями так бывает, что в них возвращаются к нам дневные думы и желания, но в дело, кажущееся удивительным, каждый вмешивает свои заботы, «все возвращаясь душою», как говорит поэт, «к своим дубравам и логовищам». Доведись нашему господину услышать о своих помыслах от тех, кто в них столь глубоко проник, не узнал бы он себя; и кто спросит его самого? Есть в нашем колесе бедствий такие, о которых вспоминать не хочется и по прошествии долгого времени: тот, кто вышел из рук палача, снеся телесные терзания, кто познал утрату близких или подвергся отлучению, не захотят вести речь об этом: лишь наказанные небом могут терзать свою утробу, люди же в здравом разуме такого не сделают, потому в беседе с ними следует остерегаться этих предметов, чтобы собеседника не опечалить и не оказать своей неучтивости. И ловчий, с которым я разговаривал, когда приходилось ему рассказывать о пройденных морях и землях, с их островами и заливами, или же о подвигах, совершенных на войне если не им, то его господином (что избавляло его самого от упрека в бахвальстве), или о спасении в бурю, или о других делах, в коих явною делалась помощь Бога, не знал запинки в рассказе, так что я не столько пришпоривал его, сколько за ним несся. Когда же вслед за его повестью мы вышли из замка на охоту, я думал: вот, он опишет обход дубравы, окружение логовищ, помянет эхо, которое великие обманы творит, смешивая человеческий голос со звериным и принося звуки с неверной стороны, изобразит и самый исход ловитвы и добычу прилежно исчислит – я же буду «с весельем вопрошать обо всем» и с ним вместе испытаю эту отраду. Кто мог думать, что все уловки он истощит, лишь бы не возвращаться в этот лес? Была, говорят, некая страна, жители которой, принимая себе царя и оказывая ему всяческое почтение и покорность, по истечении года отправляли его в ссылку на далекий остров и ставили себе другого. Нашелся, однако, в череде их владык такой, кто знал о своей участи заранее: своим знанием он распорядился наилучшим образом, опустошая царскую сокровищницу и дворец и с верными людьми отправляя золото, серебро и разную утварь на остров, где ему предстояло кончить дни. Когда же свершился годовой круг, человек этот с радостью принял свое изгнание и на пустынном острове, где не обитало ничего, кроме уныния, стал более владыкой, чем был им на троне, ибо вверенное ему на время сделал своим навсегда, избавив царскую пышность от омрачающих ее забот и страхов. Не то же ли, что премудрый сын века сего, должен всякий человек делать со своей жизнью? Из трех времен, на которые она делится, настоящее кратко, будущее сомнительно и лишь прошедшее определенно: ни Фортуна, ни кто другой над ним уже не властвует. Тот, кто разумно готовится к старости, наполняет ее воспоминаниями о достойных делах, дабы беспрепятственно ходить мыслью в любой край своей жизни, не боясь встретить ни чудовищ, ни свирепостей, ни постыдных и безотрадных сцен. Водворившись напоследок в краю, которого страшится человек порочный,
будто в гиарских скалах заключен иль на малом Серифе,
благословляет он новое пристанище, ибо озаботился окружить себя богатством, свободным от вторжений случая. Человек же, который немощи свои держит перед глазами, вспоминает вины свои, без которых никто этой жизни не проходит, и со тщанием наблюдает, сколько постыдного в его делах, сколько недостойного в устах, сколько нечистого бывает в помышлении, видит, сколь многое он должен отсечь, если хочет по справедливости хвалиться. Тогда и прошлое будет для него уже не густой лабиринт и не труд внутри, но утешение и непостыдная надежда внутри.
54
18 августа
Досточтимому и боголюбезному господину Евсевию Иерониму, пресвитеру Вифлеемскому, Р., смиренный священник ***ский, – о Христе радоваться
Человек, чьи рассказы о заморском странствии я тебе долго передавал, нынче поутру найден мертвым. Есть у нас садик, разбитый подле северной стены. Наша госпожа любит его, и о нем пекутся весьма прилежно. Там злаки растут, годные и на кухню, и на врачевание всяких недугов, там и деревья разного рода, радующие своим цветением, услаждающие плодами, дающие любезную тень в жару и пристанище птицам, платящим песнями за гостеприимство; близ этого сада калитка, давно в небрежении и почти заросшая; за нею-то, вне стен, и нашли его, заметив приоткрытую дверь, – нашли и поспешили эту скорбь отнести нашему господину. Тотчас закипели толки, для какой причины он вышел туда, где его обнаружили, и почему умер, быв ввечеру здоровым; говорят: «Горе посетило наш дом; лишь бы не было оно вестником будущих!»; вспоминают и лицо умершего, словно бы полное ужасом, и много о том толкуют; подумаешь, молва неразлучно со смертью ходит, угрюмый ее промысел делая еще ненавистней своею болтливостью. Поразительно это: отходит человек в дом вечности своей, и окружают его на площади не плачущие, но злословящие и присно готовые душу, недалеко ушедшую, отягчить клеветою. Выдавая свои догадки за нечто важное, они находят себе собеседников, готовых пустое мнение почтить за истину, как Саул – призрак Самуила, лишь бы им самим взамен позволилось выпустить на свет несколько призраков того же рода: подлинно, в их разговорах ламия почиет, до того они полны всякими чудовищами, как город, поросший тернием и крапивой. Нашлись и безумные, приписавшие эту смерть его собственной руке: мало им скорби, что человека верного и богобоязненного, кого и море пощадило, и языческая земля не пожрала, кому достался счастливый в отчизну возврат, среди мира и безопасности постигла пагуба, – нет, пресна их вкусу всякая скорбь, если не примешать к ней бесчестье. «Без меры удручало его, – говорят, – охлаждение нашего господина к охоте; одним ударом решился он и с горестями своими покончить, и владыке нанести неотплатную обиду». И такой навет обращают на человека, коему вся жизнь была училищем стойкости; на человека, на чьем теле оказалось множество старых ран и ни одной свежей; на человека, которого божественный закон научил, что ни смерти, приходящей по природе, страшиться не должно, ни понукать ее против природного порядка! Но есть ли злоречию законы, и обещало ли безумие ходить общим путем, не уклоняясь ни направо, ни налево? Ведь те, кто хвалит самоубийство, находя в нем некое величие духа, безумствуют с тем мудрецом, который, говорят, прочетши Платонову книгу о бессмертии души, низринулся со стены в море, полагая переселиться из сей жизни в ту, которую мнил лучшею, и о том не подумав, что сам его учитель не только не поощрял таких разделок с жизнию, но почитал их негодными и всячески осуждал. Чем еще защитят они свое безрассудство? Скажут с пророком: «Возьмите меня и бросьте в море, и утихнет море для вас»: но нет, не утихнет от них бурное море, но лишь хуже сделается.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































