Текст книги "К отцу своему, к жнецам"
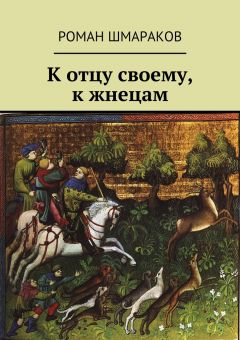
Автор книги: Роман Шмараков
Жанр: Мифы. Легенды. Эпос, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
61
21 августа
Досточтимому и боголюбезному господину Евсевию Иерониму, пресвитеру Вифлеемскому, Р., смиренный священник ***ский, – о Христе радоваться
Вечером, когда спала жара, было большое пиршество в нашей башне, не столько отрадное обилием блюд и искусством повара, сколько рассказами нашего гостя о том, что он видел, что слышал и чему немалою частью был в Святой земле, – для нас же свидетелями и ручателями его странствий и трудов были его лицо, загорелое под иным солнцем, и левая рука, накрепко замотанная плотною тканью. О многом он рассказал, отплачиваясь за гостеприимство монетою памяти, поскольку наш господин допытывался знать все, что было совершено франками во имя правой веры, а среди прочего такую историю.
Когда Филипп, король Франции, высадившись на палестинском берегу, приступил к осаде Акры и уже провел там некоторое время, подавая христианам надежду на благополучное завершение дела, а осажденных погрузив в глубокую скорбь, пришли к нему известия, что большое войско сарацин собирается подле Торона с намерением разбить пилигримов и избавить город от его тягостей. Без промедления король собрал людей наиболее опытных, чтобы рассудить о наилучшем способе действий, ибо ему хотелось взять Акру как можно быстрее. Все сошлись на том, что не следует дожидаться нападения, но, отделив часть войска, отрядить навстречу врагу, однако когда король предложил двинуться в сторону Торона кратчайшей дорогой, то встретил нежданное противодействие в одном пожилом рыцаре, приглашенном на совет из-за его долгого жительства в этих краях и несравненной опытности, приобретенной в походах. Этот человек указывал, что на предложенном пути войску придется пройти тесной лощиной, в то время как следить за приближением неприятеля в тех местах трудно, и если враг подоспеет и запрет войску франков выходы, то оно не сможет бежать ни туда ни сюда и окажется в такой плачевной тесноте, из которой уже не выйдет; потому он настоятельно советовал переменить замысел и для столь важного дела выбрать дорогу, не сулящую подобных опасностей. Король, однако, рассчитывая на свою удачу и на быстроту войска, пренебрег этим увещанием и наказал войску идти, как он сам счел разумным; и вышло так, что франки, благополучно миновав эту лощину, встретили врага в удобном для них месте, не выславшего дозорных и не знавшего об опасном приближении, и разбили его наголову, не оставив и вестника. Хотя король, скоро известившийся о благоприятном исходе дела, мог с легкой душой благодарить Богу за избавление от большой угрозы, он не переставал досадовать на рыцаря, вспоминая, как тот ему перечил на глазах у баронов и с какой заносчивой пылкостью оспоривал его предположения; и чтобы избавиться от досады, которая томила ему сердце, он решился сыграть с рыцарем шутку и ради этого велел одному из своих приближенных назавтра вызвать его в стан и занимать как можно дольше, предлагая его суду тайные замыслы вождей.
Этот человек с той самой поры, как Иерусалим был захвачен сарацинами, поклялся не заводить постоянного жилья и не прилепляться сердцем ни к одному обиталищу, пока его нога не ступит в ворота святого города, и вот уже четыре года не задерживался надолго под одним кровом, но скитался с места на место со своим скарбом и слугами; а поскольку его часто отправляли с разными посольствами то к одному князю, то к другому, ценя его благоразумие и красноречие, в ту пору он обитал в нескольких часах пути от лагеря пилигримов, на одном постоялом дворе, откуда его и призвал явившийся рано поутру нарочный с просьбою поспешить, ибо его присутствие надобно для улаживания важных военных предприятий. Лишь только рыцарь, быстро собравшись, сел на коня и покинул ворота гостиницы, за его спиною большой отряд выступил из укрытия и обомкнул постоялый двор. Его хозяину, с ужасом наблюдавшему приблизившееся блистание доспехов и звон металла, было сказано, чтобы он ничего не боялся, ибо к нему пришли не язычники, а вместе с тем изложено непререкаемое приказание, которое он слушал с безмолвным изумлением, между тем как несколько человек, вышедших из воинского ряда, обмеряли ворота, двор и каждое сооружение, как извне, так и изнутри, помечая каждое бревно и из каждой клети выводя на свет испуганных слуг, скотину и постояльцев. Когда же не осталось ни порога, ни окна, которые не были бы сосчитаны и измерены, по знаку, поданному начальником отряда, воины приступили отовсюду с железом, и пока старый рыцарь, почтительно принятый в просторном шатре, находил и разрешал важные затруднения в военных замыслах, придуманных для него королевскими советниками, весь постоялый двор был раскатан на бревна, взвален на несчетные повозки и увезен на час пути от места, где теперь только свивалась пыль и сор недавнего жилья. Хозяин, боявшийся сказать слово, послушно потянулся со своими домочадцами вослед телегам, увозившим разъятые останки его промысла. На опустелое место явился новый отряд, привезший за собою многочисленные деревья, молодые и взрослые, выкопанные с корнями в окрестных рощах, и, насадив их прямо среди дороги, ведшей к постоялому двору, поспешил удалиться, затем что солнце уже клонилось.
Тем временем рыцарь, наконец отпущенный из королевского стана, ехал знакомой дорогой, в раздумье, отдав коню бразды, и опамятовался, только заметив, что неизвестно когда сбился с пути и заехал в какую-то тень. С досадою он поворотил назад, но лес лишь становился гуще, и, несколько раз проехав мимо бывшего места гостиничных ворот, ныне скрытого кустарником, в котором угнездились змеи, рыцарь понял, что не может избавиться от внезапно обступившей его чащобы. Поначалу старавшийся не поднимать шума из опасения, как бы поблизости не оказались забредшие в этой край, вдали от своих шатров, беспокойные сарацины, он, не слыша ни звука людской речи и не наблюдая ни проблеска света, как ни напрягал глаз и ухо, повсюду встречал лишь безмолвие, повременно нарушаемое воем совы, и хоть его никогда не могли укорить в малодушии, но эти места нагоняли на него страх больший, чем когда он скакал по бранному полю, а кровь пятнала его по самые удила; и наконец, уверившись в своем бедствии, он разрешил долгое молчание такою речью:
«Хоть не так думал я умереть, но вся наша слава падет и погибнет, как трава, и только безумный будет противиться этому; и если по воле Божией постигла меня пустыня, откуда я не могу выбраться, то значит, так и должно быть по моим грехам: приму я это из той же руки, из которой прежде принимал доброе. Вы же, заступившие мне дорогу, – обратился он к деревьям и кустам, – окажите милость, чтобы я не сгинул тут, как камень в воде: в час, когда будет пробираться этой чащобой какой-нибудь добрый христианин, прошу, не укрывайте мое тело, но расступитесь и дайте его заметить, чтобы меня предали честному погребению». С этими словами, озираясь среди тех, к кому были устремлены его плачевные речи, он вдруг приметил отдаленный огонь, мерцавший между тисами, и, ободренный надеждою найти хижину угольщика или иное жилье, где можно просить ночлега, он оставил себя погребать и без промедления двинулся в ту сторону, ведя коня в поводу. Хотя ему пришлось искать брода через речку, однако рыцарь боялся на миг отвести взгляд от огня, как бы тот не пропал, и в скором времени вышел к воротам постоялого двора, выглядевшего в точности как тот, которого рыцарь тщетно искал среди дубровы. Ворота по позднему часу оказались заперты, но рыцарь ударил в них, громко вопрошая, неужели он пес или идолопоклонник, что должен ночевать под дверью, и ему поспешили отворить. С недоверием глядел он на дом, во всем подобный тому, что прежде, разве что чисто выметенный, будто здесь ждали жениха, на слуг, точно таких же, как были, и на хозяина, который, загодя наставленный строгими внушениями, держался перед рыцарем как ни в чем не бывало: встретил его со свечою, провел в дом и сам подал жаркое: но когда рыцарь принялся за баранину, сырую с одного бока и обугленную с другого, то уверился, что он точно там, где был всегда, и начал браниться, почему человека, с почестью принимаемого в королевских шатрах, потчуют таким образом, – и, разгоряченный собственным красноречием, поднял такой шум, что если бы неподалеку от постоялого двора были еще какие-нибудь жилища, их обитатели подумали бы, что сарацины нечаянным нападением постигли их землю, и, перебудив детей, подняли бы жалостный вопль к небу, дабы оно избавило их от этого бедствия.
Так закончил гость, а наш господин, дослушав его рассказ, восхвалял прямоту, с какою рыцарь говорил перед государем, и сильно осуждал дурные обычаи, из-за которых благородный человек пожалеет о своей откровенности и наперед решится лучше смолчать, чем стать кому-нибудь потехой: «Не будет никакого хорошего дела, – прибавил он, – если его не предваряет добрый совет, ведь с его помощью можно предвидеть, как сложатся обстоятельства, когда же всё сбудется, увидеть это нетрудно и глупцу. Люди разумные, прежде чем начать что-нибудь важное, рассуждают надвое, что тут может получиться доброго и что дурного, чтобы потом не говорить: „Кто бы мог подумать, что так выйдет!“, ибо великий стыд в таких восклицаниях. Кто желает государю истинного блага, всеми силами должен оспоривать его уверенность в том, что всего можно добиться одной удачей, и безбоязненно стоять на своем, если он человек, а не ветряная мельница, ни в чем не уподобляясь тем, кто приносит королю лесть вместо совета, ибо они хотят лишь себе милости, а не всем успеха». Так говорил он, а гость одобрял его мнения, подкрепляя их разными примерами. Я же думаю, что если отрока, поразившего Саула по его настоянию, не пощадил Давид, если пророк побуждал евреев молиться за вавилонян, сколь почетнее служить доброму государю в делах, касающихся до всего христианства. С древности считалось желанным обрести милость в очах владыки, ведь, по языческому свидетельству, «знатным людям прийтись по душе – немалая слава»; я же скажу, что великое дело – быть при короле, помогая ему во всем, что потребно, и не раздражать его непомерным упрямством, ибо его гнев на многих изливается, ты же будешь этому виною.
62
23 августа
Досточтимому и боголюбезному господину Евсевию Иерониму, пресвитеру Вифлеемскому, Р., смиренный священник ***ский, – о Христе радоваться
Не славных и благородных мужей, но род худой и презренный, не любовь мира, но язву его избрал Бог, чтобы посрамить и рассыпать мои упования. Снова пришли гистрионы в наш дом, привлеченные слухами о счастливом возвращении нашего господина с большою добычей, в ожидании, что тот, кто недавно гремел перунами мужества, прольется ливнем щедрот. Не обманулись их надежды. По случайности проходил я мимо них, занятых своей беседой, и расслышал, как один из них восхваляет нашего господина (этой похвале можно верить, ведь она ему выгод не сулила, вдали от господских ушей сказанная) и такими словами заключает свою речь: «Это не то, что в Дарньи, где так натерпелись мы с вами, товарищи, от скаредности хозяина и суровости его людей, которые, хоть и крещеные души, а были для нас хуже сарацин». Тут я, приостанавливаясь: «Погоди-ка, – говорю, – вы бывали в Дарньи? Скажи, как поживает тамошний владелец?» «Поздорову, – говорит, – а был бы еще лучше, если бы дорожил своим именем больше, чем деньгами». Тогда я спрашиваю: «Не думаете ли пойти туда снова? Может, судьба переменится и откроет для вас затворенные сундуки: одна песня не полюбилась – полюбится другая». А тот, глядя на меня исподлобья: «В тот час, отец, сможешь сказать, что скитания меж людьми ничему нас не научили, когда увидишь, как мы по доброй воле лезем в это логово: ведь мессир Жан – как копна крапивы: с какого боку ни мостись – отдохнуть не пристроишься». Одним лишь словом он остановил мою затею (я ведь уже представлял, какое письмо сочиню для повелителя Дарньи, какие доводы приберу и фигуры, чтобы он взялся помочь нашему господину и быть его поборником пред графом Ги): «Почему, – говорю, – ты зовешь его Жаном? Я знаю, тамошнего владельца зовут Гильомом». Тогда он: «Долго же до вас идут вести! Не сетовали бы мы нынче на то, как нас потчевали в тех краях, будь мессир Гильом еще жив. Но он, из-за моря воротившись счастливо, такую кончину нашел дома, что никому не пожелаешь». Тут уже стал я его просить рассказать мне, что случилось с этим человеком; тогда он, видя мое нетерпение и тревогу, приосанился – видно, что не впервые ему рассказывать эту историю, и может, он уже в стихи ее переложил, – и начал:
«Бывает так, что случай ведет человека к гибели, а бывает, что и сам человек на нее напрашивается, а что из этого хуже, нелегко сказать; мы же расскажем вам, как это вышло с мессиром Гильмом, благородным владетелем Дарньи. С той поры, как мессир Гильом воротился домой от греков, в чьих краях совершил много славных подвигов, он зажил, как прежде, принимая у себя гостей и сам навещая многих, выказывая христианскую ревность и часто бывая в монастыре, коему сделал много богатых дарений; но против былых своих обычаев он никогда не ездил на охоту и не обнаруживал такого намерения. Его люди думали, что он устал на море и желает покоя для своего тела; но когда увидели, что время идет, а мессир Гильом не хочет и вспоминать о своем прекрасном лесе, с его чащобами, речками и несметными зверями, приуныли и стали толковать между собою, отчего это с ним вышло, что он охладел к тому, к чему прежде стремился сильней всего, и как это можно поправить. Молву невозможно удержать, и если она в одном углу дома, то вечером будет и в другом; и когда мессир Гильом проведал, что люди о нем говорят, то собрал их перед собою и клятвенно обещал, что первый, кто перед ним проговорится об охоте, горько об этом пожалеет, и велел убрать с глаз все, что о ней напоминало. Все было сделано, как он велел, и люди накрепко заперли своим вздохи у себя в сердце, боясь не только словом, но и самым видом показать ему, о чем они думают. И вот однажды мессиру Гильому пришло на ум посмотреть на его любимого сокола; и когда он подошел, то сокол, сидевший на жерди, начал метаться туда и сюда в великом беспокойстве, а мессир Гильом, стоя перед ним, напоминал, сколько раз они с ним ездили на охоту, и укорял его, говоря, что даже женщины его не забывали так быстро; наконец он оставил сокола и ушел, велев слугам следить за ним прилежно. А через неделю он вышел на замковый двор, где дети играли, изображая охоту; и мессир Гильом сперва смотрел на них, как они кружат и налетают друг на друга, а потом возвысил голос и обратился к тому мальчику, который был кабаном, советуя ему, как следует отбиваться, и волею Божией и советами мессира Гильома этот кабан разметал всех собак, наседавших на него, и ушел в камыши, а мессир Гильом при виде этого воскликнул: „Прекрасно, клянусь моим спасением“ и был весел до самого вечера. Такими вот забавами пробавлялись у них в замке, и мы вам неложно скажем, что многим хотелось, чтобы все было иначе. А еще через неделю вышло так, что двое поселян сказали друг другу: „Что этому лесу стоять, как вдова, покамест мессир Гильом сидит безвылазно за своими стенами; пойдем-ка мы туда и, Бог даст, вернемся с какой-никакой добычей“; и они сделали, как сказано, и уж не знаю как, но выследили доброго оленя и подстрелили его. И пока они стояли над ним, изумляясь своему подвигу, на них самих налетели лесничие и потащили в замок, где им предстояло быть наказанными самым горьким образом; и оленя, конечно, они не бросили там, но доставили его на замковый двор, думая, что порадуют мессира Гильома, если ему будет хорошее жаркое. А он вышел поглядеть, что за шум, и когда увидел этого оленя, лежащего посреди двора, то воскликнул: „Будь я проклят навеки, если стану подбирать за этими мужиками“. Сказав это, он велел трубить в рог и собираться немедля, хотя дело шло уже к вечеру. Несказанной радостью наполнились сердца людей, думавших, что они до самой смерти этого уже не услышат: никто никогда не поднимался с места так споро, как они. И вот мессир Гильом выехал со двора, подобный прекрасному Мелеагру, когда тот скакал в Калидонский лес, а те, кто остался, говорили друг другу: „Благодарение Богу, теперь все пойдет по-прежнему“. А когда они среди своего веселья заслышали стук в ворота, то весьма удивились, пред воротами же были люди, ушедшие с мессиром Гильомом, в великой тревоге и беспорядке; впущенные, они ничего не могли рассказать, но только плакали и стонали, как женщины, а собаки попрятались, где было можно. И поскольку никто не мог унять это волнение, но каждый делал, что приходило ему на ум, то одни потом утверждали, будто им послышалось, что на закате солнца где-то вдали затворилась огромная дверь, а другие отрицали, что было что-то подобное. И эти люди, впущенные в ворота, занесли с собой в замок такой страх, что никто из бывших там не вызвался идти искать мессира Гильома, хотя священник стыдил их, и чем рассудительнее были люди, тем большую строптивость они выказывали перед увещаньями. А когда Аврора поднялась, чтобы подать им новое мужество, все в замке, сколько там ни было крепких людей, встали и пошли в лес. Вступив в его гущу с опаской, они перебрели через ручей и довольно скоро нашли на поляне мессира Гильома, хотя предпочли бы век не видеть его, чем видеть таким: ибо он был мертв, и на теле его не было невредимого места, а лицо было такое, словно Господь только что осудил его на Страшном суде. И тот ловчий, что один из всех остался при нем, стоял подле большого дуба, прислонившись к нему спиною, и отмахивался от чего-то, хотя перед ним ничего не было: к нему подошли, заговорили с ним ласково, называя по имени, и мало-помалу смогли утихомирить и увести домой, но он умер, не прошло и недели, и не смог даже исповедаться, как положено. Священник же в ожидании их прихода молился в капелле, призывая милость Божью на всех, кто был в том лесу, а когда люди вернулись, вышел к ним и увидел, что мессира Гильома нет с ними, ни живого, ни мертвого; и люди рассказали священнику все, что видели, и сказали, что погребли мессира Гильома там же, в лесу, потому что не могли смотреть на его лицо, и что пусть он наложит на них любое покаяние, какое ему угодно, но они сделали, что сделали, и уже не сделают иначе. Когда же дело разгласилось, в замок приехал мессир Жан, брат его отца, и взял все под свою руку. От его скупого и строгого нрава многие с печалью вспоминают, как был щедр и милостив мессир Гильом, однако он до сих пор лежит там, в лесу, потому что никто не осмелится пойти забрать его тело».
Так закончил он свой рассказ, я же просил его не рассказывать об этом нашему господину. Не знаю, надо ли было денег ему дать или грозить священною властью, врученной моему сану, ибо мне казалось, что неохотно дает он мне обещание молчать, волнуемый скорее тщеславием, нежели иными побуждениями, – ведь эту историю он рассказал хорошо, а другой мог сделать это хуже.
63
25 августа
Господину Фирмиану Лактанцию, досточтимому магистру Никомидийскому, Р., смиренный священник ***ский, – венец вечной славы
Поскольку многие, о боголюбезный муж, осмеливаются выходить бойцами на арену, где не без славы состязались Донат, Евклид, Аристотель и другие, и громогласно восхваляют наше время, благословленное расцветом всех наук, заблагорассудилось и мне по мере способности, отпущенной небом, и масла, потраченного в ночных занятиях, сказать кое-что на почесть ораторскому искусству, описав его свойства, части и орудия в книжице, отмеченной не столько пространностью, сколько прилежанием и любовью к предмету.
Тем, кто пренебрегает красноречием, как школьной гремушкой, мы скажем, что внушениями этого искусства были некогда отделены общественные дела от частных, священное от мирского, города воздвигнуты, дан устав супружеству, люди научены кротости, причастной божественному. Не согласимся и с Сенекой, когда он говорит: «Речь, которая печется об истине, должна быть безыскусной и простой» и паче всего хвалит такую речь, которая все время оглядывается, словно забыла что-нибудь на дороге: неужели и от врача он требует того же – пользоваться первым орудием, какое придется по невежеству или безрассудству, ибо он-де не о чем другом печется, как о человеческом здоровье? – «Почему ты вспомнил о лечении?» – Да разве это не первое сравнение, когда говоришь о красноречии, и не лучшее из всех? И всеми добродетелями, и всеми недугами, как мы видим, заимствуется речь у нашей жизни, делаясь верным оттиском и нрава нашего, и пристрастий, и привычек. Рассказывает тот же Сенека, что некий человек, избавленный богатством от нужды в разуме, устраивал по себе тризну со всеми погребальными яствами, какие полагаются, а напоследок заставлял себя выносить с этой удивительной трапезы, в пышном убранстве, под горький плач и похвалы его доблестям, – и не удовольствовался один раз покинуть этот мир, но ежедневно прощался с ним и с собою подобным образом. Мало ли мы слышали речей, в которых оратор не что иное делал, как себя самого выносил, принаряженного и поданного с величайшим тщанием? В пороках речи, как и во всем остальном, каждый выбирает то, к чему у него больше склонности, и добивается в своем ремесле несравненных успехов, от коих немеют Камены: одни гонятся за краткостью и достигают темноты, в которой сами теряют дорогу и уповают на прохожего; другие, облюбовав себе смелость образов и необычность их сочетания, надсаживаются, взваливая тюленя на дуб; иные, стремясь к высокому, впадают в такую напыщенность, что без помощи всего Олимпа не могут кусок хлеба съесть; тем мила речь обрывистая и неотделанная, этим – такая, что от песни ее не отличишь, и, словом, «если остался где дом», способный противиться общему злу, то не в почтении он пребывает, но скорее в пренебрежении и заброшенности. Что же сказать о людях, которые, давая в речах волю воображению, пораженному страхом, охваченному досадой, разливающемуся в радости и, коротко сказать, покорному всем осаждающим его двери чувствам, несутся, словно Фаэтон, по неторным тропам, заставляя слушателей с трепетом ожидать горестного падения? Чем же, скажи, лечится испорченное красноречие – не говорю об изъянах души, кои в нем выплескиваются, – как не другим красноречием, способным отличать уместное от чрезмерного, дозволенное от осуждаемого, пристойную красоту от безрассудной роскоши, благоразумное подражание лучшим авторам – от дерзкой склонности выставлять их сотоварищами своих прегрешений? Неужели нельзя нашему витийству выйти на луг за вешними цветами, чтобы не потерять непорочной простоты и важности? «Смотри, как бы тебе, выступающему столь заносчиво, не оказаться еще смешнее тех, на кого ты нападаешь». Начну, как смогу: если не преуспею, по крайности научу других, где можно оступиться на этой дороге. Если же скажут мне: «В чужих садах сорвано то, что ты нам приносишь», я отвечу, что лучше заимствоваться чужим, храня уважение к его владельцу, нежели по собственной воле блуждать в диких лесах, среди бесплодных дерев.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































