Текст книги "К отцу своему, к жнецам"
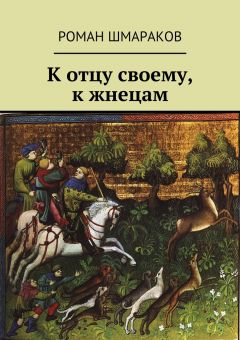
Автор книги: Роман Шмараков
Жанр: Мифы. Легенды. Эпос, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
64
27 августа
Господину Фирмиану Лактанцию, досточтимому магистру Никомидийскому, Р., смиренный священник ***ский, – венец вечной славы
Словно головки мака вместо человеческих голов – если позволительно такое сравнение – приношу я свои рассуждения на жертву твоей взыскательности: надеюсь, однако, что не усыпят они тебя совсем, но удостоятся милостивой оценки – не по своим достоинствам, но по твоей снисходительности.
Восклицание, по-гречески называемое апострофой, посвятившие себя красноречию Форума определяли как речь, не к судьям обращенную, но поражающую противника, содержащую некий призыв или мольбу; уместно вставленная, она дивно волнует слушателей и потому применяется во вступлении, когда надо привлечь внимание, или в повествовании, чтобы избежать однообразия. Поскольку, однако, эта фигура в ходу не у одних ораторов, но также и у поэтов, мы понимаем под нею выражение скорби, негодования или иного чувства через обращение к отсутствующему или умершему человеку, или городу, или месту, или какой-либо вещи. Первое – у Марона в «Георгиках», где говорится: «и тебя, величайший Цезарь»; второе – у Туллия: «Вероломные Фрегеллы, как быстро зачахли вы из-за своего преступления»; третье – у Лукана: «О если б, Фарсалия, нивам было довольно твоим той крови»; последнее – у Туллия, взывающего к Семпрониевым законам, или у Марона, порицающего жажду золота. Заметь, как уместно вплетено восклицание в рассказ об Энеевом щите, когда говорится: «тебе держать бы слово, альбанец». Соединяя апострофу с парентезой и давая место как бы судебной речи, поэт придает разнообразие своему рассказу.
Восклицание обнаруживается в поэтических книгах, стоит их лишь немного перелистать. Так, Синон, готовый погубить город троянцев, призывает его соблюсти свои обещанья, сплетая это восклицание с мольбою к богам, чтобы обману придать сияние святости; и Эней, останавливая рассказ о пагубном коне на самом пороге города, восклицает:
О Илион, обитель богов, о славная в бранях
крепь Дарданидов! —
то ли желая предостеречь отчизну, то ли прощаясь с ее падшею славой. Впрочем, о том, с каким искусством Марон умеет вызвать в читателе сострадание, довольно сказано другими авторами.
Тем же пользуется Овидий, представляя спор об оружии Ахилла. У него Аякс среди прочих преступлений Улисса, подлинных или мнимых, упоминает брошенного Филоктета, говоря: «и тебя, Пеантова отрасль» и т.д.; и хотя он выводится у поэтов как человек простодушный и не умеющий сладить со своей вспыльчивостью, однако умеренно прибегает к этому средству, зная, что можно внушить слушателям негодование, только если восклицанием пользоваться нечасто и лишь там, где того требует важность предмета. А что он использовал сильное оружие, свидетельствует ответная речь Улисса, который не захотел отнестись к этому с пренебрежением, как к чему-то не стоящему внимания, – нет, он поворачивает ее себе на пользу, из обвинений Аякса делая похвалу своей предприимчивости: ведь он сперва обращается к Филоктету, противопоставляя его гнев своему дружелюбию, а потом обещает вернуть его вместе с его стрелами, ставя это предприятие, еще не свершенное, в ряд со своими прежними подвигами. Так они, едва кончив одну битву, принимаются за другую, сталкивая честолюбье с честолюбьем и к прежним скорбям прилагая новые, едва ли не горшие.
65
28 августа
Досточтимому и боголюбезному господину Евсевию Иерониму, пресвитеру Вифлеемскому, Р., смиренный священник ***ский, – о Христе радоваться
Вчера был у нас, по уже установившемуся обыкновению, большой пир, за которым гость спросил у нашего господина, отчего бы не приказать, чтобы каждый раз подавали им к трапезе новые кубки и блюда из его утвари, – так-де пройдет перед их глазами вся честь, которую тот стяжал в делах заморского креста, и воскреснут все его деяния; нашему господину пришлось это по нраву, и потому речь зашла о добыче, приобретаемой воинскими доблестями, и о том, какие приключения с ними бывают связаны. Гость наш сказал, что многим достаются такие вещи, от которых стоило бы держаться подальше, если бы люди обладали прозорливостью, и которые не почести приносят своему владельцу, но до самого края гибели его доводят, так что редким счастьем кажется избавление от этих даров. В подтверждение рассказал он историю, бывшую в Святой земле, которую я приведу, как услышал.
В ту пору, когда Ги, король Иерусалимский, пребывал в Триполи, собирая там людей, дабы вернуть свои земли, одна крепость, расположенная невдалеке от Сидона, претерпевала сильную осаду от сарацин. В числе ее защитников был один юноша, по имени Рене, хорошего рода и весьма отважный и стойкий в бою. Ему было ведомо, что в стене есть потайная калитка на ту сторону, за которой сарацины смотрели меньше, и вот однажды ночью он, никому не сказав и не взяв никого с собою, вышел из замка с намерением поджечь одну из больших башен, с помощью которых враги приступались к стенам, или совершить еще что-нибудь, могущее послужить его славе и украсить его имя. Для этих подвигов он выбрал безлунную ночь, надеясь на свою удачу и остроту глаз, однако хотя он без затруднений подобрался к сарацинскому стану с его дремавшими сторожами и тлеющими кострами, на самом его краю столкнулся с человеком, который в этот поздний час бодрствовал, чистя своего коня. Заметив Рене, сарацин молча схватил саблю и бросился на него, едва успевшего отразить удар; в начавшейся схватке обнаружилось превосходство Рене, который, действуя быстро, но рассудительно, всеми силами стремился одолеть врага, прежде чем тот отчается в собственных силах и призовет на помощь спящих товарищей. Наконец один счастливый удар решил дело: сарацин со стоном повалился на землю, Рене же, замечая, что произведенный ими шум пробудил лагерь и что там и сям звучат сонные оклики и поднимается движение, был вынужден с великой досадой отложить свое предприятие и вернуться в крепость, прежде чем обратный путь для него будет отрезан. Недолго думая он вскочил на спину сарацинскому коню, под чьими копытами простерлось мертвое тело его хозяина, и, уже не заботясь о скрытности, поскакал к спасительным стенам, провожаемый воплями ненависти и наудачу пущенными стрелами. Каким-то образом он сумел провести коня тем тесным ходом, которым пробирался сам, и наконец оказался в безопасности за стенами замка, приветствуя соратников и шутя вместе с ними над своей вылазкой. Наступающее утро позволило ему рассмотреть добытого коня, который был драгоценным свидетельством его ночной дерзости, и по достоинству оценить его силу и красоту. С первого взгляда это конь полюбился Рене больше всех, что были у него прежде, и он не хотел уже никакого иного.
На другой день после обеда защитники крепости, открыв ворота, выехали из замка и набросились на сарацин, не ожидавших таковой дерзости и насилу успевших схватить оружие и вскочить на коней. Там было совершено много достопамятных дел и сожжены дотла две большие башни, много вредившие крепости, Рене же, оказуя свою доблесть, неотступно бился впереди всех до того часа, когда солнце склонилось и был дан приказ возвращаться к воротам. Однако его новый конь, на котором Рене впервые выехал на сшибку, вдруг перестал слушаться всадника и, глухой к его увещаниям и ударам, понес его прочь от замка, прямо к сарацинскому стану, так что юноша, несмотря на все усилия, уносился все дальше от своих знамен и наконец в наступающей темноте подъехал к какой-то толпе людей, стоящей полукругом, из которой слышались плачи и причитания. Конь же, которого он пытался повернуть с упорством отчаяния, показывал невиданную строптивость, вертясь на месте, храпя, вставая на дыбы и заставляя Рене прикладывать всю сноровку, дабы удержаться в седле. На удивление юноши, сарацины, обернувшиеся на его безуспешную борьбу с конем, не схватились тотчас за оружие и не побежали ему навстречу, чтобы свалить наземь и прикончить, но встретили его одобрительными криками, иные же толкали соседа в бок и указывали ему на пляшущего всадника. Сбитый с толку их беззаботностью, юноша метался мыслью от одного к другому, не понимая, чего ему надо остерегаться, и наконец догадался, что, видимо, конь принес его на похороны своего прежнего хозяина, которого Рене убил прошлой ночью, и что у египтян, воюющих в этом краю, есть обыкновение, чтобы на похоронах знатного человека присутствовал конный воин, изображающий покойного со всеми его доблестями; Рене же, подобно многим, кто провел в Палестине долгое время, носил платье и оружие наподобие сарацинских, да к тому же головной платок, прикрывавший нижнюю часть лица, так что люди, собравшиеся на погребении, были обмануты его появлением и приняли его как должное. Сообразив это, Рене призвал на помощь свое хитроумие, которому предстояло спасти его большими трудами, и взялся бороться с конем уже не по-настоящему, а чтобы показать свое искусство, и преуспел в этом, приковав к себе общее внимание и вызвав веские похвалы знатоков. Тут от толпы, совершающей тризну, отделилась молодая женщина, которая, нежно оплакивая человека, ушедшего от нее в могилу, приблизилась к Рене и протянула к нему руки, чтобы дать ему, по заведенному обычаю, последний поцелуй, – юноша, однако, боясь открыть свое лицо и тем разоблачить свой обман, сурово прикрикнул на нее и решительным жестом указал ей вернуться на место. К его облегчению, видящие это сарацины принялись одобрительно кивать и переговариваться, похваляя поведение покойного своего товарища, умевшего презреть удовольствия любви, пока не кончена война. Рене уже торжествовал, но вдруг сердце его упало при виде нового испытания, которое ему готовилось: откуда-то из глубины к нему тащили, подталкивая в спину, человека в оборванном и грязном платье, со связанными руками, изнуренного и встревоженного, в котором он безошибочно узнал пленного пилигрима: сарацины хотели, чтобы их соратник усладил себе кончину, убивши напоследок еще одного неверного. В Рене разгорелся великий гнев, от которого он готов был забыть о себе и своем спасении, открыв врагам свое лицо и намерения. Он перерубил веревки, стягивавшие руки пленника, чтобы пустить его бежать, но тот при виде обнаженного лезвия, взмахивающего перед его глазами, решил, что сарацин лишь гнушается убивать связанного и следующим ударом снесет ему голову. С торопливыми криками, маша освобожденными руками над головой, пленник начал на все лады отрекаться от христианской веры и выражать свою готовность принять закон, с которым он до сих пор воевал, если это даст ему свободу и безопасность. Тогда среди сарацин встал великий гомон: все наперебой прославляли доблесть и удачу своего друга, который даже из гроба торжествует над врагами, не убивая их, но, что прекраснее, заставляя отринуть ложную веру и облобызать истинную. Отступника увели прочь, и в начавшейся суете Рене, успевший подчинить себе коня, мало-помалу отступал от погребальной толпы, озираясь по сторонам, чтобы наконец, сочтя, что за ним никто не смотрит, пуститься вскачь до самой крепости, которой он достиг без дальнейших приключений и где смог вздохнуть спокойно.
Назавтра он пришел в конюшню, где его конь стоял у яслей, и, поглядев на него искоса, сказал: «Ну что же, благодаря тебе я побывал на пиру, которого охотно бы избежал, и хочу отплатиться по справедливости, отправив тебя туда, где бы тебе не хотелось оказаться». С этими словами обнажив меч, он отрубил коню голову и прибавил, стоя над его повалившимся телом: «Иди теперь, приветствуй своего хозяина и служи ему вернее, чем мне; что до меня, то я наперед попекусь о более надежном спутнике».
Такую историю рассказал гость: господин же наш, чьи сверкающие глаза и резкие движения показывали, как он взволнован услышанным, тотчас по окончании рассказа воскликнул: «Прекрасно и всякой похвалы достойно то, что этот юноша намеревался совершить, и то, что он сделал, победив врагов хитростью там, где с их множеством не справилась бы никакая сила, и ничуть не виноват в том, что дурной христианин, которого он хотел спасти, решил лучше погубить свою душу, послушавшись голоса трусости. Но убийством коня, подаренного ему случайностью, он осквернил свою славу, показав, что его отвага выходит на люди лишь там, где рассудительность ей разрешает, будто ярмарочный зверь на цепи. Ведь что такое мужество, как не сила, отражающая натиск Фортуны? Чем же украсится наша доблесть, если решаться только на предприятия, тщательно обдуманные, и уклоняться от тех дел, в которых все принадлежит случаю и нельзя принять предосторожности? Есть у мужества некая часть и как бы служанка, бестрепетность, с чьею помощью он не убоялся бы грозящего вреда. Ведь если говорил ему страх: „Умрешь“, бестрепетность отвечала бы, что жизнь наша – странствие: чем дольше идешь, тем скорее возвращаться; если он говорил: „Умрешь от множества мечей“, она отвечала бы, что лишь один удар – смертельный; если он говорил: „Умрешь вне дома“, она отвечала бы, что долг надо отдавать там, где заимодавец потребует, и что нет земли, чужой для смерти; если он говорил: „Умрешь молодым“, она отвечала бы, что лучше умереть раньше, чем этого захочешь, ибо каждому придут дни, в которых нет отрады; если же он говорил: „Умрешь без погребения“, ее ответ был бы, что те, у кого гроба нет, небесами укрываются. Так говорила бы бестрепетность, чтобы охранить душу, ведь страх, если разольется, все чувства может поглотить. Без нее же человек не может устремиться к совершению тяжелых и прекрасных дел, забыв о своих выгодах и думая лишь о том, что еще ничего достойного не сделано, но все только предстоит». Так он говорил, гость же весьма похвалял сказанное им о мужестве, прибавляя к тому, что Фортуна ищет себе равных среди самых доблестных, гнушаясь прочими, и что доблесть думает лишь о цели, а не о трудах и опасностях, кои придется снести, и в пример приводя римского полководца, что вернулся к врагам по данному обещанию, и многих иных знаменитых мужей. Я же сказал: «Мне кажется, эта история весьма поучительна и во всем соответствует словам праведного Иова, назвавшего военною службою нашу жизнь на земле. Поставленные охранять крепость от непрестанных вражеских нападений, мы только разума должны слушаться, все же прочее, что есть в нас, подчинять его приказам, дабы к угрозе извне не прибавлять опасности изнутри. Если же мы доверимся вожделению, не зная его истинной природы и считая его неким дивным даром, то несемся за ним неведомо куда, от одной прихоти к другой, чтобы наконец присутствовать на собственных похоронах: что же это еще, когда истлевающее тело не имеет надежды на спасение в добрых делах, когда явственным делается, что погибла всякая слава не от Бога, и чередою проходят над умершим похоть плоти, похоть очес и гордость житейская – то ли ради того, чтобы почтить свое старое обиталище, то ли чтобы еще раз над ним посмеяться? Пусть, по милости Божией, ты еще сумеешь покинуть этот дом плача и вернуться к разуму за его крепкие стены; но если не впустую дан тебе меч различения, воспользуйся им, отсеки от себя вожделение, чтобы впредь оно не отдавало тебя в руки врагов».
Тут гость, обратившись ко мне: «Ты, – говорит, – достопочтенный отец, видишь в этом коне то ли похоть, всегдашнюю истязательницу людей, принявшую звериный образ, то ли самого дьявола, а ведь я своими глазами его видел: надо сказать, по справедливости достался он в руки того юноши, ибо не у сарацин в их краях вырос, а по всем признакам был ими отнят у кого-то из наших: это был прекрасный вороной жеребец, с раздвоенным сильным крупом и длинной спиной, со шкурой тонкой и блестящей, с длинным хвостом и гривой, скрывавшей шрам на груди, пока она не отлетит во время бега: что касается шрама, то он был старый, в виде серпа, и порос белым волосом. Таков был вид этого коня, ибо я хорошо его разглядел и накрепко запомнил». Тут наш хозяин, слушавший эту речь с изумлением, восклицает: «Что это ты говоришь? Ведь это мой конь, мною оставленный на Кипре, – точно таков он был, когда я поневоле расставался с ним, ибо на корабле его некуда было поместить». Дивясь этому, гость отвечал, что бывают случаи удивительного сходства между людьми и вещами, так что многие, введенные из-за этого в заблуждение, впадают в ошибки то смешные, то прискорбные, и можно было бы много занятных историй припомнить, совершившихся в разное время и в разных краях. Такие речи вел наш гость, хозяин же выглядел опечаленным и удрученным.
66
29 августа
Господину Фирмиану Лактанцию, досточтимому магистру Никомидийскому, Р., смиренный священник ***ский, – венец вечной славы
К предыдущему письму, где шла речь о восклицании, следует прибавить, что, обращенное к какой-либо вещи, оно делает ее участником беседы и как бы дает взаймы душу. Так Овидий обращается к своему венку, беря его в свидетели бесплодной ночи, и к самим дверям, в которые ему не посчастливилось войти; так карфагенская царица, почуяв в себе поднимающееся пламя, взывает к стыдливости, как некоему божеству, обещая благоговейно блюсти его уставы, а после, пораженная вестью об отплытии троянцев, винит Энея в гибели ее стыда, словно можно умертвить божество. Олицетворение бывает двояким, в зависимости от того, придана ему речь или нет. Что касается первого, то, дабы избежать вещей общеизвестных, вроде Молвы, Доблести и тому подобного, приведем историю о сновидении Ганнибала, передаваемую Цицероном и другими древними авторами. Ганнибалу, после того как он взял Сагунт и зазимовал с войском в Карфагене, привиделся во сне юноша божественной наружности, от Юпитера ему посланный вожатаем в италийский поход, и велел полководцу следовать за ним, не оглядываясь вспять; когда же тот, то ли безумием охваченный, то ли побуждаемый осторожностью, все же посмотрел назад, то увидел, как движется за его войском некое огромное чудовище, увитое змеями, все деревья, кусты, дома на своем пути выворачивая и сокрушая, а за ним со страшным громом тянулись тучи, помрачающие дневной свет; на вопрос пораженного Ганнибала его гость отвечал, что это движется за ними опустошение Италии, наказав ему молчать и все прочее доверить попечению судеб. Прекрасно тут изображается и ненависть Ганнибала к римскому имени, из-за которой самые его сны были враждебны римлянам, и самоуверенность полководца, полагающего, что сам отец богов печется для него о безопасном поприще, и некое туманное величие образов, присущее сновидению. Большую силу и дерзость сообщает и судебным, и показательным речам уместное использование вымышленного лица: ведь в этом роде тропов, как говорится, и мертвых из преисподней поднимать дозволено. Пример второго дает Лукан, выводя пред полководцем, стоящим у пограничной реки, явившееся ему с мольбою божество Рима, там, где говорится: «Мощный явился вождю трепещущей призрак отчизны». Как можно с его помощью вызвать в слушателе жалость и сострадание, показывает поэт в элегических стихах, где само письмо говорит о своем авторе: «С брега евксинского я добралось, Назона посланье» и проч., описывая нрав его и злоключения, говоря и о тоске изгнания, и о благочестии, позволяющем надеяться на милость богов, и о хранимых отрадах дружества; с удивительным искусством он делает письмо за себя ходатаем: оно ведь может попросить о вещах, о которых сам он по скромности просить не станет.
67
30 августа
Досточтимому и боголюбезному господину Евсевию Иерониму, пресвитеру Вифлеемскому, Р., смиренный священник ***ский, – о Христе радоваться
Великое благо, что под нашим кровом мы избавлены от пиров, с которых изгнан разум собранием желудков. Кто бывал на таких, подумает, что совершился новый раздел вселенной и все стихии чредою несут свою службу одному господину: все богатства воздушной области, все стада кристальной Фетиды, все, чем благосклонная Природа ущедрила землю, делается достоянием одного стола, у тех же, кто собрался за ним, одно попечение – пресыщенное нёбо раздразнить новизной, воскресить усталый голод, долгую ночь скоротать, медленный день ускорить за чашей, в Вакховых бдениях усыпить заботы; тот среди них почитается ученейшим и всех полнее впитавшим «наставления жизни блаженной», кто глубже исследовал вопрос, в каком озере лучше рыба, какие края богаче птицей, какое блюдо следует печь, какое варить, какому непреложные уставы сластолюбия велят плавать, а какому подобает сухим отправляться в Аверн гортани; каковы виды пирожных и как лучше очистить мутное вино, чтобы не убить в нем вкуса; из всех Муз милей им та, что жизнь проводит в потемках утробы. Навьючивают стол пышными яствами: иному увидеть их уже было бы обедом. Отыскивают кабана, родного брата калидонскому, и жалуясь на его худобу и невзрачность, вздевают на вертел,
раз уж нет под рукой слонов и нигде их не купишь.
Высятся несметные брашна, словно тучные холмы, а между ними в долине совершает свой путь огромная рыба, вселившаяся в лохань, как в глубину родного омута. Повар щедро залил ее маслом, примолвив: «Пусть плывет: в этом суть», а сотрапезники глядят на нее, как на великое знаменье, и готовятся положить конец ее трудам на земле и на море. Когда же раздастся их чрево, вместившее целую толпу гостей, великий гром в нем поднимется: словно могучий Нот, виночерпий небес, восстав от эгейской пучины, гонит тучи, надмевает паруса, в отчаяние вводит кормчего и свивает песок на растревоженном дне. Насилу отдышавшись, начинают беседу: ««По чести сказать, – приступает один, – куда лучше у нас с вами, чем при королевском дворе: там ведь подают служителям и клирикам хлеб, замешенный на опивках браги, дрянной, сырой, с головней, вино же – или кислотой испорченное, или плесенью, смрадное, сальное, смоляное: не слуг им потчевать, а колодцы отравлять во вражеском краю. Да что там слуги, Бог с ними, – видал я, как людям хорошего рода подносили такое мутное, что не иначе как со смеженными веками, сжатыми зубами, затворенными ноздрями, со страхом и упованием, не столько пить подобало, сколько процеживать. У пива, которое там подают, вид со вкусом состязаются, кто из них отвратительнее. Из-за многолюдства дичь там продается такая, что по смерти опасней, чем при жизни, рыба даже и четверодневная, и однако ни гниль, ни смрад цены не убавляют. Прислуге же дела нет до здоровья и жизни пирующих, а если кто умрет, наполненный горечью, и не заметят, – место тотчас заполнится. Мы же – сами хозяева своему желудку и лучшие стражи своего удовольствия: ни ломтю, ни глотку сюда не явиться без нашего ведома». Так говорит он, а остальные разнообразным урчанием с ним соглашаются. Или же возгорается меж ними спор о великой важности приправ: посылают за ними к обеим Фебовым коновязям, в стылые области Аркта, в Каноп, пелузийским зноем спаленный, поднимаются к истокам Нила, закрома Медеи обшаривают, Феникса лишают погребения: куда вовек не ступит их нога, там уж побывал их порок и все опустошил. О благородная суровость благородных мужей! о золотого века счастливая нищета! – нет, не говори им об этом: молвишь о Фабриции, в чьем доме фаски стояли подле стола, блещущего дедовской солонкой, – поднимут тебя на смех; помянешь одетого в трабею ратая Серрана – скажут: «О чем он нам толкует?» И верно, оставим эти речи: не лучше опьянения вином опьянение негодованием: не венузийской лампады это достойно, а Миносова бича. Мне кажется, древняя басня о царе Финее и его оскверненной трапезе не от чего иного нас остерегает, как от подобных торжеств: вожделения, вечно бледные от голода, налетают с духами беззакония, слепое лицо омрачают свистом крыл и когтистою пястью наши забавы бесчестят. Благодарю Бога, что у нас не бесстыдные похвальбы раздаются, но пристойные беседы ведутся, не битвы сластолюбия совершаются, но поминаются деяния христиан в Святой земле, не строптивое своенравие распоряжается, но царит взыскательное благоразумие: ведь многому, что принадлежит к этой добродетели, научаемся из чтения, многому – из прирожденной рассудительности, однако не научаемся ему вполне без наставлений опыта. Надеюсь, никогда в нашем доме не случится ничего такого, что заставит меня раскаяться в этих словах.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































