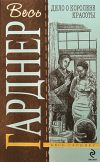Текст книги "Запах женщины"

Автор книги: Руслан Ходяков
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Глава седьмая
В которой имена имеют магическую силу, вокзалы кажутся самым прекрасным местом на свете, а ветер странствий навевает воспоминания возвращающие к суровой действительности
– Слушай, подруга! Заработать не хочешь?
Е-мое! Да, что же это делается? Куда, я вас спрашиваю, красивой бабе податься? Лицо себе, что ли серной кислотой залить? Ноги под трамваем переломать? Глаз выколоть? Куда не придешь – кругом мужики с эрегированными членами! И чего только не сделают. И денег дадут, и в шампанском искупают, и спинку мочалочькой потрут, и дерьмо за тобой вылижут, лишь бы только свою стоячую торчком морковку тебе между ног засунуть. Идиоты!
– Так как? Есть хороший клиент. Выгодный, – Привокзальный сутенер, специализирующийся на провинциалках – коротко стриженый парень в искусственной пропитке, переминался передо мной с ноги на ногу, осовев от февральской стужи.
Я презрительно смерила его отработанным «отворотным» взглядом и проговорила с преувеличенным сочувствием в голосе:
– Извини, милый, но у меня, это самое… сифилис. А то я бы с удовольствием.
Парень хмыкнул, поняв, что обратился не по адресу.
– Че, венеролог запрещает?
– Ага, – грустно проговорила я и вздохнула.
– Так ты че, подруга, москвичка?
– А, че, не видно, дружек? – передразнила я его.
Парень хохотнул.
– Так ты, че, в Питер едешь?
– Не, в Копенгаген.
Он по переминался еще немного с ноги на ногу, ковырнул носком ботинка асфальт перрона и сказал:
– Меня Колей звать.
– Очень приятно – Агрофена я.
Парень хмыкнул.
– Может, когда вернешься, че-как, встренимся, в кабак сходим… Приедешь, спроси Колю-Чирика, меня на Ленинградском каждый мент знает.
Вот так – еще один очарованный поклонничек нарисовался. Одна тысяча девятьсот сорок третий по счету, если не ошибаюсь.
– Не, Коля, ты уж извини, хоть ты и Чирик, но увы…
Коля-Чирик помялся еще немного, поежился, посмотрел по сторонам в нерешительности, шмыгнул забитым носом и сказал:
– Ну, ты это, если кто приставать будет, лох какой ни будь… До поезда-то еще пол часа. Так вот, если кто пристанет – мне скажи. Я его двину… Ты, наверное, манекенщица?
– Нет, я жена Мелешева, – вдруг брякнула я.
– Какого Мелешева?
– Того самого.
Парень побледнел, престал переминаться с ноги на ногу и даже вынул руки из карманов, уставившись на меня, словно я сказала, что я Наина Ельцина или Раиса Горбачева.
– Серьезно, что ли?
– Серьезней не бывает, – я очаровательно улыбнулась.
– Во, блин! Черт… Можно я тебе сумку до поезда донесу?
– Да, ладно… Не прогибайся – спину сломаешь. Лучше иди-ка погуляй.
Парень всем своим нутром чувствовал, что надо как можно побыстрее отвалить, но не решался повернутся ко мне спиной.
– Это самое… Может тебе мороженое купить? – вдруг нашелся он и покраснел от собственной глупости.
Я рассмеялась.
– Иди, давай! Мороженое…
– Не надо что ли?
– Нет.
– Ну тогда я пошел…
– Иди, иди…
– Ты это, не говори, короче, что я… Я пошел. Все.
– Иди.
Коля-Чирик стал пятится задом. Если бы он умел делать реверанс он несомненно сделал бы его. Он пятился, пятился, потом, развернулся и пошел от меня быстрым шагом, постоянно оглядываясь, словно я должна была выстрелить ему в спину, достав маленький дамский «Браунинг» из рукава.
Забавно как имена некоторых ублюдков действуют на им подобных. Жена Мелешева! Подумать только, что за птица!
Коля-Чирик исчез в каких-то боковых дверях и больше не появлялся.
Вокруг маялись люди в ожидании питерского поезда. Кто стоял, сонно оглядываясь по сторонам. Кто сидел на своих пожитках. Большинство курили. Мужики украдкой бросали на меня взгляды. Женщины тоже поглядывали в мою сторону, заметив интерес своих мужей к моей персоне. Но смотрели они по другому – оценивающе.
Одна толстуха пихнула в бок своего муженька, уставившегося на меня с раскрытым ртом и, что-то принялась ему выговаривать сквозь зубы.
К подобным картинкам я привыкла с тех самых пор как надела лифчик. И то, что на меня в общественных местах люди показывали пальцами, я научилась переваривать спокойно и даже где-то с юмором.
Иногда, для развлечения, я подмигивала какому ни будь мужчинке находящемуся под конвоем своей дражайшей и наблюдала его забавное замешательство. Бедняжка, как песик на поводке, рыпался в мою сторону, но куда там! Ошейничек-то, затянут на последнюю дырочку.
Конечно, приятно, что тебя везде замечают. Жалко только, что подобное внимание иногда бывает таким назойливым. А как хотелось бы стать неприметной, маленькой, веснушчатой и невзрачной…
Нет уж! Что я дура, что ли? Это я так, в минуты ностальгии и духовного упадка. На самом деле я очень горжусь своей красотой. По этому и на конкурс красоты под Светкину дудку пошла…
Светка-то, тоже не уродина. Красавица моя Светка. Она может быть единственный человек которого я люблю не смотря на ее блядский характер.
Э, Ритка! Это в тебе зависть говорит. Она-то в отличии от тебя с мужиками может спать без всяких последствий. Это ты у нас феномен. Тебя под микроскопом изучать надо.
Хуф! Пар идет! Похолодало что-то к ночи. Может в вокзал зайти?
Я оглянулась на прозрачный вестибюль вокзала. В огромном освещенном зале по гранитному полу перемещались люди, кажущиеся такими маленькими мурашами под сводами гигантского сооружения. Почему железнодорожные вокзалы делают всегда таким огромными как дворцы? Как Эрмитаж в Питере, или Третьяковка в Москве? Потому, что вокзал это храм! По крайне мере для меня. Это то место, где ощущаешь себя оторванным от своих проблем. Это как скала в открытом море с которой можно бросится в низ, расправить крылья и полететь… Полететь… Над синими волнами. В далекие, далекие страны. К миражам так редко появляющимся на горизонте. И люди это чувствуют. Представьте себе маленький, утлый вокзальчик. Какая мерзость!
Здесь чувствуешь то, что писатели называют ветром странствий. Он в запахе прокопченных шпал перемешанном с запахом мазута, людского пота, сигаретного дыма и дыма растапливающихся печурок в вагонах. Он в звуках далеких и близких гудков, в перестуках колесных пар, и в грохоте сталкивающихся буферов, и в эхообразных переговорах диспетчеров на сортировочном узле. Он в металлическом голосе диктора, объявляющего прибытие и отправление поездов. Он в плаче потерявшегося ребенка и в задорных криках носильщиков. Он в слезах встречающихся и прощающихся людей. Он в сладостном аромате цветов, которые влюбленные здесь дарят друг другу после долгого ожидания дороги. Он в напряженных руках передвигающих чемоданы, коробки и тюки. Он здесь – ветер странствий. Прекрасный ветер, и я его люблю!
Нет, постаю еще немного на свежем воздухе. В вокзале я как на ладони. Скоро «Аврору» к перрону подадут. Сяду в вагончик и… Я вспомнила песню, которой меня шестнадцать лет назад встретила олимпийская Москва восьмидесятого, когда мать впервые привезла меня к своей сестре в гости. Забавная грустная песня про олимпийского мишку, с мелодией похожей на мелодии сентиментального Джо Дасена.
«До свиданья Москва, до свиданья! Олимпийская сказка прощай. До свиданья наш ласковый Миша…» Нет. Мой ласковый Миша… Миша, Мишенька, Мишаня…
Господи…
Я вдруг поняла, что действительно попала.
Глава восьмая
в которой всего один вопрос и один ответ
Когда это началось? Наверное когда умер мой отчим.
Глава девятая
Куколка
– Какая красивая девочка! Как куколка! – директриса, очень пышная женщина, мощный лиф которой подпирали две толстые жировые складки и все вместе это было обтянуто шерстяной кофтой, как ливерная колбаса обтянута кожурой, потрепала меня по щеке и добавила, обращаясь к моей матери. – Поздравляю, у вас очень красивый ребенок! Очень красивый!
Моя мать скромно улыбнулась и погладила меня по головке.
– Спасибо, я знаю, – сказала она.
– И личико… И волосы – чистая платина! – не унималась директриса, – будущая Мерлин Монро. – Актрисой наверное будешь? – обратилась она ко мне.
– Не. Космонавткой! Как Валентина Терешкова.
Директриса всплеснула руками и рассмеялась. Мама тоже рассмеялась, но как-то грустно.
Она была грустная женщина, а в последнее время я вообще редко видела ее счастливой. Она часто закрывалась в спальне, когда отчима не было дома и не впускала меня к себе, но я знала, что она плачет там за закрытыми дверями. А когда двери наконец открывались, она выходила утирая глаза уголком передника, нежно гладила меня по голове, целовала и шла на кухню готовит ужин, потому, что отчим скоро должен был прийти с работы.
– Космонавткой! – смеялась директриса. – Очень хорошо. Умненькие, красивенькие девочки нам нужны, – добавила она внезапно перестав смеяться. – Определим ее в 1-а. Будет ходить в первую смену. Давайте заявление.
Так я пошла в школу. Мне было весело а маме как всегда было грустно. Мы вышли из кабинета директора школы и шли по длинным коридорам и лестницам, пропахшим масляной краской после проведенного к началу нового учебного года ремонта. Я с интересом рассматривала стены на которых висели портреты учеников с не по детски серьезными лицами. А в огромном фойе с отделанной жженым деревом панели на меня неожиданно глянул добрыми внимательными глазами маленький кучерявый мальчик.
– Мама, кто это? – спросила я.
– Это маленький Володя Ульянов, – рассеяно ответила мама.
Мальчик был такой красивый, такой хороший и у него были такие же как у меня светлые волосы. Он так мне понравился, что я спросила маму.
– А можно мне, когда я пойду в школу первого сентября, можно мне будет с ним подружится?
– Нет, нельзя.
– Почему? – не поняла я. Мама редко мне что-нибудь запрещала.
– Потому, что он умер.
Я так растерялась, так расстроилась, что слезы неожиданно потекли у меня из глаз. Мне было не понятно, как такой маленький красивый мальчик мог умереть? И за чем в школе на стенку повесили портрет мертвого мальчика?
Я присела на корточки и разревелась от страха. Мать присела рядом со мной, стала гладить меня по голове, целовать в мокрые щеки и утешать.
– Ну, что ты, Риточка… Помнишь, я тебе рассказывала про дедушку Ленина?
Я кивнула.
– Так это его портрет, когда он был маленьким. А умер он когда был уже взрослым. Давным-давно.
Мне все равно не было понятно и я продолжала реветь.
– Кто это у нас тут плачет? А, это Маргуша – первоклассница плачет! – чьи-то сильны руки взяли меня с сзади за талию и подняли в верх. Потом подбросили, перехватили в воздухе, разворачивая, и я оказалась лицом к лицу со своим отцом.
– Что ты делаешь!? – закричала мать сорвавшимся голосом. – Ты мог уронить ребенка, алкоголик!
– Ну, чего ты! Чего ты! Что б я Маргушу уронил? Что б я уронил собственную дочурку? Да никогда в жизни! Да Маргуша?
– Папочка… – сказала я и обняла отца за шею. От него сильно пахло вином и еще какой-то кислятиной. Он слегка покачивался. Он был небритый и его щетина колола мне щеку. Но я все равно так любила его. Так любила! И мне было непонятно, почему мать всегда ругается с ним. Ну и, что, что он пьет? Ведь он такой добрый…
– Не называй ее Маргуша! – кричала мать. – У нее есть человеческое имя! Отпусти ее сей час же, пьяница! – и она принялась вырывать меня из рук отца.
Я закричала.
– Отпусти ее! Ты делаешь ребенку больно! – еще громче крикнула мать.
– Это ты делаешь ребенку больно, – мрачно сказал отец, отдавая меня матери. – Ей нужен отец.
– У нее есть отец! – кричала мать прижимая меня к себе. – И нормальный отец! Не пьянь, как некоторые!
Я скулила на плече у матери.
– Послушай, Вера, – сказа отец. – Я хочу прийти на первое сентября…
Мать мелко задрожала от злости. Она опустила меня на пол и сказала, задыхаясь:
– Риточка, выйди на улицу, подыши воздухом, мне нужно поговорит с твоим бывшим папой.
– Папочка… – всхлипнула я.
– Иди! – приказала мать.
Я пошла к выходу. Отец и мать молчали, глядя друг на друга. Последнее, что я услышала, выходя за большую стеклянную дверь вестибюля это громкий крик матери:
– Я тебе запрещаю… – и дверь закрылась. Сквозь прозрачное, хорошо вымытое стекло двери я видела как мать ударила отца по щеке сначала один раз, потом другой… Отец стоял перед ней не шевелясь, низко опустив голову. Я хотела бросится туда, крикнуть матери: «Не надо!» Но боялась, что она будет ругаться. Потом она вышла, крепко взяла меня за руку и быстро повела прочь от школы. Прочь от отца. Домой.
Следующее пол дня мать молчала. Молчала с остервенением пылесося квартиру. Молчала со злостью моя полы. Молчала приготавливая ужин…
…Кухонный нож громко стучал по разделочной доске. Белые ломтики лука аккуратно ложились в одну сторону влажными, пористыми полукольцами. Время от времени мать вытирала глаза рукавом и шмыгала носом. Я сидела тут же и что-то рисовала дефицитными фломастерами на листке бумаги.
– Мама, ты плачешь? – спросила я ее увидев маленькие слезинки выкатившиеся из ее глаз.
– Нет, доча, нет… Это просто лук глаза щиплит.
– Ой, и мне щиплит!
– Сходи в ванную и промой водичкой.
– А ты не хочешь?
– Я взрослая, я привыкла… – сказала мать, снова вытерла слезы рукавом и продолжила стучать ножом по разделочной доске.
– Ладно, – сказала я и пошла в ванную оставив свое рисование.
Пока я тщательно промывала глаза, пустив воду тоненькой, бесшумной струйкой, в прихожей раздался топот и в квартиру вошел отчим, открыв дверь своим ключом. Разувшись он прошел на кухню и я услышала его громкий, недовольный голос.
– Что? Ужин еще не готов? Я целый день, понимаете, вкалываю как вол, пожрать некогда, прихожу домой… Ты чего, плачешь? – голос отчима приобрел подозрительный оттенок. Я тихонечко приоткрыла дверь ванной и посмотрела на кухню сквозь щель.
Отчим взял мать за подбородок и повернул ее лицо к себе.
– Опять? – спросил он грозно.
Мать попыталась вырваться.
– Саша, пусти… Это лук…
– Опять, я спрашиваю? Ты видела его, да? Муженька своего видела?
– Видела, – еле слышно ответила мать.
– Ты спишь с ним?
– Саша…
Отчим грохнул свободной рукой по столу.
– Спишь с ним, я тебя спрашиваю?
– Саша, как ты можешь, он же опустившийся алкоголик! – Мать со звоном бросила нож на стол и вырвавшись из рук отчима отпрянула к окну.
– А, что, у алкоголиков не стоит, что ли? – прошипел отчим.
Я прикрыла дверь, испугавшись, что вдруг они заметят как я подсматриваю за ними. Дверь скрипнула. Мать услышала.
– Саша, тише, Ритка слышит.
Я поняла, что прятаться больше бесполезно и вышла из ванной.
Отчим переменился в лице. На губах его появилась добрая улыбка.
– А, Риточка! Здравствуй дорогая! Я думал ты на улице, гуляешь! Мы тут с мамой разговариваем… Иди ко мне! Поцелуй своего папочку!
Голос его стал мягким, приторным и противным. Я надувшись прошла на кухню, желая забрать фломастеры и незаконченный рисунок, но отчим взял меня на руки, уселся на табуретку и посадив меня к себе на колени, принялся гладить по спине и ворковать.
– Мы тут с мамой разговариваем… Мама готовит ужин… Папа приехал с работы… Привез тебе шоколадку… – он достал из кармана рубашки мягкую, теплую шоколадку и сунул мне ее в руку. – Вкусная шоколадка? – спросил он, так, как будто я ее уже съела. – Вкусная… Мама сейчас приготовит ужин… Мы покушаем… Рита ляжет спать… А завтра Рита пойдет в школу… – он говорил, говорил и гладил меня по спине и по попке, гладил. Ласкал меня. Но делал он это как-то не так, как это делает мама или папа. Как-то по другому.
Мама зажаривала лук на сковороде изредка, с опаской, поглядывая на нас с отчимом и натянуто улыбаясь. Отчим продолжал радостно причитать. Он всегда так делал, когда у него появлялось желание со мной пообщаться по-отечески.
– Завтра Рита пойдет в первый класс… Папа завтра выходной… Папа поведет Риту на первую линейку… Ты знаешь, что такое линейка? – я отрицательно качнула головой. Отчим не обратил на это внимания и продолжил. – На первый звонок… Мама поедет к больной бабушке Маше… Поменяет ей постельку…
– Но Саша! – осторожно возмутилась мать. – Я бы тоже хотела с Риткой пойти! Все-таки первый класс!
– Нет! – строго сказал отчим. – Сестра сказала, что она завтра не сможет к матери зайти. Поэтому это сделать придется тебе.
Бабушка Маша – это мама отчима. Она парализованная и поэтому тетя Катя – отчимова сестра за ней ухаживает. А когда она не может, то это делает мама. Но это бывает очень редко.
– Саша! – с бессилием в голосе проговорила мать. – Я… Раз ты завтра выходной… Может ты сам, хоть раз в жизни, к матери съездишь? А я Ритку в школу отведу… – она чуть помедлила и добавила. – Все-таки это моя дочь.
– Это наша дочь! – нервно бросил отчим и еще раз погладил меня по спине. – Рита, а ну иди в комнату. Съешь папину шоколадку, – он поставил меня на пол и легонечко хлопнул меня по попке, толкнув в направлении комнаты. Я пошла в комнату, зная, что он сей час начнет ругать маму вполголоса.
– Рита НАША дочь! – слышала я громкое, недовольное шипения отчима из кухни. – И если ты думаешь, что…
Потом мы ужинали, потом смотрели телевизор, потом легли спать. Я до пол ночи не могла уснуть, слушая как за стенкой, в спальне ритмично скрипит кровать. Как громко вздыхает и вскрикивает мама. Как отчим издает резкие гортанные звуки. Обычно такое продолжалось по три-четыре раза, и в конце каждого раза кровать начинала скрипеть сильнее, а потом мать громко кричала. Раньше я думала, что мама кричит от боли, но когда я ее спросила, она покраснела, улыбнулась и сказала, что кричит он от удовольствия. «Так кричишь, когда в мае прыгаешь с берега в холодную воду. Тебе холодно, но в тоже время приятно». Теперь я понимаю, что мать в этом смысле была самой… Нет, не счастливой… Удовлетворенной, что ли? Потому, что возня в спальне начиналась почти каждую ночь и по несколько раз.
В такие дни с утра мать всегда выглядела слегка усталой, но довольной, и только к обеду улыбка как всегда сходила с ее лица. Словно ее постоянно, что-то терзает. И мне кажется, что она постоянно думала об отце.
Странная была моя мама. Она жила с человеком которого боялась, которому не могла сказать поперек ни одного слова, и в тоже время могла ударить по лицу человека которого любила. Первый удовлетворял ее телесные и материальные потребности, но не приносил успокоение ее душе, потому, что вообще не ведал, что это такое. Второй мог бы делать и то и другое и третье, но почему-то не делал. Первого она желала и боялась. Второго любила и ненавидела одновременно. Но ненависть была явной, а любовь тайной и отчим это чувствовал.
Позже я много думал над тем, как одна женщина может любить двух совершенно разных людей. Первый был обыкновенным «совком», работал на мясокомбинате водителем, рвал все, что плохо лежало и имел, то, что охранял, жил по «Домострою», верил, что жена должна была боятся мужа своего, потому как он является главным добытчиком и несет в дом копейку, приходя домой выпивал свою законную стопку и заваливался на диван ногами к телевизору, что бы подремать во время вечерних «Новостей». Второй был «Последним романтиком», в прошлом офицер, майор, человек служивший родине с чувством того, что он совершает святое дело служения своей стране, дневавший и ночевавший в своей казарме, со своими солдатами верившими ему как богу, и приходивший домой усталым, но веселым, до тех пор, пока страна, которой он служил не поглумилась над ним, отправив его в далекий и дикий Афганистан защищать неизвестно что и не известно от кого, а когда он наконец вернулся из этого ада, весь в наградах, с именным оружием, то подал рапорт и ушел из армии, так как считал бесчестным служить стране, которая его предала, и так как он дорожил своей честью. Потому и запил уже на гражданке. Но мне кажется, что мать ушла от него не потому, что он пил, а потому, что не в силах была жить дальше рядом с его поруганной честью и гордостью как в аду, потому, что он был слишком хорош для нее и потому слишком плох. И даже отчим, мне кажется, чувствовал свою вторичность по отношению к тому, кто был до него. И это бесило его и пугало мою мать.
Утром улыбающаяся, веселая мама обрядила меня в новую школьную форму, заплела косички, завязала большой белый бант. Отчим одел свой серый выходной костюм, повязал галстук и до духоты облил себя одеколоном. Мать наряжаться не стала. Мы позавтракали, мама одела на меня ярко-красный ранец с веселой аппликацией и дала мне в руки огромный букет хризантем, купленный еще вчера и всю ночь проплававший в наполненной водой ванной. Мы втроем вышли из дома. Мать села на автобус и поехала к бабушке Маше, а отчим повел меня в школу.
Всю дорогу он говорил о том как хорошо быть прилежной ученицей, получать одни пятерки и хорошо себя вести. Рассказывал как он первый раз пошел в школу. Но помнил он этот день плохо, постоянно врал и путался в деталях. Скоро я перестала его слушать и весело запрыгала вокруг него с букетом хризантем, улыбалась теплому сентябрьскому солнцу, корчила рожи мальчикам точно так же как я идущим в школу с букетами цветов в сопровождении своих надменных, но счастливых родителей, пинала носочком лакированных белых туфель опавшие желтые листья, и радовалась тому, что я «уже взрослая», потому, что иду в школу.
Праздник первого сентября я описывать не буду. Он был типовой, так как в то время все было типовое: дома, люди и даже праздники. Помню только, что после того как прозвенел звонок, и учительница повела нас гуськом в класс, я оглянулась и увидела как у школьной ограды стоит папа и машет мне рукой. Трезвый, выбритый, хорошо одетый, улыбающийся и счастливый. Это был последний раз, когда я его видела, потому, что второго сентября он застрелился из своего именного пистолета, у себя в маленькой, грязной комнатке, в одной из многочисленных коммуналок Василевского острова.
На похороны мама не пошла, потому, что в день похорон отца, мы хоронили отчима. Точнее мама хоронила его одна а я в это время лежала в больнице.
А умер отчим… первого сентября. За день до смерти отца. И убила его я. В каком-то смысле.
Встретив меня после первого и единственного урока он повел меня за руку домой…
– Ну как, интересно учится? – спрашивал он меня пока мы шли к дому.
– Угу… – Я постоянно оглядывалась по сторонам ожидая увидеть папу.
– Учительница, что-нибудь рассказывала?
– Угу…
– И, что она рассказывала?
– Все, – отца нигде не было видно.
– Что, все? – допытывался отчим.
– Ну, все, – рассеянно отвечала я.
– Ты, что, не хочешь со мной разговаривать?
– Угу, – я не могла понять, куда же подевался мой папка. Ведь был же он, был!
– Что, угу? Не хочешь? – отчим занервничал и крепче стиснул мне руку.
– Ой! – вскрикнула я. – Хочу, хочу.
– Так поговори с папочкой!
Я ненавидела, когда он называл себя папочкой. Было в этом, что-то странное и страшное. Какое-то ощущение жуткой подмены. Словно на улице к тебе подходят незнакомые люди и говорят: «Здравствуй, мы твои новые мама и папа! А твои настоящие мама и папа только, что попали под машину. Вон, видишь, они лежат? Все в крови». Меня каждый раз передергивало, когда он говорил: «Подойди к своему папочке…» Или. «Поцелуй своего папочку…» Но я, как и мама, боялась ему возразить. И подходила. И целовала, со страхом прикасаясь губами к синей от частого бритья и холодной как у мертвеца щеке.
Опасаясь того, что отчим снова больно стиснет мне руку, я стала рассказывать ему про первый урок. Про то как учительница рассказывала нам про День знаний, про то как она ставила на школьном проигрывателе пластинку с песенкой «Учат в школе», и мы разучивали ее под проигрыватель, и как у нее ничего не получалось, потому, что пластинка начинала заедать на словах «в тетрадь». Получалось: «Буквы ровные писать, тонким перышком в тетрадь… в тетрадь… в тетрадь…» Учительница смущенно улыбалась, толкала иголку и только тогда песня продолжалась: «Учат в школе, учат в школе, учат в школе!»
Вскоре мы пришли домой. Мамы не было. Обычно если она уезжала к бабушке Маше, то проводила там целый день. Потому, что утром, в обед и вечером, ее надо было покормить. Два раза в день подложить под нее «утку» – такую смешную кастрюльку для писания. Прочитать свежую газету, а может и обмыть и поменять белье. Так, что мама должна была появится лишь поздно вечером и мне весь день предстояло провести с отчимом.
Отчим выглядел необычно веселым и возбужденным. Он напоил меня чаем, накормил пирожным, купленным пока я была в школе, постоянно рассказывал какие-то несмешные, но веселые с его точки зрения истории и как-то странно смотрел на меня, как-то странно ко мне прикасался, будто я – величайшая ценность во вселенной и к тому же фарфоровая, готовая в любую минуту разбиться.
– Риточка, ты не хочешь поспать? – вдруг спросил он. – После школы все дети должны один часик спать, а потом садиться и делать домашнее задание.
– Но я не хочу спать! – возразила я.
– Ты должна поспать! – строго принялся настаивать отчим. Он странно изменился в лице. Мне была не понятна такая перемена. И такая его настойчивость. Только, что он хлопотал вокруг меня, прыгал на задних лапках и вдруг неожиданно стал строгим и раздраженным. Я знала, что за подобными явлениями могут следовать приступы негодования и потому не стала его сердить.
– Хорошо, – с недовольством в голосе проговорила я надув губки, пошла в детскую и принялась разбирать свою постель. Отчим пришел за мной следом.
– Подожди, – сказал он. – Тебе нужно постелить чистую постель.
– Но…
– Никаких, но! Сегодня праздник, и ты должна лечь в чистую постель! – отчим выглядел очень строгим. – Я тебе постелю, а ты иди в ванную и как следует вымойся. Ты же не можешь лечь грязная в чистую постель?
– Я не грязная! Я чистая! – попыталась возразить я.
– Нет, ты грязная! – крикнул отчим.
Я заплакала, и промямлила сквозь рыдания:
– А кто меня по-о-о-м-о-о-ет? Ведь мамы не-е-е-ту…
Отчим вдруг подошел ко мне, взял меня на руки, погладил по спине и дыша мне в ухо, нежным шепотом проговорил:
– Не плачь, Риточка… Папа тебя помоет… Папочка…
…а потом он изнасиловал меня на моей кроватке и я потеряла сознание.
Когда я очнулась, отчим лежал рядом на полу, раскинув руки, глядя в потолок изумленными глазами. Они все так смотрели. Отчим не двигался. Глаза его не моргали. Дыхания не было слышно. Я разревелась. Громко, по детски, заходясь истерике, задыхаясь от плача и слез, пуская сопли и слюни. Отчим не двигался.
Выдохшись, через какое-то время, которое показалось мне бесконечным, я отползла в угол кроватки и забылась.
Отчим так и не пошевелился. Я убила его. Теперь я знаю – я его убила.
А вечером пришла мама…
«– Какая красивая девочка! Как куколка!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.