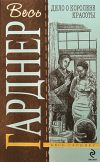Текст книги "Запах женщины"

Автор книги: Руслан Ходяков
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Я повернулась к нему. Слез не было, но наверно они стояли у меня в глазах и Зорик заметил этот блеск.
– Рита… – снова проговорил Зорик.
Я смотрела в его дорогое и любимое лицо. Я смотрела в его слегка замутненные водкой глаза и они тоже казались мне дорогими и любимыми. Я чувствовала запах его тела, который до сих пор преследует меня как навязчивая идея. Иногда, где ни будь на Невском или на Садовой, в метро или на улице, мимо проходит совершенно незнакомый мне мужчина, и я вдруг останавливаюсь, замираю, потом, что слышу этот запах, который для меня навсегда останется запахом первой любви, запахом первого мужчины, которого я любила. Я смотрела на Зорика и мне не хотелось его терять, не хотелось с ним расставаться. Может это было глупо. Может быть я была тогда глупой. Может быть любовь не требует доказательств. Но если Зорик действительно меня любил, я должна была получить эти доказательства. Доказательства его любви, его чувств, потому, что я действительно любила его больше всего на свете, больше жизни, хотя это конечно наивно, больше дружбы, которой я тем более не задумываясь пожертвовала ради своей любви к Зорику. И мне вдруг показалось, что я знаю, как проверить, любит ли меня Зорик так как говорит. Просто надо дать ему яблоко…
– Рита, если ты все слышала, то ты поймешь меня, – Зорик все сильнее массировал мою коленку. – Ты поймешь меня Рита? – его рука скользнула ко мне между ног.
Я кивнула, и стала расстегивать рубашку.
То, что случилось потом, я помню плохо. Помню как я тихо вскрикивала, когда Зорик крепко сжимал меня в своих объятиях, толчками пробиваясь ко мне внутрь. Помню как сильно пахло у него изо рта перегаром. Помню его вспотевшее лицо и жаркий извиняющийся шепот. Слов не помню. Помню серый цвет дермантина, которым был обтянут низ верхней полки, который я постоянно видела перед глазами. Я ненавижу теперь серый цвет. Помню костлявую руку гитарного грифа с шестью пальцами колков, свешивающуюся с верху. Помню, как кто-то тихо переговаривался за дверью купе и так же тихо хихикал. Помню как я испытала первый в своей жизни, взрыво-подобный, ошеломляющий как удар молнии, и продолжительный как раскаты грома оргазм. Помню как я закричала и как в этот момент кто-то за дверью громко рассмеялся. Помню как Зорик тоже закричал от наслаждения, напрягся и вены вздулись на его шее. Помню как он оттолкнул меня и упал на грязный замусоренный пол между полками, покрытый ковровой дорожкой. Упал и больше не шевелился. Потом я отключилась.
А утром в дверь забарабанил проводник – поезд подходил к какой-то станции. Я открыла…
…Потом пришли какие-то люди в форме и вынесли труп Зорика. Потом меня допрашивал милиционер, но что он от меня хотел я не помню. Помню только белый потолок больничной палаты, белую тумбочку у кровати, и красное надкусанное яблоко на тумбочке.
Больше не помню ничего.
Глава четырнадцатая
в которой только бабские слезы
Я уткнулась головой в стенку, подложив под лоб правую руку и тихо плакала. Сигарета тлела межу пальцами в опущенной в низ левой руке и горячий дым скользил в верх по ладони под рукав свитера и палацам державшим сигарету становилось все горячее и горячее. Я плакала, глядя в низ и видела как падают мои слезы на замызганный пол тамбура и от этого зрелища падающих в низ огромных капель мне становилось еще горше, еще страшнее, еще обиднее. Я плакала всхлипывая носом, облизывая набухшие от слез пересохшие губы, мелко вздрагивая, с шумом втягивая в легкие жалкие клочки перекрытого плачем воздуха. Я плакала, словно пытаясь выплакать то, что не выплакала тогда в милиции, в больнице, дома.
В тамбур кто-то вошел. Я быстро отвернулась к окну и суетливо принялась вытирать слезы ладонью.
– Что вы тут курите, девушка? – услышала я сварливый голос проводницы. – Убираю, убираю… А они курят и курят. Курят и курят. Без конца! – проводница чем-то звякнула о стенку и послышался шелест веника метущего пол. – Пассажиры! Житья от вас нет! Работать не дают спокойно!
Вот сволочь-то, а? Собралась тамбур в три часа ночи подметать… Пассажиры… Житья от нас нету… А ты кто такая?
Не знаю, то ли от обиды, за славное племя пассажиров, то ли от того, что краник моих слез заржавел и не хотел на этот раз закрываться, то ли от того, что страшные переводные картинки прошлого все еще ясно стояли у меня перед глазами, я снова разревелась, уткнувшись лбом в стекло тамбурной двери.
– Э, милая ты чего? – веник перестал шуршать по полу. – Плачешь, что ли?
За спиной произошло какое-то движение и я почувствовала как она подошла ко мне сзади.
– Не надо милая, плакать… – проводница помолчала. – Бабские слезы – дело пустое. На-ка, вот… Замерзла небось, в тамбуре-то холодно – зима!
Что-то теплое легло ко мне на плечи. Я потрогала плече дрожащими пальцами и ощутила под подушечками куцый, кроличий мех проводницыной душегрейки.
– Сигаретку-то брось! Пальцы обожжешь!
– Ой! – сквозь слезы воскликнула я, только сейчас заметив, что истлевший окурок стал жечь фаланги среднего и указательного пальца. Быстро выбросив окурок в приделанную к двери жестяную банку, я повернулась к проводнице, продолжая всхлипывать.
– За чем вы это? – я всхлипнула.
– Чего, за чем?
– Зачем вы это на меня одели? – мои пальцы снова дотронулись до кроличьего меха.
– Не знаю… – проводница пожала плечами. – Подумала, что тебе холодно, вот и одела.
– Но вы же… – «Не такая!» – хотела сказать я, но зыбкая пелена слез вызванная неожиданным состраданием совершенно чужого человека подернула серый мирок тамбура, размыв, как волна песок, узкие, заостренные черты лица проводницы и я громко всхлипнув, неожиданно для себя бросилась на шею этой женщине, припав влажной от слез щекой к ее жесткому, костлявому плечу, худобу которого не могла скрыть даже ватная подкладка форменного кителя.
– Ну, что вы… Ты… Ну, что ты, милая… – проводница неловко, неумело, как бы теряясь, погладила меня по спине и по волосам, и я вдруг поняла сколько искренности, сколько доброты, сколько сострадания вдруг появилось в ее жестких худых, подрагивающих руках, в этих неловких, но нежных движениях.
– Ну, чего ты, милая? Ну чего… Слезы бабские – дело пу… Да, что же это такое, господи, то делается, мамочка моя… – и женщина неожиданно разревелась вместе со мной.
В пустом прогорклом, прокуренном тамбуре купейного вагона стояли обнявшись две женщины и ревели. Вагон катился, вздрагивая и гремя изъезженными временем и дорогой костями. Ночь за окном тлела, заслонив от нас белый свет влажными холодными ладошками темноты, прижатыми к немытым стеклам тамбура. Мы ревели, каждая думая о своих, никого не касающихся, бабских бедах.
– Ну, что, милая… – проводница отстранилась от меня и продолжая всхлипывать заглянула мне в глаза. – Пошли ко мне, я чаек нагрею, а может и по маленькой выпьем за горюшко наше женское, а?
Я кивнула. Проводница взяла от стенки совок и стертый наискосок, старый, полуосыпавшийся веник и мы пошли к ней в купе.
– У меня вот тоже бессонница… – проводница налила в чашки с курящимся кипятком заварку из своего походного фарфорового заварника с обколотым носиком. – Как ночь спустится, так все маюсь и маюсь. Спасения ищу, – маленькое, двухполочное купе проводника наполнилось терпким ароматом хорошо заваренного чая. – Я уж специально стала просить, чтоб меня в ночные поезда ставили. Маюсь и маюсь, а спасения нет и нет.
– А от чего вы спасения ищете? – я сжала в ладонях разогретую кипятком чашку и тут же резко одернула руки. – Горячий…
– Ага, милая, горячий. У меня печка всю ночь горит, потому и кипяток крутой… Не ошпарься, смотри. А, то многие пассажиры ошпариваются. А спасения я ищу от воспоминаний…
Я вздрогнула.
– Потому и спать не могу. Как закрою глаза, так и вижу, его, миленького… Ох, – женщина села рядом со мной за столик и опершись узкими локтями о стол закрыв лицо костлявыми сухими ладоням тихо заплакала.
Я осторожно погладила ее по плечу. Мне хотелось ей что-то сказать. Что-то утешительное. Что-то доброе, но я не знала что.
– Его, сынулю моего, Сашеньку дорогого, в Чечню служить отправили, – послышался голос женщины сквозь ладони. – А я и не знала ничего. Приехала в часть, сына повидать. Колбаски ему привезла. Пампушек напекла, каких он любит, а мне и говорят, что, мол, в Чечне мой Сашенька, мол ждите, напишет… Ох, – женщина всхлипнула. – А он все не пишет и не пишет. Не пишет и не пишет. Нету письма, ты понимаешь? – она отняла от лица ладони и я ужаснулась не увидев у нее в глазах ни единой слезинки. – Месяц прошел… Я не выдержала, взяла отпуск и в Чечню. Номер части узнала, все… Приехала в этот Урус Мартан, название-то какое страшное, приехала… А мне говорят, что пропал мой Сашенька. В бою пропал. На Чеченской стороне он сей час. У чеченцев. А, что, чеченцы не люди, что ли? Все в одних Советах жили. Я и раньше, в советские времена, в Чечне бывала проводником. И чеченцев многих знала. Ну и пошла я на чеченскую сторону. Туда, где мой Сашенька должен быть. А мне такой черный, заросший чеченец в каске такой и говорит: «Вон там твой сын должен быть! Пленных у нас вчера не было». И показывает на большую машину в которой только трупы. Ну, Сашеньку, то я сразу узнала. По сапогам. Он ростом весь в меня, только на голову выше. И сапоги у него сорок шестого размера. Он когда в армию шел переживал, что сапоги ему не найдут. А нашли… Поди ты. Так и вижу каждую ночь как торчат они из грузовика… – женщина смотрела на меня и плакала. И я впервые видела, как люди плачут без слез. – Ну, нашла я какие-то саночки и на нашу сторону на саночках утащила. Был он весь целенький, только дырочка в груди небольшая, Сашенька мой…
С тех пор вот и маюсь я и ночами не сплю. И сама не своя стала, на людей кидаюсь как сука какая дворовая… Ты уж извини, – проводница шмыгнула носом и тыльной стороной утерла сухие глаза. – А чай-то пей. Хороший чай. Индийский. Или хочешь, бутылочку достану?
– Нет спасибо…
– А тогда скажи мне, можно ли время назад вернуть? Иногда мне кажется, что можно, – женщина вдруг оживилась и заговорила с жаром и выстраданной убежденностью. – Стоит только сильно об этом подумать сильно. Так сильно, как только можно и ты уже в том времени. Ведь если б я на день раньше приехала, то может моего Сашеньку жизни бы и не лишили? Так может можно время вернуть? Можно?
– Нет, – я поставила чашку на стол.
– Как нет?
Я промолчала.
– И что же остается?
– Незнаю… Жить с тем, что есть, – я откинулась к стенке и закрыла глаза.
– Что ты понимаешь, милая в жизни, – грустно сказала женщина. – Как можно жить и каждую ночь видеть мертвого сына? Как можно жить со смертью?
– А я так и живу, – еле слышно проговорила я. – Я убила четырех человек… И наверно, скоро убью еще одного.
– Почему? – удивилась женщина.
– Потому, что я и есть смерть. Я должна убивать, – я открыла глаза и посмотрела на проводницу. Та, уставилась на меня с открытым ртом.
– Ты, это… То есть как?
– Вы когда ни будь слышали о Клеопатре?
Глава пятнадцатая
в которой гангстеры дарят девушке розы, не смотря на февральскую стужу
На перроне стоял Прилизанный с букетом шикарных, метровых роз. Его правая перебинтованная рука висела на импровизированной перевези из шарфа. Еще вчера гладкая, аккуратная прическа Прилизанного потеряла свой блестящий шик и черные пряди слиплись за прошедшею ночь на его голове, так, словно их щедро оросили сахарным сиропом и высушили горячим воздухом. Рядом с ним мыкался Карлсон напряженно позвякивая ключами от автомобиля. Вид у поденщиков Мелешева был усталый, потасканный и невыспанный. Прилизанный зевал в воротник добротной шерстяной куртки, глядя как я, обворожительно улыбаясь, двигаюсь к ним на встречу в толпе еще не проснувшихся до конца пассажиров московского поезда.
Электронные часы над входом в вокзал показывали пять минут восьмого.
Я стремительно подошла к встречающей меня парочке непрошеных кавалеров.
Это, самое… – начал Прилизанный, но я строго погрозила ему пальцем и нахально выхватила у него из рук букет роз.
– Ни слова, милый. Дома поговорим. Это мне? Спасибо, – Я понюхала влажные, тугие, чуть подернутые инеем бутоны на длиннющих стеблях укутанных прокаленным морозом, хрустящим полиэтиленом. – Обожаю розы! – весело сказала я. – Держи, толстяк! – я кинула Карлсону свою сумку. Карлсон слегка замешкался, но сумку поймал, хотя выронил при этом ключи от машины. Ключи упали в снежную пыль перрона, и, что бы поднять их, ему пришлось кряхтя присесть, смешно подперев коленками свой огромный живот.
– Мальчики, за мной! – я деловито, с букетом роз на перевес прошествовала мимо них к дверям вокзала и в зыбком, призрачном отражении стеклянной панели увидела, как Карлсон кивнул в мою сторону и покрутил пальцем у виска. Прилизанный в ответ пожал плечами и они оба засеменили в след за мной.
У вокзала, уткнувшись в поребрик облепленной грязным снегом мордой стоял изрядно побитый «Мерседес». Я подошла к машине и нетерпеливо притопнула ножкой у передней, пассажирской дверки. Карлсон покосился на меня, хмыкнул и радиоключем открыл все дверки.
– Прошу, мадам! – Прилизанный, здоровой рукой, с нарочитой галантностью открыл мне дверь.
– Мерси! – я с достоинством опустилась на сидение, положив на колени букет. Карлсон бросил сумку на зад и протиснувшись за руль, завел машину. Прилизанный, несколько раз хлопнув плохо закрывающейся после вчерашней аварии дверью, уселся сзади.
– Это, самое… – начал было Прилизанный, но я снова прервала его коронную реплику.
– Именно это я и собираюсь сейчас сделать, – сказала я и озорно подмигнув Карлсону, протянула руку назад. – Давай трубку, красавчик!
– Ну, ты прям как телепатка, мысли читаешь! – поразился Прилизанный и полез в карман за радиотелефоном. – Не даром Мелешев с тобой носится, как с писаной торбой… Так, это не то… – Прилизанный выложил из кармана пистолет. – В Питер погнал. Розы, хе, приказал купить. Кто ты такая, черт возьми? – он протянул мне трубку. Карлсон громко и выразительно кашлянул.
– Ты действительно хочешь это знать? – я набрала номер Мелешева.
Прилизанный тревожно посмотрел на Карлсона.
– Знаешь, – сказал он и снова покосился на Карлсона, которого неожиданно пронял нервный тик под правым глазом. – Короче, забудь, что я спросил… Наше дело маленькое. Привезти, увезти, зарезать, могилку выкопать…
– Ало! – я усмехнулась. – Милая, муженька попроси! Кто спрашивает? Подруга дней его суровых… Что ты сказала? Сама ты блядь!
Прилизанный присвистнул:
– Это Тамара.
Я хихикнула.
– Говорят же тебе, боевая подруга… Ало! А-а-а, Мелешев, привет, это я! Чему радуюсь? Да, вот, твой голос рада слышать. Ты чего жен своих распустил? Можно подумать тебе одни бляди звонят! Так ты ей объясни, что я не блядь, а честная давалка… Да, встретили, встретили… Хорошие у тебя ребята, Мелешев.
– Это самое… Про розы скажи! – громким шепотом вставил Прилизанный.
– Розочки купили, – Прилизанный расплылся в улыбке. Карлсон причмокнул и озабоченно покачал головой. – Ты их сильно не ругай. Они ни причем. Я сама вин… Ну, разве, что по заднице… Да, я все поняла. В восемь, в «Застолье», в твоем кабинете. Нет, я сама приеду, пусть твои ребята отдохнут – ночь гнали, – Прилизанный поднял кулак в дружественном жесте. – Чао, Мелешев! – на прощание сказала я в трубку и отдала телефон Прилизанному.
Тот взял трубку, опасливо приложил ее к уху и с почтением спросил:
– Это самое… Сергей Аристархович, так, что с ней делать?
Внимательно выслушав инструкции «боса» и вежливо попрощавшись он с шумом облегченно выдохнул воздух, выключил радиотелефон и расслабившись откинулся на сиденье.
– Ф-у-у, Витя! Кажись пронесло, – Прилизанный неумело перекрестился. Карлсон вытер пухлой волосатой ладошкой вспотевший от напряжения лоб. – Ну и подставила же ты нас, подруга! – Прилизанный шутливо погрозил мне пальцем. – А то я уже завещание в уме набросал… Слушай, а, че за «лошок» тебя в Москве из под самого нашего носа упер? Я ему еще счетчик выставлю! Из-за него Витек свой «Мерс» разкондубасил! Видала?
– Так вам и надо!
Витек обиженно прогнусавил:
– Ничего себе! Новая телега была!
– Батюшки! – воскликнула я и хлопнула в ладоши. – У толстяка голос прорезался! И какой гнусавый! У него, что нос перебит? – обратилась я к Перелизанному.
Карлсон снисходительно хмыкнул.
– Да… – сказал Прилизанный. – Забыла страна своих героев! Виктор Палыч – живая легенда! Пятикратный чемпион мира по боксу! Мой детский кумир! Двадцать лет назад, когда я еще пешком под стол ходил и говорил коту Ваське – здравствуйте, с ним сам «Бровастый» целовался! Правда, Витя? Целовался? – Витя скривил губы в презрительной усмешке и отвернулся к окну. – Я Витьку в восемьдесят восьмом в «Космосе» встретил. Он там мозги «барыгам» вправлял… Вышибалой на «воротах». Ну и скорешились! А ты говоришь – гнусавый. Божественный, дорогая! Божественный! Не Карузо конечно, но…
– Куда ехать-то? – с неловкостью в голосе прервал его Карлсон.
– Во! И скромный! – добавил Прилизанный. – Да, милая, командуй! Витька – коренной москвич, Питера не знает. Я в вашем городе кроме курортно-санаторного комплекса «Кресты», тоже ни фига не знаю, – Прилизанный мечтательно зажмурился. – Эх, славные были денечки… Это самое… Так куда едем?
– К маме.
Глава шестнадцатая
Мама
– И, если хоть один волос… Вы меня поняли?
– Да, че уж тут непонятного? Ни кто твоего Вертера не тронет, правда Витя?
Витя послушно кивнул.
– То-то… Кстати, – я открыла дверцу машины и прежде чем выйти спросила Прилизанного. – Где это ты книжек начитался? Про Вертера и все такое… Вашему брату вроде как не пристало?
– Хе! – Прилизанный указательным пальцем поправил на носу очки. – Великий Гетте! «Фауст!» Да, вот, я же говорю, пока в ваших «Крестах» по малолетке чалился, много чего прочел… Да же на филологический в МГУ поступать хотел!
– А сидел за, что, филолог?
– За, что? – глаза Прилизанного сверкнули из под очков. – Отчиму, пока тот пьяный спал, горло кухонным ножиком перерезал. Нечаянно. Гы-гы! – Прилизанный зло рассмеялся. – А, что?
– Да, так, ничего… Спасибо за цветы, – я прижала к груди сумку, розы и вышла из автомобиля.
– Это самое… Пожалуйста! – сказал Прилизанный, прежде чем я хлопнула дверкой «Мерседеса».
«Мерседес» просигналил на прощанье и уехал, выбросив из под колес комья грязного пропитанного дорожной солью снега.
Внимательно глядя себе под ноги, чтобы не дай бог не споткнуться я перебралась через снежный вал у тротуара и по протоптанной тропинке пошла к подъезду пятиэтажного дома во дворе которого серой чайкой пролетело мое детство и в котором доживала свое время моя старая больная одинокая мама.
Над дверью подъезда поднималась под самый козырек белая грива пушистого инея, а из подъезда как из парной валил густой, влажный, пахнущий канализацией пар.
«Опять трубу в подвале прорвало!» – подумала я, задержала дыхание и зажав нос нырнула в теплые недра подъезда.
По мере повышения этажности искусственный климат в подъезде плавно превратился из тропического в субтропический и далее к пятому этажу в континентальный. Февральский ветер врывался в разбитое окно на площадке перед последнем этажом наметая на подоконнике продолговатый сугробик снега. Я отняла руку от носа и поднявшись на площадку, сунула букет под мышку и стала шарить в боковом кармане сумки в поисках ключа.
Замок щелкнул и дверь медленно приоткрылась в темную маленькую прихожую маминой квартиры.
На кухне сонно бормотал громкоговоритель. Приторно пахло валокордином. Я нашарила на стене выключатель, но свет в прихожей не зажегся.
«Лампочка перегорела. Надо вкрутить», – отметила я про себя, впотьмах повесила куртку на вешалку, сбросила кроссовки, нашарила под вешалкой тапочки и шаркая ими по полу прошла на кухню.
– Мамуля, это я! Мамуля? Мамуля, ты уже встала?
Мать сидела в кресле на кухне, повернув его к окну.
– Я и не ложилась, – электродвигатель маминой инвалидной коляски заурчал и кресло медленно развернулось от окна кухни ко мне. Мама подняла голову и посмотрела на меня тусклыми сухими глазами.
– Здравствуй, – прошуршал ее обесцветившийся, лишенный эмоций голос.
– У тебя опять бессонница? Это тебе, – не подавая виду спросила я, положила букет роз ей на колени, чмокнула ее в ледяную щеку и щелкнув встроенной зажигалкой плиты, зажгла газ под блестящим пузатым чайником. – Чайком угостишь?
– Чай кончился, – медленно проговорила мама, с безразличием наблюдая за моими действиями.
– Как, я же привозила на прошлой неделе?
– Я одолжила соседке, а та не отдала.
– Ух, уж эта сучка – Семенова! – я осуждающе посмотрела на мать и недовольно поджала губы. – Сколько раз говорила тебе: Ни чего ей не одалживай! Ведь все равно не отдаст. Лучше так подари, на совсем.
– Ты же знаешь, что она так не возьмет.
– Ладно, что ты еще одолжила? – я приоткрыла дверцу холодильника. – Ну вот, ты опять ничего не ела, сосиски испортились! И борщ… – я приподняла крышку кастрюли. – Так и есть, скис! Мама, что ты ешь вообще?
– Я чай пью.
– Так чая ведь нет!
– А я сахар в ложке над газом жгу, и в кипятке разбавляю.
– Господи! – я бессильно опустилась на табуретку. – Мама, что ты делаешь? Господи, сахар она жжет! Нищенку из себя разыгрывает! Подумать только! У тебя, что, денег нет? В магазин некого послать за чаем? Вот хотя бы Ифанову с третьего этажа? Она ж твоя подруга! Что, ей чаю тебе не купить?
Мама пригладила рукой хрустящий целлофан букета.
– Мне неудобно к ней обращаться… – голос ее вдруг дрогнул. – А ты меня бросила.
– О, господи! – я поднялась с табуретки, обошла мамино кресло и встала у окна, глядя с высоты пятого этажа на детскую площадку заваленную курганами слежавшегося снега. – Ни кто тебя не бросал! Я всего на неделю уехала!
Мама помолчала немного и вдруг ни с того ни с сего сказал:
– Ты меня не любишь. И не любила никогда. Ты только его любила.
– Кого, мама?
– Отца своего, алкоголика.
– Началось! Старая песенка. Да не помню я его. Я тогда маленькая была!
– Ты меня не любишь, – упрямо повторила мать. – И не заботишься обо мне.
– Я тебя не люблю? – прошипела я, выходя из себя. – Я о тебе не забочусь?! А это, что такое? – я снова открыла дверцу импортного, высококлассного холодильника и грохнула ею так, что бутылки стоявшие в дверке жалобно задребезжали. – Кто тебе это купил? А это? – я с треском, до отказа вывернула рукоятку таймера микроволновой печи, стоявшей на подоконнике. Печь осветилась изнутри и загудела. – А плиту новую итальянскую? А кресло твое? Знаешь сколько это все стоит? Ты в жизни таких денег не видела! А по лучшим врачам кто тебя возит? А продукты, кто тебе через день носит? Лекарства самые лучшие покупает кто? Пушкин? А стирает твои трусы кто? А убирает… И после этого ты говоришь, что я тебя не люблю, я о тебе не забочусь! – я отвернулась к окну.
– Ты все это не руками заработала, – медленно, с расстановкой, проговорила мать.
– А чем?!
– Сама знаешь, подстилка бандитская. Я каждый день смотрю телевизор. Там таких как ты часто показывают.
– Н-н-да… – что бы окончательно не сорваться, что бы не залепить матери пощечину и хоть как-то успокоится я быстрыми, нервными шагами прошла в коридор, открыла кладовку, нашарила на верхней полке лампочку, сдернула картонный чехол и выкрутив старую, вкрутила ее в плафон прихожей. Выключатель щелкнул. Неожиданно яркий свет залил маленькое помещение. Я зажмурилась. – Н-н-да… Ф-ф-ф… – внутри меня все клокотало. – А ты знаешь кто?! – выглянув в дверной проем, проорала я на кухню, и снова вернулась в заполненную неестественным светом прихожую, нервно подперев пояс руками, ощущая в них мелкую дрожь. – Знаешь, что ты сделала? – я снова выглянула в дверной проем. Мать спокойно надавила на рычажок управления инвалидной коляской и кресло натужно загудев развернулось к окну. – Нет, ты послушай! – я так же быстро прошла на кухню. Взявшись за ручки я с усилием стала разворачивать кресло от окна, но мать снова надавила рычажок, мотор загудел, и в течении нескольких секунд я боролась с его электрическим противодействием. Изловчившись, я перехватила мамину руку на рукоятке управления, мотор затих и я надавив всем телом на спинку кресла развернула коляску в сторону кухни. За тем, не выпуская маминой руки, поставила перед креслом табуретку и села на нее, продолжая крепко сжимать руку матери. Мать стиснув побелевшие губы с ненавистью и с какой-то наглой родительской правотой в глазах смотрела на меня.
– Ты – дрянь, – зло бросила она.
– А ты… А ты… – я стиснула ее руку так, что мамина жухлая кожа вокруг моих пальцев тоже побелела, как и ее губы. – Ты! Ты! – я задыхалась, сжимая мамину руку и потрясая ею. – Ты убила моего отца, и подложила меня под моего отчима!
Мать схватила с коленей букет роз и размахнувшись так, что тяжелые бутоны снесли с полки над столом стоявшие там баночки со специями, неожиданно сильно ударила меня им по щеке.
– Не смей так говорить! – не крикнула, а каркнула она. – Не смей! – и он еще раз залепила мне букетом.
Я рефлекторно отклонила голову. Длинные шипы, проколов обертку целлофана больно расцарапали мне щеку.
– Ну, ударь меня еще раз! Ударь! – так же зло проговорила я, не обращая внимания на теплую кровь на щеке. – Ты бы хоть раз отчима так ударила! Зачем ты меня вообще родила, дура?!
Чайник фыркнул и пронзительно засвистел. Я отпустила мамину руку, вскочила с табуретки и с грохотом переставила его на другую конфорку. Синий лотос пламени дрожал над белой поверхностью плиты.
– Я же уродина! – крикнула я, сквозь выступившие слезы глядя на дрожащие лепестки голубого газового лотоса. – Уродина! Все мне завидуют, а я уродина! Уродина! Уродина! Уродина! Уродина недоделанная! – я всхлипнула и тыльной стороной ладони вытерла щеку. Слезы, смешавшись с кровью прокрались в тонкие ниточки порезов и щеку защипало. – Ты думаешь, что у тебя красивая дочь, да? Ты думаешь, что дочь у тебя проститутка, да? Ты думаешь, что я сплю с мужиками за деньги, да? – рыдала я глядя на огонь конфорки. – Все правильно… Я сплю с мужиками. Все правильно. Мне платят деньги. Но не за то, что я с ними сплю, а за то, что я их убиваю! Убиваю, понимаешь?! – выкрикнула я, по прежнему глядя на газ, а не на мать. – Они все умерли, понимаешь? Все! Даже те, кого я любила. Все умерли так, как умер отчим! Точно так же! Они все кричат от наслаждения, получают свое кобелиное удовольствие, кончают и умирают, умирают, умирают! Ты понимаешь?! У меня еще не было нормально ни с кем… Все умирают… Я не могу жить с мужчинами… Я здоровая, красивая женщина и не могу жить… Я уродина… Уродина, – я вдруг, неожиданно для себя успокоилась, еще раз всхлипнула, вытерла рукой нос. – И виновата во всем ты. Не надо было меня рожать.
Не глядя на мать, я вышла из кухни в прихожую, быстро переобулась, сняла с вешалки куртку, взяла сумку и открыв дверь квартиры оказалась на лестничной площадке.
Сверху послышались шаги. На ходу натягивая куртку, я стала спускаться в низ по лестнице в наполненную подвальным, тухлым паром преисподнюю парадной.
– А, Риточка вернулась! – послышался сзади голос соседки – Семеновой. – А я тебя по телевизору видела, на конкурсе красоты! Ты была такая красивая! – соседка быстро топая по ступенькам почти догнала меня.
– А сей час? – я повернула к ней поцарапанное шипами, измазанное кровью лицо.
– Ой, мамочка! – вскрикнула соседка и отступила на ступеньку назад. – Кто это тебя так?
– Мамочка! – зло ответила я и поспешила в низ.
На улице я выбрала сугроб по белее, вымыла снегом лицо и почему-то не найдя в сумке носового платка, достала из упаковки гигиенический пакет и промокнула им свою исцарапанную физиономию.
Потом вышла на проспект и стала ловить такси. Почти сразу подкатила желтобрюхая «Волга». Я открыла дверь.
– Во Всеволожск.
Таксист подозрительно уставился на меня.
– Что, муж из командировки не вовремя вернулся? – ухмыляясь спросил он.
Я тоже криво усмехнулась. Время было раннее и я с расцарапанной рожей, с мазками крови на лице вместо свойственного всем женщинам утреннего макияжа, с одной сумкой через плече, действительно была похожа на женушку застуканную с любовником и избитую ревнивым мужем, «сюрпризом» явившегося из командировки.
– Нет, просто побрилась неудачно, – ответила я. – Так во Всеволожск поедем?
Таксист усмехнулся.
– А деньги-то есть?
– Полтинника хватит? – спросила я.
Водитель изобразил на лице надменное, профессиональное удивление ничтожной по его мнению суммой.
Я уточнила:
– Долларов, милый, долларов! Бумажки такие зелененькие, знаешь?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.