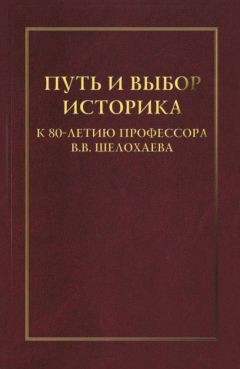
Автор книги: Сборник статей
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Статьи
К.А. Соловьев. Изобретая Левиафана
«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!», – так поучали Алису из сказки Льюиса Кэрролла. Валентин Валентинович Шелохаев бежит очень быстро, быстрее других. Он постоянно меняется в раздумьях и трудах. Сегодня он другой. И вновь изменится за время публикации этих строк. Постоянно задумывается о словах и понятиях, как будто самоочевидных, но в действительности туманных и загадочных. Гуманитарные дисциплины – это всегда игра в слова. Одни в них самозабвенно играют, другие пишут правила. Это те, которые предлагают свою трактовку, свои смыслы, свои определения. К последним как раз относится и Валентин Валентинович.
Одно из коренных понятий, чрезвычайно его интересующее и, разумеется, отнюдь не только его, – это понятие «государство». Обычно щедро сыплют это слово в любое исследование, посвященное всякому периоду какой угодно части света. Это вполне объяснимо. В этатистском мире XX столетия государство смотрелось столь же очевидным, как явление природы. Есть дождь, есть снег, есть море и суша, есть и государство. Видимо, когда-то его и не было. Однако историку доисторическое время совершенно не интересно. Он смотрит на мир гегелевскими глазами, отделяя исторические народы от неисторических.
Конечно, volens nolens приходится признавать, что политический быт даже недавнего прошлого заметно отличался от современного. В конце концов даже если «диагностировать» государство в странах Древнего Востока, античности или Средних веков, нельзя не заметить его своеобразия. Даже в Римской империи – с ее развитой инфраструктурой, сложно организованными институциями, всем известным правом – власть обладала весьма ограниченным арсеналом средств. Французский историк П. Вейн предложил своему читателю мысленно перенестись на два тысячелетия назад, представить себя в Италии времен принципата и оказаться свидетелем драматических событий. На маленькую ферму врываются вооруженные рабы могущественного и жадного соседа. Хозяйство разграблено, захвачено.
Бывший хозяин избит до полусмерти и изгнан. Его рабы покалечены или убиты. Как восстановить справедливость, будучи римским гражданином, будучи защищенным римским правом? На практике сам истец должен обеспечить явку своего обидчика в суд. Иными словами, тот должен быть схвачен, закован в кандалы, отправлен в частную тюрьму, где бы терпеливо дожидался решения суда. Конечно, подобный ход событий почти фантастичен. Предположим, случилось бы нечто удивительное и все выше перечисленное каким-то чудом удалось сделать. Наконец состоялось бы решение суда, благоприятное для обиженного жизнью и соседями хозяина имения. И вот тогда самому истцу предстояло бы привести приговор в исполнение. Он не мог рассчитывать на поддержку государства (если наличие такового вообще можно констатировать). В силу всех этих причин в Древнем Риме судились между собой преимущественно влиятельные люди. В суд шли кредиторы, рассчитывавшие вернуть свое. Так или иначе «закон давал лишь право на удар в социальном матче…»[294]294
Вейн П. Римская империя // История частной жизни. Т. 1: От Римской империи до начала второго тысячелетия. М., 2017. С. 196–197.
[Закрыть]
В данном случае проблема – не в феномене римского права (это предмет совершенно особого разговора), а в отсутствии привычного нам государства. Римская империя не знала столь понятной нам бюрократии, институтов государственной власти, распределения полномочий между ними. В связи с этим нет никакого смысла говорить об особой римской конституции. Власть принцепса сводилась к совокупности инструментария, не всегда очевидного читателю XXI в.: это авторитет, клиентела, система императорского патроната и др. В условиях начала первого тысячелетия граница между частным и публичным была чрезвычайно размытой[295]295
Уоллес-Хэдрилл Э. Императорский двор // Кембриджская история древнего мира. Т. X: Империя Августа. 43 г. до н. э. – 69 г. н. э.: В 2 полутомах. Полутом 1. М., 2018. С. 343.
[Закрыть]. При этом императорский двор отнюдь не был единственным центром власти в огромной державе. Так, в Сенате еще сохранялись республиканские традиции. В этом учреждении имелись и свои альтернативные полюсы силы[296]296
Там же. С. 348–349.
[Закрыть].
В Средние века государства стало еще меньше. По словам известного французского историка Ж. Дюби, средневековый мир – это утверждение частного за счет публичного. «В феодализируемом обществе территория публичного сужается, сжимается и что в финале этого процесса все становится частным, частная жизнь проникает повсюду». Это бесконечное рассеивание, дробление и даже крошение власти[297]297
Дюби Ж. Пролог. Власть частная, власть публичная // История частной жизни. Т. 2: Европа от феодализма до Ренессанса. М., 2015. С. 22–23.
[Закрыть]. В историографии этот процесс даже получил название «феодальной революции»[298]298
Там же. С. 24.
[Закрыть]. А что же тогда есть несжимаемое пространство государственной власти? Где государство, когда о нем еще не говорили, даже не подозревали о его наличии?
Существующие в правоведении и политологии определения в значительной своей части совершенно беспомощны. Они не выделяют коренной признак государственного порядка, а довольствуются совокупностью внешних, зачастую вторичных атрибутов, необходимых в последние столетия, но неизвестных прежде. Демаркированные границы, государственные символы, институт гражданства или подданства – все это близко и понятно нашему современнику, но не тем, кто организовывал общежитие в античности или в Средние века.
Не вдаваясь в пространные споры о сущности государственной власти, стоит остановиться на том определении, которое лишено многих обычных недостатков. В нем нет попытки скрыться за многословностью. В нем нет смысловых тавтологий. Это определение М. Вебера о государстве как монополии на легитимное насилие[299]299
Вебер М. Власть и политика. М., 2017. С. 254.
[Закрыть]. Сила этой дефиниции в том, что она основывается на обывательских ожиданиях от государства: от его внешнеполитического могущества, оберегающего спокойствие подданного от вторжения чужеземных армий; от полицейской мощи, как будто бы исключающей бандитизм как явление.
Коренная проблема в том, что веберовское определение отталкивается скорее от теории, нежели от практики. Начнем с того, что любая власть многослойна и не укладывается в жесткие рамки, прописанные законодательством. Как отличить власть и авторитет? Есть ли понятная и всеми принятая граница, отделяющая одно от другого? Ответ на этот вопрос очевидно отрицательный. Авторитет отца, любой религиозной институции или вероучителя предполагает власть, сопоставимую с государственной в глазах тех, кто его принимает[300]300
Марей А.В. Авторитет, или Подчинение без насилия. М., 2017. С. 42–43.
[Закрыть]. В конце концов любые социальные отношения сопряжены с господством и подчинением, а значит, и с осуществлением власти. Они могут быть прописаны в законодательстве, а может – и нет.
Это отнюдь не единственное из возможных возражений. Их может быть великое множество. Например, не стоит упускать из виду, что государство государству рознь. Одни относятся к числу великих держав, другие вынуждены терпеть вмешательство последних в свои внутренние дела. Есть транснациональные организации, объединения и даже партии, которые порой не замечают государственных границ. И таких со временем становится все больше.
Главная же проблема совсем другого свойства. Европейцы завели разговор о государстве в Новое время – тогда, когда инструментарий контроля, управления, подчинения в руках у верховной власти был чрезвычайно ограничен. Это не являлось секретом ни для самих монархов, ни для их ближайших сотрудников. Разговор о государстве протекал в обстоятельствах, отнюдь этому не способствовавших. Однако именно тогда, шаг за шагом, медленно, но верно складывалась мифология государственности – в текстах Бодена, Гоббса, Локка… Гегеля… Понятие «государство» долго и мучительно входило в политический лексикон европейских стран. Важнейший шаг в этом направлении был сделан Т. Гоббсом, который писал о государстве как об «абстрактной сущности»[301]301
Кревельд М. Расцвет и упадок государства. М., 2006. С. 222–224.
[Закрыть], которая никак не сводится к персоне суверена. Разумеется, в данном случае не может быть и речи о наивном этимологическом детерминизме. Появление понятия симптоматичное, но не решающее обстоятельство. Легко представить себе ситуацию, когда понятия нет, а явление все же есть. Бывает и обратное положение. И все же рождение слова не бывает случайным. Хотя в данном случае слова явно опережали дела. Не теории подстраивались под практику. Напротив, они сами формировали практику. Это позволяет говорить о преимущественно интеллектуальных корнях государственной власти. Можно поставить проблему иначе: у государства есть не только своя физика, но и метафизика, которая сложилась раньше.
В чем она заключается? Прежде всего, она противоположна обоснованию монархии. Та строится на наличии традиционной иерархии, которая по привычке считается залогом поддержания социального порядка. Монархия может вести за собой народ, может полагаться «сердцем» народной жизни[302]302
Марей А.В. Такое разное обаяние власти: российский контекст, христианская традиция и кастильский пример // Polystoria. Анатомия власти: государи и подданные в Европе в Средние века и Новое время. М., 2021. С. 393.
[Закрыть]. Важно другое: она самодостаточна. Монархия – не инструмент и не функция. Это ценность и традиция. Метафизика государства иного свойства. Государство как принцип универсально и рационально. Это машина, работающая согласно определенному алгоритму. Возможно, на практике это не так. В действительности личное усмотрение многое значит всюду и всегда. В данном случае важнее другое: государство заставляет верить в свое безусловное всемогущество, не сводящееся к воле одного отдельно взятого человека.
Разумеется, переход от одной метафизики к другой не был механическим и одномоментным. Он шел по мосту абсолютизма[303]303
Шмитт К. Понятие политического. СПб., 2016. С. 176.
[Закрыть]. Абсолютная монархия подняла государя на неведомую прежде высоту. Она объявила его гарантом законности, снабдила бюрократическим аппаратам. Такой монарх почти перестал быть человеком. Он должен был олицетворять высший принцип. Конечно, в этом было больше идеологии, чем реально осуществленной практики. Главное же, что все-таки было в абсолютизме, – это безудержная амбиция верховной власти при жесточайшем дефиците средств контроля и управления. Однако замысел содержал в себе провокацию. Он порывал с традициями феодальной Европы, которая бережно хранила средневековые привилегии. Абсолютная монархия должна была создать принципиально новое право. Здесь очень важно подчеркнуть модальность: должна была… При недостатке чиновничества, дорог, унифицированных правил это было невозможно. Зато сам замысел и попытки его осуществления несли в себе угрозу для действовавшего порядка и всех его бенефициаров. Проще говоря, абсолютизм подталкивал феодальное общество к протесту. В одном случае это могла быть Фронда, лишь способствовавшая укреплению абсолютизма, а в другом – Революция, утверждавшая совсем другой абсолютизм и на другом витке истории. Парадокс в том, что феодальная Европа творила революцию во имя собственного крушения. Абсолютная монархия была смятена ради того, чтобы дело ее было продолжено. Обновленное государство, как и прежде, делало ставку на тотальную рационализацию. В этом отношении оно было успешнее абсолютизма[304]304
Фюре Ф. Постижение Французской революции. СПб., 1998. С. 24.
[Закрыть].
Когда Венсан де Гурнэ (1712–1759) придумал слово «бюрократия», он, скорее всего, иронизировал. В его интерпретации бюрократия противопоставлялась всему тому, что казалось несомненной классикой политической мысли. Аристотель в качестве правильных форм правления выделил монархию, аристократию, политию. Гурнэ прибавил к этому еще бюрократию – власть бумагомарателей[305]305
Кревельд М. Указ. соч. С. 172.
[Закрыть]. В этой своего рода шутке была несомненная правда. Стиль работы чиновничества определял ритм государственной жизни и даже ее целеполагание.
Идея государства как будто бы вкрапливалась в монархическую и постепенно последнюю вытесняла. Показательно, что обаяние государства приходит вместе с разочарованием в империи. Универсальный порядок вызывает сомнения – надо учредить партикулярный. Когда возникнет сомнение в монархии, государственная идея зазвучит заметно громче.
* * *
Современность рождалась в XIX в. Тогда складывались понятия, которые в ходу до сих пор. Тогда складывались институты, за которые современный европеец (да и не только) судорожно хватается и сейчас. Наконец, тогда ставились проблемы, которые до сих пор не решены. Так, технический прогресс – острая социально-экономическая проблема именно XIX в. «Железные дороги – дело важное и великое. Это одно из орудий, которое дано человеку для победы над природой; глубокий смысл скрыт в этом явлении… в этом стремлении уничтожить время и пространство – чувство человеческого достоинства и его превосходства над природой»[306]306
В память о князе Владимире Федоровиче Одоевском. М., 1869. С. 105.
[Закрыть].
Из XXI в. XIX столетие может показаться эпохой классики: классического романа, классического танца, классической музыки. Эталоны XIX в. уверенно воспроизводятся до сих пор. Однако, тогда, в 1800-е гг., так не казалось. Напротив, два столетия назад европеец мало сомневался во вторичности того, что его окружало. Поразительно то, что, буквально раздвигая пространство современности, он смущался, всматриваясь в наследие предков. В этом заключается своего рода парадокс становления и развития научной мысли. С одной стороны, она способствовала техническому прогрессу, прежде неведомому в истории человечества. С другой стороны, открывала «перспективу» прошлому. Лишь в XIX в. история как особая дисциплина обрела претензию на научность. События прошлого стали объектом самостоятельного интереса, а, главное, эстетизации. Соответственно, драматически изменились представления об историческом времени, в которое вписывалось настоящее.
Естественно, прошлое подлаживалось под настоящее. Однако, вместе с тем, и настоящее менялось под действием исторических знаний. Так, историографические построения славянофильства оказывались неплохим политическим аргументом. На стыке этих двух, во многом противоположных процессов, складывался категориальной аппарат политики Нового времени. Иными словами, интеллектуал XIX в. одновременно модернизировал прошлое и архаизировал настоящее. Он придумывал слова, описывая события многовековой давности. Затем переносил их в современность, выстраивая целые концепции вокруг изобретенных понятий.
Одно из ключевых понятий того времени – монархия. Нет смысла специально рассматривать его роль и генезис в средневековых реалиях. Стоит лишь отметить одно: для Средневековой Европы монархия – институт пограничный между публичным и частным правом. С одной стороны, как уже отмечалось выше, само по себе Средневековье – тотальное доминирование частноправовых отношений. В это время борьба за власть – дело семейное. Человек Средневековья живет в двух открытых системах (церковь и империя) и в многочисленных закрытых, обусловленных его взаимоотношениями с индивидуальными и коллективными синьорами (феодалом, городом, общиной, приходом, корпорацией и т. д.). Королевская власть получала публичный характер благодаря своему сакральному характеру. Более того, именно церковь формировала публичное пространство. Характерна неразрывная связь юриспруденции и теологии. В Средние века, в период становления европейских университетов, они выполняли близкие задачи, росли вместе. Правда, теология была старшей сестрой.
Со временем роли поменялись. Монархия стремилась к расширению публичного пространства, что было равноценно расширению властных полномочий монарха. В то же самое разворачивалась «военная революция», следствием которой стало появлению регулярных, а значит весьма дорогостоящих армий. Дабы их содержать, требовалось совершенствовать фискальную систему. Ее в свою очередь могла обеспечивать более многочисленная и профессиональная бюрократия[307]307
Федосов Д.Г. «Военная революция» XVI–XVII веков // Всемирная история: В 6 т. Т. 3: Мир в раннее Новое время. М., 2013. С. 62–66.
[Закрыть].
К этой проблеме можно подходить и с другого конца. В результате «революции Гуттенберга» в западноевропейском обществе распространилась грамотность, усложнилась система коммуникаций. Соответственно, изменилась система управления. Она становилась более технологичной. При этом она в большей степени, нежели раньше, была обеспечена квалифицированными кадрами. Речь идет о важнейшей предпосылке формирования профессиональной бюрократии, которая остро нуждалось в государстве, способном его содержать.
Это все «кирпичики» в основании западноевропейского государства. Так или иначе, в XV–XVI вв. вокруг монархии начали складываться государственные институты, подразумевавшие совершенно иной уровень рационализации законотворчества и управления. До поры до времени такое государство было скорее «довеском» к монархии. Только лишь она была сакральна и легитимна. Это давало ей право претендовать на власть, однако теперь на принципиально новых основаниях. Теоретической базой новой, абсолютной монархии стала концепция полицейского государства, претендовавшего на тотальность господства над подданными. Едва ли есть необходимость доказывать, что для XVII–XVIII вв. это была правовая утопия. Однако такая идеология «взорвала» политическую реальность сословной Европы. Абсолютизм предусматривал революцию, весьма радикальную по своим последствиям. А.И. Герцен назвал Петра I «революционером на троне». Петр Великий – фигура несомненно яркая и самобытная. Однако такого рода революцию осуществил не только он, но и Ришелье во Франции, Яков I в Англии и др. В Дании мероприятия короля Фредерика III получили в историографии название «абсолютистская революция»[308]308
Малов В.В. Тенденции развития государственности: абсолютизм // Всемирная история: В 6 т. Т. 3. С. 482–492.
[Закрыть]. Их политика шла вразрез с многовековым правовым укладом феодального общества. Они сознательно нарушали привилегии сословий – во имя «общего блага». Причем, что такое «общее благо», решал монарх и его ближайшие сотрудники.
Таким образом, складывалось государство как теория и как практика. Задача максимум, стоявшая перед ним, – переоснование порядка, в чем старые сословия никак не могли быть заинтересованными. В то время как государство стремилось к полномасштабной рационализации политического пространства, сословия предсказуемо держались за status quo[309]309
Чудинов А.В. Истоки революции // Всемирная история: В 6 т. Т. 4: Мир в XVIII веке. М., 2013. С. 650–652.
[Закрыть]. Их идеологией стал в том числе либерализм, который подразумевал незыблемость хотя бы некоторых прав – на них не могло покуситься даже всемогущее государство. Если абсолютизм был революцией, то либерализм того времени в определенном смысле стал идеологией контрреволюции. Пускай это звучит чересчур парадоксально, но и Французская революция конца XVIII в. была, по сути, контрреволюционной. На начальном этапе это была борьба за сословные права, беззастенчиво ущемлявшиеся королевской властью.
Революция, конечно, сама себе в этом не признавалась. Напротив, в конце концов именно она проводила принципы, близкие абсолютистскому режиму. В их реализации революционное правительство было, пожалуй, более последовательным, чем король. Расправившись с монархом, оно сохранило абсолютистское государство. Однако теперь оно перестало быть «довеском» к монархии; оно получило самостоятельное значение. Правда, король был заменен нацией, столь же суверенной, как и он сам[310]310
Бовыкин Д.Ю. От старого порядка к новому // Там же. С. 655.
[Закрыть].
Политические процессы, запущенные революционной Францией, продолжались и в эпоху империи, и после крушения Наполеона. Более того, они приобретали особое ускорение, которое в общественном мнении прочно ассоциировалось с революцией. Теперь она разрушала привычный уклад сословной жизни. В общественной мысли революции противостояла легитимная монархия, на новом витке истории оказавшаяся защитницей традиции.
Это лишь упрочивало положение монархии. Она была оплотом порядка против эксцессов революции, которая в глазах многих дискредитировала себя драматичными событиями во Франции конца XVIII в. Монархия казалась естественным фактом политической жизни, подобно природным явлениям. Республика, напротив, смотрелась вопиющим нарушением такого порядка.
При этом упускался из виду тот факт, что монархия XIX в. мало походила на королевскую власть Средневековья. Верховная власть была институциональна обеспечена совсем иначе, что ее так или иначе ограничивало – фактически или даже формально. В сущности, монархия обеспечивала мифологию власти. За ее технологию отвечали иные институции.
Читающая публика XIX в. по-своему понимала и анализировала собственное столетие, интеллектуальные тенденции, для него характерные, новации, им привнесенные. Она не придавала значение тем поворотным точкам, которые современные исследователи склонны замечать. В то же самое время она усматривала те подвижки, которые на нынешнем этапе развития историографии кажутся несущественными. Она увлекалась, поддавалась модам, страстно обсуждала все то, что было принято обсуждать читающей Европой.
Мыслитель, писатель и вместе с тем государственный служащий В.Ф. Одоевский сравнивал в высшей степени популярного на тот момент Ф.В. Шеллинга с Христофором Колумбом. Немецкий философ в XIX в. совершил открытие, сопоставимое с тем, что сделал мореплаватель в XV столетии. Колумб открыл Америку, а Шеллинг – душу человека, а следовательно, новые перспективы для мысли и творческого поиска, для понимания общественной и государственной жизни[311]311
Одоевский В.Ф. Русские ночи. Л., 1975. С. 16.
[Закрыть]. Девятнадцатый век – время сентиментальное, само подмечающее в себе это свойство и его культивирующее.
В данном случае важно не только замечание, но и человек, его сделавший. Для современного читателя князь Владимир Федорович Одоевский (1803–1869) так и остается на задворках литературного процесса. Знают о нем заметно меньше, чем о многих его коллегах по цеху. Это побуждает хотя бы к краткому экскурсу в биографию автора. Князья Одоевские – из Рюриковичей, принадлежавших к ветви Новосильских. Среди предков и родственников много известных лиц: князь Михаил Всеволодович Черниговский, замученный монголами в XIII столетии, или же граф Л.Н. Толстой, не нуждающийся в особом представлении. В 1822 г. Одоевский окончил Московский университетский пансион с золотой медалью. Там он, как и многие другие, попал под влияние философии Шеллинга. Это было общее настроение учащейся молодежи тех лет[312]312
Сумцов Н.Ф. Князь В.Ф. Одоевский. Харьков, 1884. С. 5–6.
[Закрыть]. С 1823 г. Одоевский посещал литературный кружок С.Е. Раича, среди завсегдатаев которого были М.П. Погодин, С.П. Шевырев, Ф.И. Тютчев и др. Раич был известным переводчиком и воспитателем Тютчева. Одоевский участвовал в работе одних кружков, создавал другие. В том году вместе с Д.В. Веневитиновым он основал Кружок любомудров. Те любили мудрость преимущественно немецкого извода. Собрания прекратились вместе с восстанием декабристов. Любомудры не хотели навлечь на себя правительственный гнев. И все же на петербургской квартире Одоевского продолжали встречаться многие известные лица: Глинка, Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Крылов, Вяземский и др.[313]313
В память о князе Владимире Федоровиче Одоевском. С. 57.
[Закрыть]
В 1822–1823 гг. Одоевский начал и литературную деятельность. Тогда он поместил в журнале «Вестник Европы» серию статей «Письма к Лужицкому старцу». Публиковался под псевдонимом Фалалей Повинухин. Среди текстов был очерк нравов московской аристократии. Этот фельетон перекликался с комедией А.С. Грибоедова «Горе от ума», которая была написана примерно тогда же. Грибоедов узнал имя автора, познакомился и сблизился с ним. Их объединяло многое: и литература, и музыка[314]314
Сумцов Н.Ф. Указ. соч. С. 7.
[Закрыть]. В тесном кругу общественности первой четверти XIX в. судьбы едва ли не всех литераторов не раз пересекались друг с другом. Так, в те же годы Одоевский вместе с В.К. Кюхельбекером создал журнал «Мнемозина»[315]315
Там же. С. 8.
[Закрыть].
Литературный талант был востребован на государственном поприще. Одоевский поступил на службу во II отделение С.Е. И.В. Канцелярии, где работал под началом графа Д.Н. Блудова. Там участвовал в подготовке цензурного устава. Некоторое время спустя перешел на службу в публичную библиотеку, где его начальником был М.А. Корф. Одоевский стал его помощником. Впоследствии сам стал директором Румянцевской библиотеки. Наконец, в 1862 г. Одоевский был назначен сенатором. «Люди, мало [его] знавшие… едва поверят, что этот музыкант, беллетрист, человек, охотно посещавший частные и публичные собрания, вел постоянно, аккуратно, своей рукой журнал всем делам, в решении которых в Сенате он принимал участие; до двадцати толстых книг такого журнала доказывают, как добросовестно… исполнял свои служебные обязанности»[316]316
В память о князе Владимире Федоровиче Одоевском. С. 5.
[Закрыть].
О нем можно сказать многое: Одоевский был химиком, инженером, физиком, библиографом… И все же, в первую очередь он был музыкантом, литератором и самобытным мыслителем, блестящим знатоком современных тенденций в европейской философии[317]317
Рудницкая Е.Л. Лики русской интеллигенции. М., 2007. С. 135.
[Закрыть].
Констатировав великое открытие Шеллинга, Одоевский подверг безжалостной критике научное знание, которое тщится разобраться в законах общества и природы. Препарируя поэзию, оно убивает ее. А «поэт – первый судия человечества. Когда в высоком своем судилище, озаряемый купиной несгораемой, он чувствует, что дыхание бурно проходит по лицу его, тогда читает он букву века в светлой книге всевечной жизни, провидит естественный путь человечества и казнит его совращение»[318]318
Одоевский В.Ф. Указ. соч. С. 22–23.
[Закрыть]. Одоевский замечателен своей вовлеченностью в современный ему интеллектуальный процесс, охвативший всю мыслящую Европу. Он чутко ощущал последние тенденции, знал сочинения наиболее модных авторов, к месту употреблял недавно придуманные слова. В его текстах – предельная концентрация философской мысли не только России, но всех ее соседей по континенту.
Поэзия смотрелась Одоевскому альтернативой популярным рациональным теориям, осколкам эпохам Просвещения. Поэзия ухватывала суть, они смотрели по сторонам. Поэзия видела целое, они дробили его на части. Во всех эти теориях была своя ложь, потому что они видели лишь часть правды. Особое значение Одоевский придавал Т.Р. Мальтусу и его учению, в основе которого было признание критического несоответствия демографического роста и производительных способностей человечества. В своих «Русских ночах» Одоевский предложил читателю своего рода «антиутопию». «Наступило время, предсказанное философами XIX века: род человеческий размножился; потерялась соразмерность между произведениями природы и потребностями человечества». Вся планета превратилась в один большой город, который тяготила тотальная нищета. «В каналах, в реках, в воздухе – везде теснились люди, все кипело жизнью, но жизнь умерщвляла саму себя»[319]319
Там же. С. 54.
[Закрыть]. В обществе, страдавшем от голода, болезней, а главное, поразительной тесноты, изменилась мораль. Представления о добре и зле перевернулись. «Каждый в собрате своем видел врага, готового отнять у него последнее средство для бедственной жизни; отец с рыданием узнавал о рождении сына; дочери прядали при смертном одре матери; но чаще мать удушала дитя свое при рождении, и отец рукоплескал ей. Самоубийцы внесены были в число героев. Благотворительность сделалась вольнодумством, насмешка над жизнию – обыкновенным приветствием, любовь – преступлением». Власти всячески стремились воспрепятствовать продолжению рода. Можно было наблюдать, как толпа неслась за человеком, совершим страшное преступление. Он спас человека, бросившегося в море. Другие встали наперерез толпе. Видимо, полного единомыслия в обществе еще не было. Один из гнавшихся закричал: «Что вы защищаете человеконенавистника? Он эгоист, он любит одного себя!»[320]320
Там же. С. 55.
[Закрыть]
В «Русских ночах» нашлось место и другой популярной теории – утилитаризму. Объект критики – Дж. Бентам, свято веривший, что всех людей объединяет общий принцип – следование исключительно собственной пользе[321]321
Там же. С. 63.
[Закрыть]. В воображении Одоевского рисовался остров, где утилитаризм стал почти религией. В его центре был поставлен золотой памятник Бентаму, на котором большими буквами было написано: «польза». Именно польза каждого становилась мерилом всех вещей. Колония до поры до времени процветала. «Общая деятельность превосходила всякое вероятие. С раннего утра жители всех сословий поднимались с постели, боясь потратить понапрасну и малейшую частицу времени, – всякий принимался за свое дело: один трудился над машиной, другой взрывал новую землю, третий пускал в рост деньги – едва успевали обедать»[322]322
Там же. С. 64.
[Закрыть]. Бентамия, так называлась эта страна, нещадно эксплуатировала соседей и в итоге полностью подчиняла их своей власти, непокорных же физически истребляла. Ведь все это несомненно соответствовало пользе колонистов. Бентамия стала великой державой и столкнулась с такими же могущественными государствами. Стоило ли их подчинять своему владычеству? По этому поводу существовали две противоположные точки зрения. Причем обе строились на представлении об общественной пользе. Проблема заключалась в том, что под общественной пользой понималась собственная, которая у каждого была своя. В итоге государство распалось на две части. Это ударило по благосостоянию всех бентамитов. В условиях нарушенного баланса каждый хотел его восстановить за счет соседа. Интересы граждан сталкивались. Одни обогащались, другие беднели, конфликты нарастали. Правившие страной философы тщетно напоминали соотечественникам о принципах Бентама. Своего они не добились, зато вызвали сильное раздражение у колонистов. Купцы выгнали философов и заменили их во главе правительства. Восторжествовал «банкирский феодализм», все подчинивший коммерческой выгоде. Науки и искусства были забыты. Пророк, обличавший этот город, был заключен в сумасшедший дом. Правда, его слова в скором времени сбылись. Город исчез с лица земли в результате природных ненастий[323]323
Одоевский В.Ф. Указ. соч. С. 67–70.
[Закрыть].
Мальтузианство, утилитаризм – бесплодные умствования. Жизнь сложнее. В ней есть своя логика, рассуждая о которой Одоевский невольно вторил А. Смиту. Кризисы – это не естественное состояние вещей. Они – следствие, скорее, внешних обстоятельств. Так или иначе общественная жизнь саморегулируется. В ее основе баланс интересов. Одоевский верит и в механику государственного насилия.
В 1834 г. была опубликована сказка В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке» – пожалуй, единственное сочинение автора, которое читают и помнят не только историки литературы. Как будто бы речь идет об элементарной детской сказке, раскрывающей устройство музыкальной шкатулки. Мальчик Миша чудесным образом оказывается внутри этого нехитрого механизма. Он очутился в особом городе со своими правилами, сословиями и даже правительством. В первую очередь Миша знакомится с колокольчиками, которые беспрестанно ему жалуются на свою тяжкую долю. По ним регулярно безжалостно стучат дядьки-молоточки. Впрочем, и тех винить не приходится. К насилию их побуждает ленивый валик. Но и он не волен в своих действиях – подчиняется движениям пружины. Страстно желая справедливости, Миша не мог не нажать на нее и в итоге к общему несчастью весь механизм разладился. Как это часто бывает, в роковой миг главный герой проснулся. Именно такое развитие сюжета спасло его от напастей общегородской (а может быть, даже и общемировой) катастрофы и заставило задуматься об устройстве шкатулки. Отец же посоветовал Мише вплотную заняться изучением механики.
В данном случае автор прибегает к элементарной аллегории, за которой стоит целая система образов. Городок в табакерке – особое государство, скорее, идеальное по своему устройству. В нем каждый выполняет особую функцию, каждый приносит свою пользу, а механизм функционирует к общему удовольствию. Все было бы не так интересно, если бы не конфликт, заложенный в сказке. Миша вместе с мальчиками-колокольчиками возмущается социальным притеснением, имевшим место в городке-табакерке. Однако выходит, что за это несчастье никто персонально ответственности не несет. Более того, имевшее место насилие оказывается необходимым условием всеобщего благоденствия. При этом общее благо – не совокупное счастье всех и каждого. Каждый по-своему страдает, но механизм работает. Главное все же в другом: устойчивый порядок становится очевидным только в том случае, если изучить всю государственную механику, а не отдельные ее элементы. Лишь тогда станет ясным, какова логика функционирования целого. Причем государство, аллегорически описываемое Одоевским, безлично. Это машина, лишенная эмоций и страстей.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































