Читать книгу "Magnum Opus"
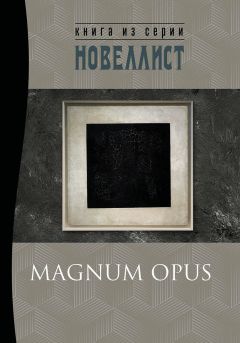
Автор книги: Сборник
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Magnum Opus

© Перископ-Волга, 2020
Басти Родригез-Иньюригарро
Стихи/прозу писец, на гитаре как попало игрец, по очевидным причинам нарцисс. Автор полутора романов. Биографию не расскажешь трезвым и вне художественного текста.
Имя звучит уменьшительно-ласкательным, но предпочитаю данное при крещении «Себастьян». Не люблю, когда фамилию принимают за псевдоним. Не люблю, когда из-за фамилии начинают за всякой строчкой слышать кастаньеты. Иногда это не кастаньеты, а кости. (Игральные, а вы что подумали?). Любой текст – отчасти байопик, но порой голос протагониста – не голос автора. Вот такая засада. Никто не обещал отсутствия тумана.
В чистилище с приветом
Эхо, Виа и Ала – так звали моих старших сестёр. «С приветом», – комментировал я, представляя друзьям моё семейство, что, по чести, случалось не так уж часто. Не торопитесь с выводами, друзей у меня было много – всех в лицо не упомнить – и было их много именно потому, что я не рвался приглашать людей в жилище, где по нелепому стечению обстоятельств, обычно называемому рождением, обитал сам.
«С приветом». Что я имел в виду? Если стремиться к упрощению, то намекал я на состояние ума той склочной бабки, не заслуживающей титула «старая ведьма», той не по росту заливистой хабалки, упорно считающей себя моей матерью.
Если стремиться к упрощению… К упрощению жизни я, может, и стремлюсь: всегда гордился особой разновидностью патрицианской лени, заставляющей пребывать в движении, прилагая минимум усилий и ничего толком не делая. Что же касается интерпретации оговорок и устоявшихся оборотов речи, предпочитаю благородной скупости дорического ордера путаную коринфскую поросль, надстройки и наслоения.
«Приятель, так выглядит твоё чистилище», – сказал я себе на десятом году жизни, покачиваясь на границе душного коврового сумрака, на пороге вытянутой комнаты, где мы жили вчетвером, где растения на подоконнике ненужностью и убогостью соперничали с моими сёстрами, где паласы, место которым на помойке или в музее ужасов мещанского быта, пожирали стены, где подобия личных спален создавались клеёнчатыми душевыми занавесками, где старуха, с раздражающей настойчивостью именующая себя моей матерью, вопила на дочерей просто потому, что могла. Из старухи в женщину она превращалась только когда молчала, чего, как вы догадываетесь, почти не бывало.
– А ведь если убрать эти, с позволения сказать, ковры… – затянул я.
– Голый бетон! – завизжала «домовладелица». – Голый бетон! Там голый бетон, бетон, бетон!
– Бетон, тон, тон, полутон, – передразнило трюмо.
Естественно, за руладами о финансовой несостоятельности сестёр, неспособных потратиться на обои, новую мебель и переезд (младшая, Ала, едва закончила школу), голоса трюмо никто не услышал. Моё серое отражение закатило глаза – серое из-за пушистого слоя пыли: в квартире проходила уборка.
В квартире всегда проходила уборка, а грязь и бардак лишь разрастались. «Каторга от карги» – так я это называл. Сёстры мои не имели права лишний раз ступить за порог: «Куда намылились? Дома не убрано!» – а внутри царила старуха: без её многовековой инструкции на форте и бессрочного порицания на фортиссимо не обходилось даже выжимание тряпки.
Не стоило заводить песню про «убрать ковры». Бросив извиняющийся взгляд на старшую, Эхо, десятилетний я отрапортовал:
– Дела. Вернусь вечером.
– Куда ты, голодный? – возопила карга.
Виа метнулась на кухню строгать бутерброды, чтобы потом получить на орехи за то, что неэкономно резала, но я кивнул трюмо и ринулся вниз по лестнице, не закрыв дверь.
Меня все любили: чтоб меня не любить, надо быть существом исключительным. Другое дело, что сёстры любили меня бескорыстно, а карга – по-своему, и трупный яд этой привязанности заключался даже не в вольностях, которые сёстрам не снились, не в праве не участвовать в уборке, не в квохтанье, не менее противном, чем визг.
Старуха обожала видеть меня больным, дрожащим под одеялом, беспомощным, неспособным отодвинуть ложку с супом, тыкающуюся в губы. Полагаю, окажись я прикованным к инвалидному креслу, карга прониклась бы прелестью прогулок на свежем воздухе: катала бы меня по двору, исходя гордостью и кудахтаньем.
И что вы думаете? Не было дня, чтоб я не ощущал хоть какого-нибудь недомогания: лёгкой тошноты, медленно крадущейся головной боли, ломоты в суставах. В школе я прослыл очаровательно-капризным, потому как, глядя на ровный цвет и здоровую округлость моего личика, поверить в надоедливые симптомы было нельзя.
А ещё карга меня стригла. Машинкой. Повизгивая о том, какой я красавчик, каким аккуратным ей удаётся выпускать меня из дома, несмотря на тяжёлые условия. Не то чтоб во время сей процедуры я претерпевал смертный ужас и адские муки, но отдавал себе отчёт: с ёжиком – причёской, уравнивающей обладателя пружинистых кудрей с теми, кого природа одарила менее щедро – я становлюсь аккуратным, благообразным, менее заметным. Даже наэлектризованная синева радужки меркнет, блекнет, стремится к обыденности.
Сквозь пушистую пыль трюмо я порой мерещился себе остервенело длинноволосым – так детское сознание определяло каре, ниспадающее на плечи. По мне, это было слишком, но я клялся, что вырасту, и тогда волосы закроют хотя бы уши.
«Приятель, так выглядит твоё чистилище, – повторил десятилетний я, выкатываясь на лестницу, – чистилище с приветом».
Хохотнул и оттаял. Непохожесть на семейство – будто краски на разной основе замешивали, будто лепили, опираясь на иное учение о пропорциях, будто поселили в одной каморке два, а то и три биологических вида, странные имена моих сестёр, трюмо, не лезущее за словом в ящик, – что-то из перечисленного должно было считаться приветом неизвестно откуда. В чистилище лучше с приветом, чем без оного.
* * *
– Почему ты не уедешь?
Двенадцатилетний я пристал с этим вопросом к Эхо, которая полушёпотом читала мне на ночь. Лампа на прикроватной табуретке шипела и дребезжала от накала проволоки, но свет её завяз в зыбучем песке, в трёх пыльных зеркалах, где в полумраке метались призраки, не отражения.
Отсек за клеёнчатой занавеской, между трюмо и дверью, я выманил, выцыганил, поймав каргу в силки сомнений: откуда больше дует, с лестницы или из окна? В итоге к раме, давно утерянной под вздувшимися полосами газетной бумаги, поселили Алу. Последняя не жаловалась.
– Почему я не уеду… А куда?
– Неважно, куда.
– Ты прав, загляденье. Неважно. Хоть замуж в соседний подъезд, хоть в другой город без гроша в кармане.
– Так почему ты не уедешь?
Спрашивал я не с праздным любопытством и не из сострадания к Эхо. Сочувствие, безусловно, имело место, но никогда мною не руководило. В ответах сестры я надеялся увидеть ключ к самому себе. Почему я ещё не сбежал? Почему ни разу не ночевал на отшибе города, в том не внушающем доверия торговом центре, который пленил меня лубочным колоритом востока и ежедневно сменяющимися иероглифами на вывеске химчистки под самой крышей, чей желтеющий пластик казался собранным из кристаллов прозрачного кварца на контрасте с грубыми перемычками? Ведь была мысль. Не только мысль – был план, проработанная стратегия. И всё-таки я оставался.
– Мама меня не простит, если уйду. Знаю, я имею право – как это говорится – «на собственную жизнь». Но что-то сидит внутри. Она ведь думает, что права. Ей ничего не объяснишь. Для неё мой уход будет предательством, значит, и для меня тоже. Ведь главное – не что происходит, а как это воспринимают. И я боюсь, что не смогу, не захочу жить с камнем на шее. Ты скажешь, что чувства других от нас не зависят, так зачем дёргаться? Но по мне, раз мы эти чувства вызываем, значит, и ответственность за них несём. Может быть, во мне говорит врождённая, иррациональная любовь.
– Да не любишь ты её. И она тебя не любит.
– Но никогда в этом не признается. Даже самой себе. Выходит, главное – не то, что люди чувствуют, а то, как они это называют.
Я фыркнул и уставился на тени в трюмо. Допрос мне ничем не помог. Груза ответственности за чувства карги я не ощущал, от слова «мама» передёрнулся, совесть, если таковая имелась, молчала.
– Почему я не бегу в никуда? – спросил я той же ночью, в кромешной темноте разрывая носом пушистую пыль и тыкаясь в холод зеркала.
– В никуда, – передразнило трюмо.
– Да уж, уходить в роскошный закат по ковровой дорожке приятней, чем в никуда, – отозвался я. – Совсем хорошо, если дорожка – не из тех пародий на ковры, что у нас висят по стенам. Не представляю себя работающим за гроши в какой-нибудь забегаловке или подъедающим надкусанный хлеб, не представляю себя в роли автостопщика… А впрочем, как сейчас, я себя тоже не представляю. Живу – и не представляю. Чем я избалован? Ежедневным душем под аккомпанемент воплей о том, сколько кубометров воды тратят сёстры? Пожалуй, всё. Я и без душа могу, если прижмёт. Не хочу, но могу. Значит, завтра бежим?
– Бежим.
– Ну дожили, я говорю о себе во множественном числе. Самомнению можно только завидовать.
* * *
В ту ночь мне снилась наша общая комната, но без ковров, без клеёнчатых занавесок, без горшков с никому не нужными растениями на подоконнике, зато с внезапным переплетением веток за стёклами. Из мебели остался только продавленный, потёртый, когда-то красный диван, на котором обычно спала Ала. На фоне голого камня стен он смотрелся уместней, чем прежде. Камня? Спящий мозг всполошился и решил, что обои скроют несостыковку – текстильные, шелковистые обои, кажется, тёмно-зелёные, впрочем, в полутьме не разобрать. Деревья за окнами при попытке их рассмотреть превратились в резные наличники.
– Что и требовалось доказать. Продолговатая комната ещё не приговор. «До чего же я падок на красоту видимого мира», – сказал я вслух.
– До чего тебя довели, если это ты называешь красотой, – передразнило трюмо.
Утром я никуда не побежал, потому как проснулся посреди истории, конец которой мне было любопытно узнать: Ала исчезла.
«Давно пора», – подумал я, но сам себе не поверил: на предмет ухода из рабства все мои сёстры имели одинаковые соображения: «Знаю, но не чувствую, что оставить маму правильно». То есть, событие относилось к категории из ряда вон выходящих.
Через пару дней до нас доползли слухи: Ала, должно быть, «зависла с мальчиком», Алу видели в парке, на улице, на чьей-то лестничной клетке… Правда, описать внешность «мальчика» никто из очевидцев не взялся. Отчасти из-за того, что карга перебивала и лаяла: «Не может такого быть» и «не так она воспитывала своих девочек».
Я тоже видел Алу: примерно через неделю после пропажи. В скверике, неожиданно буйно расцветшем, она разговаривала сама с собой, верней, с пустотой напротив себя – грязная, истощённая, упоительно счастливая. В тот миг я понял, что если и не люблю её по-настоящему, то испытываю к ней глубокую симпатию, посему не стал хватать её за руку и волочь домой или в ближайшую поликлинику.
На следующий день каргу и моих сестёр вызвали на опознание тела.
* * *
– У неё был прокол между лопаток, – сообщила Виа по секрету. – Как будто длинную иголку вогнали.
– Или спицу? – я поёжился, но оживился.
Всегда боялся уколов – кровь не могу сдавать без обморочной слабости, но смерть Алы была окутана тайной, и я жаждал подробностей.
– Это ж какой крепкой и тонкой должна быть спица… И какой силы удар!
* * *
– Что же это была за спица… – повторял я в кромешной тьме, разрывая носом пыль на трюмо, восхищаясь силой собственной воли: тянет чихать, но не чихнул ни разу. – Что за спица…
– Не знаю. Под руку подвернулась, – отозвалось невидимое отражение.
Я включил лампу, которая тут же предательски задребезжала. Хотел смахнуть пыль одеялом – неважно, что через минуту осядет обратно, словно не трогали. Но в лишних движениях не было нужды – я и так вышел из левой створки трюмо, бесшумно ступил на пол, скользнул в жёлтый шар слабого света.
Я… Нет, не я.
Он.
Тот, что прятался за пыльной зеркальной гладью, тот, чей силуэт я привык ловить в пушистом стекле, не был ни мной, ни моей копией. Различия между нами не ограничивались моей плотностью и его серой, облачной, насыщенной призрачностью. Присматриваясь к абрису лица, мимике, острым контурам тела, я всюду находил несвойственные мне черты, и всё же он более походил на меня, чем так называемое семейство. Не было лепки по противоречащим друг другу канонам, не было подозрения, что в одном круге света сошлись представители разных биологических видов. И это при нашем-то раскладе.
– Ты убил Алу?
Я скорей констатировал факт, чем задал вопрос. Получив кивок, уточнил:
– Она была счастлива?
– До последней минуты. Она мне разрешила. Очень любила тебя. Ну, это не повод для изумления.
Я и не изумлялся.
– Она была нужна тебе, чтобы выйти? Стать менее невидимым? Закон сохранения энергии?
– Чтобы связно поговорить. Вылазка – уже импровизация. На Алу меня хватало, а до тебя, похоже, так хотелось докричаться, что получалось в год по чайной ложке. Не столько закон сохранения энергии, сколько закон подлости. Ты бы зашёл в химчистку с иероглифами, каждый день туда шляешься, а внутрь…
– Ты чего не спишь, милый? – визгливо закудахтало прямо над ухом.
– Не смей произносить слово «милый» в моём присутствии, – от жалящего льдом гнева зашатался дом, стены просели в землю под ударами незримого молота. – Кто угодно, только не ты.
Каргу отбросило. Что толку? Мой призрачный визави исчез за матовой пылью, укрывшей зеркальный глянец.
* * *
Лучи рассвета сопровождали меня, разумеется, не в школу, а в тот сомнительный торговый центр на отшибе города. Кроме лучей, компанию мне составлял недавний сон о метаморфозах комнаты, где из трюмо прилетело: «До чего тебя довели, если это ты называешь красотой». По форме – подкол, по сути – болезненный выдох, вполне применимый к истории, что связывала меня с химчисткой под пластиковой крышей.
Почему я вообще решил, что там химчистка? Чехлы с пальто, пиджаками и платьями, видневшиеся за стеклянной дверью – это, конечно, повод, но моя убеждённость питалась запахом, верней, полным его отсутствием. На первом этаже правили бал благовония и нафталин. На втором – кипящее масло и фарш, что пробуждало голод при первом вдохе и отвращало при всех последующих, но третий этаж отменял все ароматы – даже мой собственный, чему я был рад, ибо успел возненавидеть ментол, доминирующий в геле, коим мне полагалось мыть и тело, и голову.
«Вывеска» – чересчур громкое название для ватмана, приклеенного к стеклу скотчем, зато ежедневная смена иероглифов на раскатанном бумажном листе в своё время представилась мне верхом загадочности и утончённости. Я настолько жаждал быть приворожённым, что приложил к делу все мыслимые усилия и довёл себя до замираний сердца, до нервной дрожи, которые накатывали уже на подлёте, на первом этаже, на этапе пластмассово-синтетического востока.
Любопытство оказалось важней очарования тайны: я взялся осваивать кандзи и хирагану, рискуя обнаружить, что на ватмане писали что-то вроде: «Акция. Конь в пальто! Приведи друга – получи скидку», но первые опознанные слова расползлись улыбкой умиления – на дверях химчистки сменяли друг друга стихи. Дальше ежедневной расшифровки ребусов мой японский не пошёл.
В то утро, поднимаясь по лестнице, я думал о том, что совет моего ночного визави – неожиданность хотя бы потому, что вообразить его на фоне готической резьбы окна было проще, чем у двери с иероглифами. Впрочем, мне ли не знать, что эклектика, контрастное смешивание, выход за собственные пределы, поверхностное обрастание элементами, не свойственными основному каркасу, дарует если не открытия, так разнообразие? Тут я представил призрачного гостя в кимоно и не без удовольствия захихикал.
Ватман встретил меня лирикой с философским уклоном:
«Забудусь сном – вижу тебя, проснусь – видением предо мной мелькаешь, а сам наш мир – пустая скорлупа цикады – он ли не сон?».
– Есть в мире странные сближения, – с этими словами я толкнул дверь.
Сначала мне показалось, что пространство, куда я попал, необитаемо, если не считать вешалок с чехлами, чьи плотные ряды формировали изогнутые ходы – шуршащий и шелестящий лабиринт от пола до потолка. При ближайшем рассмотрении под паутинкой неизвестной, ласкающей пальцы материи, обнаружились не только пуховики, деловые тройки и платья из тех, что я регулярно видел на улице. Подавляющую часть скрываемой чехлами одежды я принял бы за карнавальные костюмы – уж больно хорошо сохранились, да и откуда тут взяться историческим раритетам со всех концов мира? А смелые эксперименты модных домов здесь что забыли? Но сквозь паутинку ладони мои окутывала спокойная, не предъявляющая и не требующая доказательств подлинность.
Миновав лабиринт очищенных образов, я упёрся в массивный узел на женском затылке. Та, кого логично было принять за хозяйку сего заведения, сидела за ободранной партой, словно из моей школы спёртой, и черкала в толстой тетради – вела то ли расчёты, то ли хронику. Стопка чеков у её локтя поражала пестротой форм, текстур и оттенков. От падения сию конструкцию удерживала спица, пробившая насквозь и лоскутную башню, и столешницу.
Не оборачиваясь, не отвлекаясь от тетради, хозяйка отвела в сторону свободную ладонь: на шнурке, опутывающем безымянный палец и мизинец, болталась ладанка или просто мешочек.
– За этим пришёл? Что молчишь? Догадываешься, от кого привет? Передай ему, чтобы спицу вернул. Клептомания – качество полезное, но не настолько же… Да шучу я. Делать мне нечего – спицы считать. Не нашёл более подходящего инструмента? Бывает. Себя толком не втащил – какой уж тут личный арсенал. Передай ему то, что он сам знает: инструменты расхолаживают. Надо иногда обходиться без них. С другой стороны, зачем лишний раз напрягаться, раз уж «под руку подвернулось»? Ты со мной согласен? Спрашиваю: за этим пришёл?
Я счёл за благо ответить утвердительно.
– Ну так бери.
Шнурок соскользнул с пальцев, стоило потянуть за ладанку, а вот взглянуть в лицо собеседницы я не успел: резкое движение головой – и узел на затылке развязался, волосы закрыли профиль.
Уважая режим инкогнито, я занялся мешочком, из которого на руку мне выпала пара камней, обтесанных, отшлифованных водой или ветром.
Выяснять, действительно ли камешки не то, чем кажутся, не было необходимости, а вот пролить свет на некоторые детали хотелось.
– Щелкунчик не разжуёт… – протянул я.
Живописно длинная спина, до сего момента изогнутая ради парты не по росту, выпрямилась.
– Неплохо, – голос предполагал ухмылку. – Сразу понял, что цацки – для внутреннего употребления. Быстро познаёшь материю на глаз и на ощупь. Такая прочная связь с видимым миром – удача, но и, как твой брат выражается, засада. Щелкунчику не по зубам, это точно. Зато растворяются в шести-семи унциях любой жидкости. Без привкуса, без запаха.
– Значит, яд? – я с наслаждением покатал камушки в руке. – Или, как всегда, дело в дозе?
– В дозе, но тут не без сюрпризов, – дама заметно оживилась, будто мы наконец коснулись единственной интересующей её темы. – Растворишь один – вода станет отравленной, и выпивший её умрёт через четверть часа. Используешь два, одновременно или по очереди – тело не усвоит, почки поспешно выведут. Никаких последствий.
– Остроумно. Яд по мере употребления становится противоядием. Они идентичны по весу и свойствам, но отменяют воздействие друг друга, – восхитился я. – Если только не положить их в разные чашки.
– Не спросишь, что тебе с ними делать?
– Нет.
– Ну и молодец. Откуда мне знать, для чего они тебе пригодятся?
Уходя, уже открыв стеклянную дверь, я обернулся и послал голос блуждать по тканевому лабиринту:
– Если увидите его раньше меня, передайте привет. В любом чистилище лучше с приветом.
Я вовсе не сходил с ума от странностей. Я чувствовал себя дельфином в воде, полярным сиянием в термосфере, репатриантом. Душок абсурда пропитывал двенадцать лет жизни в царстве карги, но не события последней недели.
Владелица «химчистки» назвала призрачного гостя моим братом? Аминь. Его братом мне нравилось быть. «Нравится» и «не нравится» – единственные факторы, действительно имеющие значение.
Впрочем, какое движение будет следующим, я решительно не представлял. Гулял от скверика к скверику – урбанистическая романтика хороша, пока выхлопные газы не въедаются в лицо и носоглотку – и недоумевал: два камушка в ладанке, две сестры в одной комнате. Жаль их, конечно, но не в том проблема. Допустим, Виа отдаст краски, Эхо – телесность, но как передать их призрачному гостю? Вот его и надо спросить, додумался я к вечеру, и понёсся домой. То есть, к трюмо.
* * *
К трюмо, которое я нашёл слепым, изуродованным, замурованным – разбитым.
Карга симулировала разрушительную истерику обезумевшей от горя матери, вопила, что Ала была её радостью, светом в окошке, а «эти бездушные твари» никогда не поймут её боли, как смеют они её удерживать, успокаивать… Что любопытно, нетронутые ковры так и висели по стенам. Не пострадал ни один ящик под трельяжем, не подверглось нападению погнутое зеркало в ванной. За выходку (будем честны – за выход) того, кого мне хотелось называть братом, расплачивалось только зеркало триединое.
Через неделю карга достала машинку и завела свою песнь влюблённой жабы о том, какой я аккуратный, несмотря на тяжёлые условия, и тут я понял, что не один.
Я не видел его, но чуял, что вплотную ко мне, умостившись на том же колченогом стуле, ныряя призрачными руками в предгрозовые волосы, мой брат (но не отражение и не копия) корчился в суеверном ужасе, ибо для него стрижка подразумевала не символическое действо, интерпретация которого зависит от эпохи и местности, а конкретный ритуал, чудовищный в своей прямолинейности, и он просто не хотел, чтобы это происходило со мной.
«Обрастать долго, – заговорил я полушёпотом, – но рано или поздно я стану похож сам на себя. Что тогда? Боюсь, мне кудри ниже челюсти будут мешать. Самому равнять кончики? А если придётся поправлять форму – занимать деньги у Эхо, искать приличную парикмахерскую? Это тебя не шокирует? Нет настолько? – тут я возвысил голос, ибо лопочущая старуха приблизилась: – Пошла к чёрту!»
Так началась новая фаза холодной войны.
* * *
Сторонний наблюдатель не счёл бы войну холодной. Добавлю: агрессором, несомненно, сочли бы меня.
Оружием карги был непрерывный, в макушку ввинчивающийся скулёж, литания забитой, но обожающей своё чадо матери: «Ты же мой сыночек, я же тебя выносила, ох, сердце, сердце не выдержит, за что мне такое наказание, ох, не надо, пожалей меня». Соседи должны были думать, что я наносил ей моральный и физический вред без перерыва на завтрак, обед и ужин.
На деле я запрещал ей приближаться ко мне, касаться меня. Отказывался принимать пищу из её рук, да и вообще в нашей квартире. Напрашивался в гости к приятелям, производил убойное, то есть до оторопи благостное впечатление на их родителей, но никогда не злоупотреблял расположением, не мозолил глаза подолгу – количество знакомых позволяло. «При твоём умении жить за чужой счёт, сохраняя лицо, можно не бояться работы за гроши и объедков на пластиковых подносах», – как-то заметил мой невидимый спутник. Кажется, он был сражён.
Эксперимент показал, что бутерброды и булочки, которыми делились со мной одноклассницы, и которые я трескал в школе, на скамейках в парке, меж трубами на крышах, попадая в царство карги, вызывали ту же тошноту и рези в желудке, что её «полезная домашняя еда».
Насолить старухе вовсе не было моей целью: я набирался сил, приводил себя в состояние, допускающее побег в никуда, но, как выяснилось, не обошлось без побочных выгод, причём не лично для меня.
– Знаешь, мама просыпается и заводит плач о том, как ты её обижаешь, даже когда тебя здесь нет, – однажды шёпотом поделилась Виа, скользнув за клеёнчатую перегородку, чтобы пожелать мне спокойной ночи. – Заметил? Замолкает только во сне. На нас с Эхо изредка прикрикнет, и снова о тебе. Невыносимо? Невыносимо. Но куда менее невыносимо, чем раньше. Оказывается, бывают разные степени невыносимости. Всё познаётся в сравнении. Теперь под шумок я даже занимаюсь своими делами. Вдруг у Эхо прыщи пройдут, вдруг я перестану вызывать жалость? Пока чуда не случается, но вдруг?
– А вот отсюда поподробней, – я поймал Виа за обе ладони, чтоб не улизнула, не объяснив.
– Глупость, но я в это верю, – стесняясь, она рисовала подбородком восьмёрку. – Вот скажи: Ала была красивая?
– Очень.
– А выглядела хорошо?
Тут пришла моя пора стесняться и сыпать банальностями:
– С нашим бэкграундом трудно выглядеть хорошо.
– От кого я это слышу? Нет, Ала выглядела смазливой дешёвкой. Сама знала, сама страдала: «Эхо, причеши меня, у тебя лучше получится. Виа, что не так с этой курткой? А с этой футболкой?» Нормально всё было: и с причёской, и с одеждой, а приложишь к Але – вульгарщина. Теперь вспомни, как мама её с раннего детства обзывала «профурсетка» и далее, с вариациями. Возьмём Эхо: высокая, прямая, лицо строгое, волосы льняные до пояса… Королева! Если б не угри. И какие угри! Кожу будто раньше времени черви проели и переваривают. С детства: «Неряха, ты неправильно умываешься, в переходном возрасте будешь, как прокажённая, все станут пальцем тыкать!». Переходный возраст миновал, прыщи остались, крики тоже: «Ты сколько денег в аптеке оставила? Мыться надо нормально, тогда и лечиться не придётся!». А ведь Эхо – чистюля, несмотря на «счета за воду». Ну и я. Серая мышь, всё не впрок. Оценки средненькие, сколько ни бейся, на работу взяли «из жалости», и платят соответственно, в кровать зовут те, на кого без слёз не взглянешь: «Всё равно ты больше никому не нужна, давай хоть разок». С тобой в скромность можно не играть? Хорошо. Так вот, во-первых, я не дура. Во-вторых, иногда отражаюсь в витрине и не понимаю, на себя ли смотрю: ведь красивая. Через секунду: нескладная, туповатая, «скажи спасибо, что мать готова тебя кормить до старости». Тебе смешно?
– Нисколько. Говорил же: это – чистилище.
– Ещё какое чистилище! Причём для мамы тоже. Она – самое несчастное существо во вселенной. «Если Бог захочет наказать, то отнимет разум». Вот с ней явно случилось нечто в таком роде: сколько себя помнит, мечтала о сыне. Сидеть за партой и мечтать о сыне, представляешь? Я – нет. Впрочем, от одиночества и не до такого доходят, а вот страстно желать неизвестности – редкое извращение. Конечно, она не об абстрактном ребёнке мечтала, а о таком, который её осчастливит. Ну и бросилась рожать при первой возможности: три девочки подряд – сплошное разочарование! И на закуску – ты, когда уже не ждали. Тот самый сын, радость, сбывшееся упование. Незнакомец, который вовсе не торопится делать её счастливой. Ошибка. Но она же всегда права, вся её жизнь не могла быть ошибкой. Вот и держится за тебя когтями, а заодно – за то, какими нас всех вообразил убитый бездействием и разочарованием мозг. Ты – умница. Конечно, мы в чистилище, где слова её, как жвачка в волосах, не отделаешься, разве что отрезать, а мысли и того хуже.
– Смола и перья…
– Отрезать надо, отрезать! Вместе с кожей содрать! Я уеду, уеду завтра же. В другой город, чтобы даже случайно не попадаться ей на глаза. Не хотела тебе говорить, чтобы не сглазить, но вот, вырвалось. Ты расстроен? Прости, что оставляю тебя, но представь: ты сможешь переехать ко мне, как только я устроюсь! Я очень хочу, чтобы ты переехал ко мне как можно скорей. Я всё для этого сделаю. Пойми, – Виа стушевалась, – я бы ни за что не решилась, но, похоже, у меня нет выбора. Мне здесь страшно. По-новому. Необъяснимо. Наверное, из-за смерти Алы. Мне страшно рядом с этим разбитым трельяжем, мне страшно даже сидеть рядом с тобой. Надеюсь, станет легче, когда вырвусь из этой квартиры.
Я открыл рот, чтобы произнести то, чего произносить совсем не хотелось, чтобы отговорить её, удержать…
«Пусть бежит», прошуршало в затылке, «Вдруг тебе понадобится страховка? Уехать к сестре. Не в никуда».
– Удачи, – прошептал я, совершенно обалдевший от осознания: призрачный гость видел моё будущее не более чётко, чем я сам, и Виа была ему не нужна.
* * *
Его присутствие не было постоянным: порой он сопровождал меня всюду, порой исчезал на неделю, месяц, два, чтобы потом прорваться фрагментом реплики, страхом, который не был моим, весельем, помноженным на два, и вновь растаять, словно никогда не существовал.
Видел я его только во сне – не столь часто, как мне того хотелось. На границе бдения и забытья меня ловили за руку, обнимали, тащили ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево, а куда-то ещё, но и сам я ловил за руку, обнимал и тащил изо всех сил. «Ну, полетели», – произносили мы одновременно и неслись, облачно серые, стремительные, вездесущие, над терпкой от солнечных ливней хвоей, над ожерельями ночных городов, над береговыми линиями, сверкающими обольстительней обнажённых лезвий, над пустынями лунного песка и терракотовых скал, пьянея от колючего дыхания кактусов и пропитываясь шёлковой оливковой горечью.
Днём, в моменты критические, он заменял мне интуицию. Зимой заставил меня на спор перебежать улицу – без пешеходного перехода, перед фарами гудящих автомобилей, и в ту же секунду на тротуар, где я стоял до самоубийственного броска, обрушилась снежно-льдистая глыба.
Это было взаимно. В смысле, я тоже работал его интуицией. По крайней мере, не знаю, как ещё объяснить ту галлюцинацию, тот сон наяву, накрывший меня прямо в классе, во время урока.
Он не был призрачным, если не называть призрачностью испитое лицо и блуждающий взгляд, не увлекаться избитыми метафорами об отражениях в тёмном стекле. А вот я – был.
Я был. Невидимый в окне ночного автобуса, неощущаемый плечом моего брата, хотя и притиснутый к нему уснувшим соседом, я всё-таки был, смотрел его глазами на его же лицо, несущееся на фоне еле различимого кукурузного поля, и планомерно доводил его до панической атаки, до асфиксии. «Сколько часов мы едем? На каждом сиденье по потному телу, весь кислород уже израсходован, все дышат углекислым газом, который сами же выдыхают, они приспособились, а ты нет, и тебе нельзя, нельзя приспосабливаться, только не сейчас, беги, беги, беги…».
Кукурузное поле кончилось, теперь в мятущейся темноте не было ничего, кроме его лица. Он был старше меня, оставшегося в классе, тринадцатилетнего, не мигающего, «замечтавшегося», он уже выходил из возраста, который принято называть подростковым, но не наблюдения привели меня к таким выводам, – я просто знал, как знал и то, что в рейсовом автобусе, пересекающем страну с юга на север, ему задерживаться нельзя.
Чем мне не угодили трущобы на колёсах? Ненадёжностью бензобака, слипающимися глазами водителя, пассажирами, которые лишь собирались ввалиться в следующем городе? Без понятия.









































