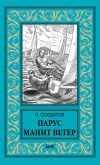Текст книги "Хлебозоры"

Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
8. Околоть[1]1
Околоть – семенное зерно. Снопы околачивают о колоду, прежде чем поставить в овин. При этом отлетает самое спелое и крупное зерно, которое берегут для сева.
[Закрыть]
В следующую зиму жена Степана Петровича, как обычно, отправилась в дальнее путешествие, написала с дороги и вдруг исчезла. Около месяца о ней ничего не было известно, пока из больницы не пришло письмо, что Екатерина Савельевна в плохом состоянии поступила в городскую клинику, теперь ей будто бы полегче и после выписки она нуждается в хорошем уходе, полном покое и желательно в мягком климате.
Весь этот месяц Степан Петрович заказывал телефонные переговоры со своими сыновьями и снохами, подолгу сидел на почте и приходил обеспокоенный. Ночами он не спал, топил печь и сам сочинял письма. Я просыпался от жары, в поту, шел на кухню пить, замечая в сумерках сгорбленную фигуру квартирного хозяина у загнетка.
– Однако лишка подбросил, – виновато говорил он и пихал в огонь новое полено. – Да ведь раньше примета была, в войну: если из трубы дым идет, значит, живые люди.
Перед тем как получить известие из больницы, приезжали двое сыновей – Александр и Михаил. Первый жил в большом и богатом совхозе, считался ударником труда, но по характеру был молчаливый, спокойный, может весь вечер просидеть, прокивать, а сам и слова не обронит. Второй, помладше, давно подался в город, обтесался там, научился много говорить и выбился в начальство без всякого образования. В то время Михаил гостил у Александра, а если точнее, приехал просить деньги взаймы, чтобы купить машину. Узнав, что мать куда-то пропала, братья примчались в Мохово, однако Степан Петрович заругался на них, послал искать по городам и даже ночевать не оставил. Александр молча пошел на автобусную остановку, а Михаил, возмущенный гневом отца, задержался. Уйти просто так он не мог – самолюбие заело.
– Ну ты, батя, даешь! – задиристо усмехнулся он. – Хоть бы чаем напоил, в избу запустил!
– Ничего! – отрезал Степан Петрович. – Езжайте мать ищите!
И тут, заметив меня, Михаил с нарочитым любопытством осмотрел со всех сторон, толкнул кулаком в грудь и засмеялся, глядя на отца.
– А-а! Ну все ясно! – догадливо протянул он. – Тут вон что, постоялец… Как там твоя мамаша поживает?
– Ну-ка иди, Сашку догоняй! – прикрикнул Степан Петрович и насупил брови.
Михаил послушался, подмигнул мне и побежал догонять брата.
Когда Екатерина Савельевна отыскалась, но день выписки еще не наступил, Степан Петрович отчего-то стал еще смурнее. Спал все равно вполглаза, с утра начинал ворчать, а то и вовсе ругался.
– Болтаешься как бездомный, – выговаривал он. – Не надоело? А ведь и парень образованный, и родители хорошие… Читал, как теперь Катерину-то Савельевну содержать надо? То-то… Вот соберемся да уедем в город, к Ивану. Где жить станешь?
Я говорил, что обещают квартиру, а пока могу пойти к кому-нибудь на постой, но Степан Петрович и слушать не хотел.
– Опять по баракам ошиваться? Раз не сгорел, так в другой раз обязательно сожгут… Семью заводить надо, тогда и дом будет. Да и что тебе в Мохове делать? Ехал бы ты в Великаны, к матери. Ей-то уж нелегко, помогал бы. На твоего дядю надежда плохая, инвалид. А с Володьки и вовсе теперь…
– В Великанах работы нет, – сетовал я. – Да и с невестами не густо.
– Работа есть, не ври, – отмахнулся он. – Вон Ленька наш на пенсию собирается, место тебе освободит.
И неожиданно загоревал, разоткровенничался:
– Будь помоложе – ушел бы в Великаны и ни шагу оттуда. Вся жизнь моя там положена… Эх, Степка, Степка, ничего ты не понимаешь. В Великанах-то все по-другому, а люди какие! А мужики-то какие были?.. Там бы и помереть мне. Хоть знал бы, где лежу…
Сразу после войны Степан Петрович из-за чего-то сильно пострадал. Его исключили из партии, сняли с работы и будто грозились даже посадить. Это было неудивительно, потому что после войны, когда вернулись фронтовики, многих снимали, бывало, и исключали, и сажали. Причины тому были: кто-то из начальства, пользуясь случаем, приворовывал и жил всю войну припеваючи, кто-то после Победы ударялся в загул, а иной так привыкал орать и командовать бабами, что начинал орать и командовать фронтовиками. Те же, увешанные медалями и знавшие почем фунт лиха, долго с «тыловыми крысами» не чикались и помыкать собой не позволяли. Случалось, брали орунов в такой оборот, что снимали, исключали и сажали самих. Рассказывают, шумно было после войны…
Так вот… когда Степану Петровичу выдали «волчий билет», он все-таки остался в Великанах и некоторое время работал конюхом. Но потом вдруг собрался в одночасье и переехал в Мохово, даже не заколотив свою избу. Дело было зимой, а поэтому пустая изба и месяца не простояла: сначала кто-то обколол углы, затем выворотил косяки и простенки – все крадучись, ночью. А скоро в открытую, средь бела дня, христолюбовскую избу стали раскатывать по бревнышку и пилить на дрова. Тяжко было вдовам готовить долготье в лесу за семь верст, потом вывозить его чуть ли не на себе (обычно на корове), да и зима была суровая, снегу по пояс…
Говорят, избой и постройками Степана Петровича великановские вдовы топились до самой весны. Выстоявшийся сосновый лес горел жарко и долго, согревая сиротские дома без хозяина и вконец закоченевших от холода баб и ребятишек.
Я замечал, что Степан Петрович тоскует по родной деревне. Скорее всего и меня к себе взял, чтобы по-землячески жить и расспрашивать, как да что в Великанах, когда я возвращался от матери. Сам он ездил туда редко, на день-другой, останавливаясь у брата. Однако приходил к нему только ночевать, а днем шел от двора к двору, разговаривал со старухами, с женщинами и ребятишками, реже – с инвалидами; в иной избе и пяти минут не пробудет, а в иной – дотемна засидится. Дядя Федор, завидев его, обычно ворчал:
– Пошел по дворам, колобкова корова…
Заглядывал Степан Петрович и к нам, но всякий раз дядя демонстративно не обращал на него внимания либо вообще уходил за баню.
За день до выписки жены Степан Петрович собрался и поехал в город. Не было его с неделю, и за это время у меня погостил Володя. Бывший мичман показался мне печальным, но при этом какая-то взрывоопасная сила таилась в нем. То он сидел, прижав ладонь к своему незащищенному сердцу, то вдруг ни с того ни с сего начинал спорить со мной, хотя я ему и слова против не говорил.
– Нет, все! Вы не удерживайте меня! Не удерживайте! – размахивая руками, говорил он. – С меня хватит. Конечно, меня можно уговорить, разжалобить. И я останусь в Великанах. Но прошу, лучше не удерживайте!
Степан Петрович приехал, как всегда в последнее время, хмурый и, не сказав ничего, стал собираться. Я пришел с работы и застал его уже на узлах. Мы напились чаю, после чего он вылил остатки кипятка, вытряс угли и обмотал самовар дерюжкой.
– Значит, слушай меня, Степан, – наконец заговорил он, глядя в огонь печи. – Катерину Савельевну я к Ивану отвез. Там и жить будем. Завтра утром и я тронусь.
Старший сын Иван жил в небольшом городке, где были узловая станция и вагоноремонтное депо. Городок этот существовал за счет железной дороги, был неуютным, шумным и грязным, чем-то напоминал большой вокзал. Моховская жизнь ему в подметки не годилась, а тем более – великановская. И выходило, что Степан Петрович все дальше и дальше отъезжает от родной деревни и от жизни, по которой тосковал. Заныло сердце; я впервые ощутил какую-то щемящую жалость к этому большому и сильному старику. Хотелось остановить его, разубедить и все-все перерешить. И пусть он вместо городка возвращается в Великаны, пусть живет там, пусть умирает и ложится в родную землю. Но я одновременно чувствовал, что не остановить его, не вернуть, как я не смог вернуть Володю на Божьем озере. За решением и упорством этих людей стояло что-то большее, чем просто случай и обстоятельства. Может быть, судьба…
– А ты оставайся и живи здесь, – помолчав, распорядился Степан Петрович. – Хватит болтаться… Избу я тебе отписал. Вот и бумага. Только чтоб женился, паразит. Если бабы да ребятишек в доме нет, то и дома нет.
Я долго и тупо смотрел на дарственную бумагу и ничего не мог сообразить. Протест созревал медленно, я раскрыл было рот, но он упредил:
– Бери, пока дают. Тебе сейчас нужней дом. А то есть кому отдать, и искать не надо… Мать на пенсию выйдет – к себе заберешь. И Федора.
– Но у тебя же сыновья есть. А я…
– А ты мне кто?! – снова упредил он. Упредил всего лишь на мгновение, потому что еще до его вопроса я понял, кто я ему…
Мы проговорили всю ночь, сидя у зева горящей печи. Вернее, говорил он, я только слушал.
А наутро я помог ему донести узлы до остановки, посадил в первый автобус и потом долго стоял один посередине белого зимнего тракта. Стоял и вспоминал, прокручивал в уме весь отрезок жизни, прожитый под его крышей. Теперь становилось понятным, почему он позвал к себе, почему присматривался ко мне, прислушивался, а иногда вдруг ласкал – по-своему: старался накормить посытней, уложить потеплей. Когда я задерживался, он ждал, по нескольку раз разогревал ужин и не спал. Бывало, ворчал, иногда и поругивался, покрикивал – я все принимал как постоялец…
Автобус давно скрылся за перелесками, умолк его дребезжащий гул, и зябнущие вороны вновь расселись на дороге склевывать оброненное зерно; лишь взвихренный колесами снег все еще кружился над трактом, словно не решаясь осесть на землю и запорошить следы.
Знать бы тогда, что вижу Степана Петровича в последний раз, – наверное, поехал бы вдогонку, чтобы расспросить его, хотя не знал о чем, или просто побыть рядом и привыкнуть к мысли, что этот старик – мой отец. А может, наоборот, единожды и навсегда отвергнуть такую мысль и еще больше утвердиться в другой: отец мой умер от ран и давно схоронен на великановском кладбище. Но в тот момент мне казалось, что у него-то я еще успею спросить и обязательно спрошу. Не терпелось узнать и услышать, что скажет мать по этому поводу.
Эх, знать бы…
Однако я не поехал ни за Степаном Петровичем, ни к матери. Что-то удерживало, срабатывал какой-то предохранитель. Вопросов было много, но ни одного такого, чтобы задать его вслух и сразу получить ответ. Все они завязывались в единую суть, которая и так была понятна: иначе-то меня и на свете бы не было…
Вечером я сел писать письмо Степану Петровичу, однако в пустой избе стало так тоскливо, что вместо мужского разговора получались какие-то печальные раздумья. Вспоминался мой отец, причем так явственно, что казалось, вот он, сидит на мятой, продавленной постели и не мигая смотрит сквозь морозные стекла. Только за окном не хлебозоры, а синеватый лунный свет и мерцающий снег. Захотелось написать матери, но слова приходили такие, что обязательно бы напугали ее.
Потом я еще несколько раз садился за письма, хотя проще было съездить; сочинял, даже заклеивал в конверт, однако ни одного не отправил. И лишь в апреле я все-таки собрался и поехал в Великаны. Добрался к вечеру и в сизых сумерках, смешанных с сизым дымком горящей на огородах ботвы, на краю деревни вдруг увидел свою мать. Она шла с фермы, но почему-то не к дому, а в обратную сторону, задами огибая Великаны. Я окликнул ее, замахал рукой, а она не услышала, только на мгновение вскинула опущенную голову и поправила сползающий на плечи полушалок. Ступала неторопливо, выбирая дорогу посуше, но уходила быстро, так что фигура ее в распахнутой телогрейке на глазах растворялась в весенних сумерках. Я пошел за мамой, и только когда она свернула за старую поскотину, понял, куда мы идем.
Голая кладбищенская роща на фоне оттаявшей черной земли и сизого неба напоминала трепещущий на ветру белый саван. Прямые, как свечи, высокие березы с малой кроной росли густо, и лишь с малого расстояния можно было рассмотреть, вернее, отделить дерево от дерева. Некоторые из них гнулись вершинами до самой земли, образуя торжественно белые арки ворот. Мама вошла под одну такую арку и остановилась у могилы отца. Она по-прежнему не замечала меня, может, потому, что шла сюда без оглядки и всю дорогу о чем-то думала. Она поправила полотенце на кресте и, согнувшись, стала сгребать с могилы прошлогодние листья. Холмик давным-давно зарос густой и жесткой травой, задерновался ее корневищами, и теперь эта сухая, но крепкая трава шелестела под материными руками. Она как-то бережно прочесывала ее пальцами, выбирая палую листву, приглаживала, прихорашивала, словно волосы. И в ту минуту, глядя на ее руки, запущенные в могильную траву, я понял, что никогда и ни о чем ее не спрошу. Ни из простого любопытства, ни из жгучего желания узнать истину. И ничего не скажу ей сам, не дозволю сказать другим, ибо даже трижды виноватая, она была не подсудна.
Не скрываясь больше, я зашел с другой стороны и тоже начал расчесывать сухую траву.
– Господи, – тихо ойкнула мама. – Степушка… А я иду – чудится, кличет кто-то. Думала, блазнится…
Наутро я собирался уезжать в Мохово, а мать не отпускала, просила остаться еще на одну ночь, потом просила, чтоб хоть изредка писал, если нет времени наведываться. Она знала, что я живу у Христолюбовых, знала, что Степан Петрович перебрался жить к Ивану в город, и теперь беспокоилась о моем жилье. Дескать, продаст Степан Петрович дом или кто из сыновей займет – где жить станешь? Опять в барак, по чужим людям?
Она не знала лишь единственного, что дом отписан мне на вечные времена, и сказать ей об этом я никак не решался, чтобы не показать виду. Я бормотал насчет обещанной лесничеством квартиры, говорил, что приеду в мае на весь отпуск.
– А то бы возвращался домой, – просила осторожно она, провожая меня за околицу. – Алексей Петрович на пенсию уходит, а лесничить на Божьем некому, человека ищут.
– Вот еще, – ворчал дядя Федор, топая сзади. – Нашла куда парня сманить. Народ отсюда бежит, того и гляди деревню разгонят, а ты домой зовешь. Не слушай, Степан, езжай! В люди выйдешь.
…Перед отпуском, в начале мая, еще была возможность съездить к Степану Петровичу, и заделье в этом городке было в ту пору – на станцию отправляли прошлогоднюю живицу и сосновое семя. Заехать бы хоть на час, посидеть за самоваром, как мы сидели в моховском доме, ничего не спрашивая, рассказать ему о Великанах, и если выйдет разговор, то и о матери, и о том, что тоскливо и одиноко жить мне в его избе. Ночами не спится, хожу от окна к окну, половицы под ногами скрипят, и, чтобы люди чувствовали жилой дух, – топлю печь. Коль дым из трубы, значит, живой.
И еще бы сказал ему, что прав он был: пока нет семьи – нет и дома.
Не поехал, не сказал…
А в предпоследний день отпуска я проснулся в своей родной избе от приглушенного говора и неторопливой суеты. Дома я отсыпался за все тревожные ночи в Мохове и в другой бы раз ничем было не разбудить, но тут вскочил с постели и сразу ощутил беспокойство. У порога на табурете сидел дядя Леня Христолюбов и, согнувшись, трепал в руках мятую форменную фуражку лесничего. Дядя Федор подпирал плечом косяк двери и хмуро глядел в угол, а мать горбилась над открытым сундуком, перебирая платки и полушалки.
– Вставай, сынок, – сказала она, торопливо, но туго повязывая черную косынку. – Поедем отца хоронить.
И вдруг закричала брату:
– Федор! Если ехать, так собирайся! А нет – иди корову доить! Встал как истукан, ни тяти, ни мамы…
Дядя Федор мотнул опущенной головой:
– Мотоцикл заведу. – И пошел в двери, подгибая колени, чтобы не стукнуться о косяк. Спина его уже почти не сгибалась.
Мы собрались и ждали во дворе; дядя Федор все еще заводил. Хлюпали поршни в разношенных цилиндрах, сотрясалась рама и коляска от ударов ноги по стартеру, что-то еще позвякивало, поскрипывало, бренчала подвешенная к рулю каска, – мотоцикл не заводился. Дядя Федор калил свечи на огне, пробовал вливать бензин в цилиндры, то и дело проверял искру, зажав в пальцах оголенный провод, – трофейный «БМВ» смотрел на нас пустой, мертвой глазницей выбитой фары. Потом дядя Федор встал перед ним на колени (он и корову доил на коленях), пощупал картер, погладил цилиндры и вдруг выматерился:
– Ладно! На девять дней поеду! Может, заведу к тому времени.
Но и к сороковому не завел…
Дядя Леня велел подождать, а сам пошел на конный двор просить подводу, чтобы добраться до тракта…
Степан Петрович грузил баланы на лесосеке, когда увидел бегущего по ледянке Кольку Турова, парнишку на семнадцатом году. Колька тяжело буцкал обмерзшими пимами по санной колее, и драная его шапка на маленькой головке съезжала на глаза. За ним с упрямым равнодушием тащились быки, пустые подсанки скрипели морозно и пронзительно.
Мерзлый, звенящий комель кряжа давил на плечо, за спиной Степана кряхтели и тужились бабы, заваливая очередное бревно на воз, в глазах темнело, и Колькин силуэт на ледянке расплывался в радужное пятно.
– Ой! – громко вздохнул кто-то из женщин. – Что-то случилось. Парень-то поперед быков чешет…
Кряж улегся на подсанки к двум другим, Степан распрямился, бабы глядели вдоль ледянки, замерев столбиками, как сурки у норок, ждали. Наползали на глаза сбитые шали, дыбились на спинах заснеженные телогрейки, и только слабый парок курился у ртов. Седой от изморози, мохнатый мерин в упряжке боязливо косился кровяным глазом на свой воз.
– Давайте, бабоньки, взялись! – скомандовал Христолюбов, примериваясь к очередному балану.
Женщины не шелохнулись, сжимая в руках березовые стяжки, ждали, с чем бежит Колька.
– Чего? – крикнул ему Степан. – Чего ты, заполошный?
Подбежав, Колька вытер нос голой, парящей на морозе рукой, хватил воздуха. Его быки брели по колее, чуть не задевая мордами дорогу. Доходные быки, того и гляди лягут где-нибудь…
– Начальник приехал! – выдохнул Колька. – На костылях!.. Тебя зовет, велел срочно…
Женщины вздохнули с облегчением, зашевелились, стряхивая снег рукавицами, поправляя шали. Степан молчал, и по тому, как молчание затягивалось, бабы вновь насторожились.
– Откуда начальник-то? – наконец спросил Христолюбов.
– Говорят, аж с области. – Парнишка снял шапку, и от его слипшихся, реденьких волос повалил пар. – Он в конторе сидит, злой. Баб с плотбища вызывает… В медалях весь! Звенит…
И, оглядев встревоженных женщин, неожиданно засмеялся:
– Теть Валь! А твоему Мишке повестка на призывной!
Сухопарая, остроглазая Валентина Глушакова вздрогнула, выронила стяжок и медленно опустилась на снег. Колом стоящий на морозе полушубок ее из плохо выделанной овчины жестяно загремел, но так и не согнулся; воротник с большой петлей-вешалкой, подбитый изморозью, казалось, стал вырастать над головой, словно гриб-дождевик. Валентина всхлипнула и вдруг заголосила:
– Ой, сыночка ты мой родненький!..
– Перестань, – медленно проронил Степан Петрович. – Не плачь, повестка пришла, не похоронка. Ступай домой.
– Везет же Мишке! – все еще радовался и досадовал Колька Туров. – Мы с одного года, а ему уже повестка! А мне нету! Наверное, сам пойду и спрошу…
– Сиди! – отрезал Христолюбов. – Вояка…
– Беги, Степан Петрович, – вдруг тихо взмолилась Дарьюшка. – Скажем, в лесу где-то… Ведь за тобой приехали.
Христолюбов взглянул на нее и молча сел на кряж. Валентина Глушакова торопливо уходила по ледянке к Великанам; с неба, посверкивая на солнце, нескончаемо падала колкая морозная игла.
– Может, и правда, пересидишь где? – робко поддержала эвакуированная хохлушка Олеся. – Не век же начальству ждать, уедет.
Степан Петрович усадил Кольку Турова рядом, дал кисет.
– Кури… – Оглядел нескладную фигуру парнишки в телогрейке, подпоясанной веревкой. – Сам-то не ходи за повесткой. Там не забудут, нынче каждый мужик на счету… Ты вот что, Николай Васильевич: если придется – бригадиром тут останешься. Ты у меня стахановец… Бабам в лесу обязательно бригадир нужен, мужик, понял?
Колькины быки наконец притащились к пряжовке, развернулись и встали у кучи бревен. Колька скосил глаза на их худые бока, плюнул в снег, сворачивая самокрутку.
– Если придется – куда денешься…
– Да смотри не обижай, – проронил Степан Петрович и встал. – Давайте, бабоньки, погрузим, и поеду я. Давайте, родимые…
Женщины взялись за слеги, встали шеренгой вдоль мерзлой лесины, навалились, но без прежней удали; что-то сковывало движения, и пар изо ртов рвался вразнобой, сливаясь над головами в одно густое облако. Бревно закатилось на слеги, пошло легче, быстрее.
– Шевелись, бабоньки! – прикрикнул Христолюбов, упираясь в комель. – Да стяжки-то бросайте – руками, руками-и!
Кряж пошел в гору, со скрипом лег на самый верх воза. Вздрогнул и шатнулся мерин, припадая на задние ноги. Следующая лесина оказалась еще толще, а воз – выше, так что почти на руках поднимали. Наконец закатили последний кряж, и женщины попадали на снег, переводя дух. Зыбкая морозная игла сыпалась на их лица и таяла, еще не коснувшись кожи.
Степан Петрович отдышался, утер шапкой лицо и подозвал Кольку.
– Ты, стахановец, быков своих не грузи, – сказал свистящим шепотом. – Две нормы сделал, хватит. Лучше подволакивай сюда хлысты и начинай строить эстакаду.
– Так запретил же тот… который в прошлый раз… – замялся Колька. – Весь лес на плотбище. А то план…
– Планов еще много будет, Никола, – пробурчал Хрис-толюбов. – А бабам хватит пупы рвать. Пожалеть надо… Кому жалеть-то их?
– Это так, – подтвердил Колька и закричал на мерина, пытающегося расшевелить подсанки с грузом. Мерин был старый, опытный, знал – постой еще немного, и примерзнут полозья так, что не оторвать. А потом либо бич вдоль хребта, либо женщинам упираться.
– Завозни с обеих сторон сделаешь, – наставлял Христолюбов. – В настил вершинки пускай, они легче. Да гляди, чтоб дыр не было, а то быки ноги переломают. И за ледянкой смотри. После каждого снега посылай деда Овчинникова, пускай поливает. Задует ледянку – пропадете.
– Да что я, Петрович? – нахмурился Колька и с опаской спросил: – Думаешь, заберут? Так отстоим, если что…
– Ладно, сынок. – Христолюбов взял вожжи. – Оставайтесь, бабоньки, поехал я…
Конь не взял сразу. Ломанулся в оглоблях, всхрапнул, налег, приседая, заскрипела сыромятина гужей, перекосило дугу – сани все-таки примерзли.
– Ну, ну! – бодрил Степан, упираясь плечом в бревно. – Взяли, ну!
Женщины спохватились, бросились помогать. Толкали воз сзади, тянули за передок, стучали слегами по полозьям, чтоб отбить их от земли и тронуть с места подсанки.
– Ты же конь, ну! – уже орал Христолюбов, дергая вожжи. – Конь же ты, мерин!
Мерин упал на колени, и в то же мгновение со скрипом оторвались полозья. Воз покатился, набирая разгон. Степан Петрович перехватил вожжи в одну руку, а другой стирал выступавшую капельками кровь с побитой о щепастый комель небритой щеки.
Женщины в кургузых одежинах стояли со стяжками в руках и смотрели в его широкую спину.
Ледянка шла по квартальной просеке до самой Рожохи. Узкая, как раз по ширине полозьев, дорога соединяла лесосеки с плотбищем, где лес маркировали и увязывали в маты черемуховыми вязками. После каждого снегопада ледянку поливали водой. Конюх Овчинников, здоровый, приземистый старик из сосланных кулаков, запрягал быков, ставил на сани две бочки с водой и открывал в них заслонки. Вода постепенно вытекала в колеи, схватывалась на морозе, и следом уже катили на конях и быках возчики – парнишки-подлетыши вроде Кольки Турова или его, Степана, сыновья – Мишка, Васька, Аркашка, либо допризывники, собранные с округи на работу и военное обучение, да старики из соседних колхозов. Не будь этой ледянки – горел бы план синим огнем, а вместе с ним и начальник лесоучастка Христолюбов. Умри, но больше трех кубометров на оставшихся после конской мобилизации клячах за раз не привезешь. Правда, быки тянули и по пять, тянули, пока не ложились. А ледянка спасала. Тот же Колька Туров по четыре нормы вывозил, если быки дюжили. Вот бы еще к ледянке эстакаду, чтобы бабам грузить полегче было, и тогда можно смело одних оставлять. До весны доживут, а там, может, и война на убыль пойдет…
Христолюбов шел рядом с возом и думал, что зря все-таки не построил эстакаду с осени. Побоялся нарушить запрет, могли с проверкой приехать на лесосеки.
Великановскую кондовую сосну сплавляли до самого моря, там грузили на корабли и везли в Америку и Англию. Так что каждый заготовленный кубик брали на учет, в лесу и бревна лишнего не возьмешь. Но бабы-то надсаживаются! Тяжело им, как только терпят… Можно на лесосеку конюха Овчинникова послать – старик еще крепкий, не изболелся. И бригадиром можно поставить, но беда – на кого коней и быков оставишь? На парнишек ненадежно – ума еще маловато, на стариков – толку нет. А весной на тех же конях и быках пахать, сено убирать, хлеб возить. Не будет тяги – пропало дело. Вся жизнь и надежда – бабы да лошади… Вот какая нынче в Великанах тяга осталась…
Ледянка пошла на спуск. Мерин затрусил, высоко поднимая голову, глухо и опасно запоскрипывали бревна. Тяжелые подсанки уже подгоняли, толкали вперед коня, а он инстинктивно пытался затормозить ход и вылезал из хомута.
– Пусти, пусти! – прикрикнул Степан. – Эх, дурень, не привык?
Веревочная шлея резала круп, прогибала хребет седелка, и не держали обледеневшие копыта. Наконец мерин ударил в галоп, чуть не выпрыгивая из оглобель. Заекала селезенка.
– Эх, бабоньки мои…
«Дарьюшку обещал в маркировщицы перевести, – вспомнил он. – Пора уже, а то упадет где-нибудь… Если что – успею, поди, приказ написать. Только куда бы Катерину поставить? Не одыбалась еще как следует, ветром качает… На ружболванку далековато, не набегаешься дитя кормить. Чего доброго, молоко перегорит… На сплотку еще рано, надорвется. Со стариками послать, пускай черемуху рубит?»
Пока он размышлял, мерин спустил воз и теперь, набрякнув мышцами, тащил его в гору. Упирался, гремел копытами о ледянку, и с отвисшей губы тянулась, замерзала в сосульку хрустальная слюна. Подсанки задергались, словно по песку, – что-то мешало. Степан забежал вперед, взял под уздцы – н-но! Но, милый!.. Так и есть, опять Колькины быки ледянку изгадили. Теперь либо заливать водой, либо сдалбливать. А то кони так и будут мучиться на подъеме…
Степан выдернул топор из бревна на возу и, понукнув коня, принялся очищать колею.
– Эх, бабоньки мои…
«Пускай черемуху рубит, – решил он. – Месяц как-нибудь там протянет, а как Дарьюшка родит, я Катерину снова в маркировщицы. Глядишь, и еще месяцок парнишку грудью покормит…»
Он всадил топор в снег и сел, провожая взглядом кругляши бревен на возу. Придет он сейчас в контору, поговорят, поговорят с ним, а потом усадят в кошеву и повезут в район. И все его планы кувырком. Пришлют нового начальника лесопункта – человека со стороны, поскольку в Великанах некого ставить, и тот повернет, как захочет. Ему-то будет что, надо план давать. А рожать бабам во время войны будто бы и не положено. По крайней мере уполномоченный Петровский так в прошлый раз и сказал. Интересно, кого на сей раз прислали? По-Колькиному выходит, приехал не Петровский. У того ноги целые и медалей нет. Скорее всего фронтовик какой-то, наверняка мужик крутой, нервный. Сгоряча посадит в кошеву и повезет. И останутся одни что бабы, что ребятишки…
Парнишка у Катерины родился крепенький, на подбородке ямка, волосенки беленькие – одним словом, вылитый Степан. Вот только имя Катерина дала ему – Василий: так звали ее мужа, погибшего еще в сорок первом. Даже до передовой не успел доехать Василий…
На великановских лесосеках работали две бригады, и как-то само собой получилось с начала войны, что на Божье озеро, где готовили ружболванку, шли вдовы, а на лесоповал – солдатки. Одно время даже примета среди женщин была: поработаешь с вдовой – сама овдовеешь. Как-то раз напарница Валентины Глушаковой приболела, не вышла на работу, и ее пришлось подменить женщиной с Божьего озера. Говорили ей бабы – не ходи с той, лучше уж день-другой в одиночку лес покряжуй; так нет, не послушала, мол, я же временно, ничего не будет. Да еще и Степан Петрович настоял – план срывался. Утром Валентина еще в солдатках ходила, а вечером похоронка пришла… Но чем дольше была война, тем все худела и худела бабья бригада на лесоповале, и наоборот, участок ружболванки креп и пополнялся. Текли бабы на Божье озеро – капля по капле. А потом все посмешались и примета забылась. Не верила и не знала примет эта война…
– Эй, бабоньки мои…
Степан срубил бычьи лепешки с дороги, отгреб их валенком на обочину и побежал догонять воз. Впереди был опасный раскат, как бы мерин лес не опрокинул. В прошлом году на этом раскате полонянский парнишка-возчик перевернулся. Один бык, сломав ярмо, успел отскочить, а другой под бревно попал – хребет сломало. И горе, с одной стороны, и радость: Христолюбов быка прирезал и отправил мясо на Божье озеро, где, кроме женщин, работали подростки-допризывники со всей округи. Днем в лесу с лучками да топорами – в снегу по пояс, от льда одежда шуршит и колом становится, вечером занятия военобуча. Бегают с деревянными ружьями, ползают, гранаты кидают или маршируют по ледянке – ать-два, ать-два. Намаялись парнишки, изголодались: одни рты да носы на лицах. Кормежка худая, больше орех-рогульник варят по ночам и едят. А бык-то пудов на тридцать был, считай, до весны хоть помаленьку, но попадало мясцо. Прошлый год все-таки терпеть можно было, картошка уродилась, капуста; нынешний как пережить, голодный? Войне же конца и краю нет…
И опять Степан стал думать о Дарьюшке. Надо, надо переводить на легкую работу. Успеть бы приказ написать. Не дай бог, приспичит и родит на снегу. Конечно, бабы рядом, помогут, да ведь ребенку-то как бы худо не сделать. Маркировщицей на плотбище ей хорошо будет: и легко, и изба, вот она, рядом… Дарьюшка стеснялась подходить к нему на людях, даже глаз не поднимала, когда Христолюбов рядом был, еще и полушалок на брови натянет. Но чуть выпадет момент, когда никого нет, ткнется лицом в грудь и дышит боязливо, и всхлипывает бесслезно. «Если парнишка будет – Степой назовем, – шепчет. – А отчеством пусть по мужу – Павлович… Ты уж не обессудь, Степан. Только б парнишка был…»
Вспомнилось Степану пасмурное, холодное утро на Рожохе, широкий разлив, подтопленные остатки черемуховых кустов по берегам и маты, плывущие вниз. Избушки-каморки дымятся на матах, и дымы эти сливаются над рекой, тянутся к облакам. «Дай работу полегше, – просила Дарьюшка. – Поставь маркировщицей, а, Степан?..» – «Нету легкой работы, Дарьюшка, нету пока. Ты уж потерпи, потерпи…» – тоже просил Христолюбов.
Своих, нажитых с Катериной Савельевной, ребятишек у Степана Петровича было девять. Четверо воевали… Вернее, теперь воевали двое – старший Иван да третий по счету Александр. Пятеро дома оставались, пока дома, поскольку Мишка с Васькой жили на Божьем озере в лагерном положении, бегали с деревянными ружьями и маршировали по ледянке. Самому младшему третий год пошел. Лазает он по избе и тараканов лупит старой подошвой: «Бей фасыстов! Бей захваттиков!» Мать с ним замучилась: то окно сковородником выстеклит, то последнее пшено по снегу рассыплет – будто хлеб сеет. Или сбежит из дому босым и два часа кряду носится на морозе. До войны, бывало, как вывалится на улицу весь белоголовый христолюбовский выводок – только и слышно: Митька подрался, Васька, шестилетний, за Рожоху уплыл, Ванька колхозным коням хвосты отрезал, Аркашка чуть пожар не устроил. Степан тогда бригадиром в колхозе работал; это в войну начальником поставили, когда последнего мужика, годного руководить, на фронт взяли, а его по возрасту оставили – пять на десяти минуло…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.