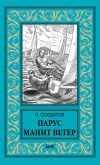Текст книги "Хлебозоры"

Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
Когда мы пришли во двор к Ивану Христолюбову, уехавшие на катафалке старухи и женщины уже отпоминались и снова накрывали на столы. Только Катерина Савельевна, Вертолет по моховскому прозвищу, на сей раз не суетилась и никуда не спешила. Она сидела за столом, подперев голову руками, и тихо плакала. Рядом с ней и напротив было еще несколько пожилых женщин, среди которых я увидел и мать.
Мы было закурили, стоя у ворот, но Иван Христолюбов позвал за стол. И тут стало понятно, что всех сразу не усадить, не хватит места. Во двор к столам вынесли все стулья, табуретки, устроили лавки из чурок и плах, однако народу было чуть ли не в два раза больше. Сыновья Степана Петровича – Михаил, Аркадий, Федор, Алексей, Дмитрий, Василий брали своих жен, уже взрослых детей, рассаживались, теснились, тихо переговариваясь, а Иван командовал и усаживал остальных. Места уже и так не было, еще не сел молчаливый, замкнутый Александр с таким же тихим двенадцатилетним сыном, но Иван вдруг спохватился и начал звать нас, звать и ругаться, мол, что, особого приглашения ждете?
– Ничего, они во вторую очередь, – отмахнулся Михаил, уже выпивший и от этого красноглазый. – Давай, братуха, наливай! Помянем нашего батю…
– Погоди, погоди, Миша! – Иван завертелся по двору. – Нехорошо это, надо всех усадить.
Однако ничего такого вокруг, чем бы можно было удлинить столы и добавить мест за ними, на глаза не попадало, разве что пустая бочка и козлы, на которых пилили дрова.
– Сядут после нас, ничего не сделается! – отрубил Михаил и бросил взгляд, как показалось, в мою сторону. Было в его голосе что-то такое, – может, тихая, но пронзительная озлобленность, – что услышали и заметили все за столом. И притихли как-то в неловких позах, словно ожидая если не скандала, то неприятности. Лишь малолетние ребятишки на материных коленях растаскивали пироги из большого блюда. Мне хотелось немедленно уйти, но я встретился глазами с мамой: она звала меня рукой и указывала на свое место.
– Ну-ка, ребята, живо столы несите! – неожиданно громко распорядился дядя Леня Христолюбов. – Васька, Лешка, Федянька, – марш по соседям! Всем места хватит!
– Опять как что, так Федянька, – с мальчишеским недовольством протянул Федор – старший лейтенант-десантник. – Привыкли кататься…
– Хлеб за брюхом не ходит, – независимо проронил Василий. – Пускай сами несут…
И в этот момент мать огромного семейства Христолюбовых Катерина Савельевна, не подымая заплаканных глаз от столешницы, стукнула позвонками пальцев. Стукнула негромко – рука ее была уже сухонькая, вялая, однако сыновья разом умолкли. Старший лейтенант-десантник поднялся, застегивая китель, и пошел в ворота, за ним двинулся Василий, дожевывая что-то на ходу, третий – Алексей, длинноволосый парень в расклешенных брюках, помедлил, чему-то улыбаясь, и пошел догонять братьев.
Жена и дочь дяди Ивана принесли откуда-то разнокалиберную посуду, и пока перетирали ее полотенцами, братья притащили еще два стола и пять табуреток. Застолье на несколько минут нарушилось, пока устраивали места, и наконец расселись все. Я старался быть поближе к матери, но дядя Леня потянул к себе, на свой край, так что перед глазами, напротив, оказался десантник Федор, а слева – Михаил. Он-то и заслонил середину застолья, где сидела мать.
– Вот теперь и помянем, – негромко сказал дядя Иван. – Вроде все собрались…
Тихий плач Катерины Савельевны как-то незаметно стал слышнее – наверное, оттого, что стихло застолье и даже дети перестали возиться; я почувствовал в этом негромком плаче скрытый, пронзительный крик.
– Не плачь, мать, – сказал дядя Иван. – Отца с нами нет, а душа его здесь. Должно быть, глядит и радуется.
– Он ведь все хотел собрать всех вот так! – проговорила Катерина Савельевна. – Да не мог никак… Теперь собрал, всех собрал…
Я склонился к столу, чтобы посмотреть на маму, и вдруг понял природу этого тихого, но пронзительного крика: вместе с Катериной Савельевной плакали окружавшие ее женщины. И моя мать.
А мимо двора Христолюбовых шли и шли люди – гудел под их ногами деревянный тротуар. Шаги у ворот становились медленнее, а то и вообще замирали: мало кто знал в городке-вокзале, кого здесь поминают и оплакивают, однако широкое застолье в тесном дворе притягивало внимание, и некоторые прохожие останавливались, глядели сквозь решетчатый забор нам в спины так, что хотелось обернуться.
Поминали тихо. Никто не говорил речей, лишь побрякивали ложки о нехитрую посуду да скрипели временные лавки Я ел для приличия – не лезла еда, а стол ломился от пищи, словно готовили ее для поминок, где едоков будет раза в два больше. Выставлено было все одновременно: от кутьи до киселя с блинами. Не было только вина: дядя Иван по старинному обычаю ходил вдоль столов и разливал сам.
Калитка хлопнула неожиданно и громко. Многие обернулись, кто сидел спинами, другие вскинули головы…
Во дворе стоял запыхавшийся Колька Смолянин. Узнать его было трудно – в последние годы он запропастился куда-то, и только слухи иногда долетали до Великан. Говорили, будто он вербовался на нефтеразведку в Сибирь, потом на золотые прииски, откуда попал в тюрьму за поножовщину. Однако за ударный труд его освободили раньше, и Колька очутился где-то на Дальнем Востоке, ловил горбушу в рыбацкой артели. Еще было слышно, что одно время его разыскивала милиция как неплательщика алиментов, и, говорят, Колькины портреты висели на вокзалах всей страны.
Сейчас он был стрижен наголо, на руках и груди из-под расстегнутой до пупа рубахи синели густые татуировки.
– Опоздал, – выдохнул Колька, держась за штакетник. – Ну, легавый, падла…
Тесное застолье еще уплотнилось, и Кольке досталось место рядом с молчаливым Александром. С минуту на него поглядывали: кто с интересом, кто с заметной неприязнью, – но потом Колька будто выровнялся, слился со всеми, и о нем забыли. Колька ел много и жадно, успевая рассказывать Александру, что он сейчас отбывает пятнадцать суток за хулиганство и милиционер никак не хотел отпускать его на похороны, будто специально тянул время. И тогда Колька упал перед ним на колени, забожился самой страшной клятвой, что вернется и не сбежит, можно сказать, унизился перед ним, как последний «козел», поскольку «западло» перед «ментом» на «цырлах» ходить. «Мент» внял, да поздно…
Говорил он не громко, но мне было слышно и видно на его стриженой голове множество белых шрамов-проплешин, оставшихся с далекого детства и нажитых в скитаниях. Я помнил многие из них, мог читать по его голове, как по книге, однако книга эта лет после семнадцати писалась уже на незнакомом мне языке.
Шаги прохожих по тротуару все стучали и стучали, будто мимо христолюбовского двора проводили всех жителей городка. Степану Петровичу довелось умирать в людном месте, в шумном во все времена года. Впрочем, и лежать в земле – тоже, недалеко от узловой станции, рядом с железнодорожной магистралью, пересекающей страну из конца в конец.
Первыми из-за стола ушли дети, потом стали вставать молодые женщины – жены сыновей Христолюбова; взрослые внучки. Оставшиеся сбивались плотнее, заполняя опустевшие места; постепенно истаяла поминальная тишина, начинались негромкие разговоры, неторопкое шевеление, в которых растворился плач пожилых женщин в середине застолья. А может, они переставали плакать, и лишь слезы еще катились по влажным дорожкам из глаз, высыхая в морщинах и складках возле сжатых губ?
Наконец остались одни мужики, уместившись за тремя столами. И разговоры сразу пошли громче, хотя вразнобой и на все лады. Уже никто, кроме Кольки Смолянина, не ел и не пил, уже не прятали руки, собрав их в кулаки на столешнице. Я сидел теперь между дядей Леней и дядей Иваном. Они тянулись друг к другу и говорили о Великанах, жалели деревню, избы, огороды, жалели, что оба теперь на пенсии – работать нельзя, если только втайне от собеса, и сильнее всего жалели место, на котором пока еще стояла родная деревня. Именно этой весной, когда умер Степан Петрович, Великаны объявили неперспективной деревней и закрывали колхоз.
– За нами Полонянку под плуг, так? – загибал пальцы дядя Леня. – Потом Гуськово и Рощино. Чистые Колодцы тоже вряд ли удержатся, верно? Кожемяково с Ключами и сейчас на ладан дышат. А там и Пышкину не долго осталось. Считай, весь рожохинский угол вымрет.
Напротив от нас говорил десантник Федор, которого у Христолюбовых считали поскребышем, пока не родился настоящий поскребыш – Алексей. Старший лейтенант разоблачился, оставшись в тельняшке с небесной полоской, и уже размахивал руками. Слушали его хорошо.
– Современная война скоротечна, – объяснял он. – Никаких траншей и ходов сообщения не будет. Окоп для стрельбы лежа – все земляные работы. Остальное – техника. Значит, так: мощные танковые удары по всему театру действий на расчленение территории противника, ракетные удары по промышленным и военным объектам и массовые воздушные десанты в глубь тыла. Все! Полная парализация за считанные дни!
– А если атом? Если атомом шарахнут? – несмело ввязывался Александр, но его перебил Иван.
– Нет уж, пока пехота не протопает, – сказал он с какой-то ленцой. – Территория не твоя… У нас тоже и танки были, и «катюши», а мы топали пешочком.
– Дак если атом, куда ж пехоте идти? – вставил Александр.
– Мы про Фому, ты про Ерему, – рассердился десантник. – Речь о безъядерном конфликте!
– А ракеты, они с чем? Без атома, что ли?
– С конфетами!
– Нет, ребята, без пехоты не навоюешь. А пехота на пехоту пойдет – тут одним годом не обойдешься…
Со стороны, где сидел Колька Смолянин, слышалось другое.
– Зато я пил кофе! – говорил он. – В один час ночи.
– И не жалко было, а? – с удивлением наседал Дмитрий, скотник из упомянутого Пышкина. – Двадцать пять рублей за стакан кофе!
– За чашку, – уточнил Колька. – Зато в один час ночи.
Михаил держал за рукав припозднившегося студента Алешку:
– Я пришел в гараж – и сразу всех механиков в бараний рог! Понял? Как шелковые стали! Махом!
– Открываю капот, – доносилось с другой стороны. – Веришь – шатун из блока торчит. Руку будто дает, здорово, мол! Приехали!
Но были среди всего этого говора и шума те, кто не вступал в споры; сидели, слушали и изредка что-то отвечали. Председатель полонянского колхоза Василий Васильевич, мой ровесник, механически скручивал и раскручивал край скатерти, спохватываясь, бросал ее и начинал скручивать свой галстук. Большие его глаза с голубоватыми, как у ребенка, белками плавно скользили по лицам, и от этого взгляда оставалось какое-то радостное ощущение. Тезка мой, Степан Дьяков, приехал на похороны из Ленинграда, чуть только не опоздал, и, наверное, поэтому все время казался возбужденным, виноватым и замкнутым одновременно. Помалкивал и всегда говорливый, многодетный, хотя и молодой, моховский киномеханик Петр Глушаков.
И вот, слушая застольный гомон, я неожиданно заметил, что мы очень похожи с Петром. Как две капли, только одеты и стрижены по-разному, а так – близнецы. Петра я видел часто, но почему-то и в голову не приходило. И сегодня, еще на кладбище, он будто бы не был похож, а тут, за столом…
Я начал пристальнее всматриваться в лица тесно сбившихся за столом мужиков и вдруг заметил еще одного, похожего, – десантника Федора. А Федор, в свою очередь, неожиданно сильно походил на Василия Васильевича. Посади рядом да приодень одинаково – так и не отличишь.
Не случись нам собраться за этим столом, я бы и вовек не знал, что мы братья и что так похожи. Нет, знать-то бы знал, но не признал бы братства, не принял бы, не ощутил…
Я сидел ошеломленный, однако помимо воли в душе рождалось другое, нелепое на поминках чувство – какое-то ребяческое восхищение. Примерно такое же, как было, когда мы с Илькой-глухарем притащили лодку на Божье озеро и спустили ее на воду.
Дядя Леня, видимо, заметил мое состояние, тряхнул за плечо:
– Ты чего, Степан? Эй, Степа?..
Ответить я не успел…
Неожиданно для всех Колька Смолянин уткнулся лицом в стол, обнял свою голову руками, и спина его затряслась. Только непонятно было в первую секунду – от смеха ли, от слез ли…
Однако я успел заметить, что мы и с Колькой похожи. Причем, пожалуй, сильнее, чем с остальными.
Колька плакал беззвучно. Обтянутые выцветшей футболкой спина и плечи вздрагивали, сначала сильно и резко, потом тише, тише, как если бы легко зажатый в руке молоток бросали на наковальню. Свитые между собой, побелевшие пальцы хрустели, а он все крепче сжимал голову, и уже хрустели локтевые и плечевые суставы.
Мужики обрывались на полуслове, оборачивались и натыкались взглядами на стриженое, испещренное знаками Колькино темя.
Дядя Леня пересел к нему, но не уговаривал, не утешал: смотрел на это темя, на руки, и голова его будто врастала в плечи.
– Ну, будет, – заговорил монотонно дядя Иван, шлепая Кольку по затылку. – Ладно, ничего… Ну, будет…
Тихо всполошилась и женская половина на поминках Степана Петровича. Перестали бренчать посудой молодые, умолкли пожилые, рядком сидящие на крыльце. Они настороженно прислушивались, глядели с тревогой, но лица были светлы… И за этим же столом я открыл еще одно сходство между нами, равное по значимости кровному сходству. Большинство из нас, исключая старших сыновей, были почти ровесниками, с разницей от одного до четырех лет. Годы рождения падали на войну. И ни одного – послевоенного…
Но это обстоятельство уже меньше касалось нас, собравшихся за поминальным столом: мы просто родились в войну. Оно было в высшей степени значимым для наших матерей и для самого Степана Петровича, значимым, как свет и тьма, война и мир, жизнь и смерть.
9. Наследство
Спустя два дня после похорон ко мне в Мохово нагрянул Михаил Христолюбов. Он поставил чемодан у порога, сдержанно поздоровался и стал осматривать избу с таким видом, словно проверял, не спрятал ли я здесь кого.
– Неплохо устроился, – то ли одобрил, то ли уязвил он. – Дом просторный, крепкий – век живи.
Мама гостила у меня в то время. Просиживала одна по целым дням, ожидая, когда приду с работы, но и если мы были вдвоем, отчего-то оставалась молчаливой, несмелой, будто в чужих людях, и лишь жаловалась с виноватой улыбкой:
– Половицы скрипят, скрипят, и ходить боязно. Ты бы перебрал пол в горнице, Степа.
Я обещал сбить пол, но браться за что-то в этом доме еще не решался; казалось, начни только ремонтировать, переставлять мебель или даже белить, и сразу нарушится его дух. Тот самый дух, что был вокруг нас, когда мы со Степаном Петровичем сидели по вечерам за самоваром, писали письма или просто беседовали. Однако дому требовалась хозяйская рука – в углах завелась паутина, облупилась печь, а главное, скрипели половицы. Скрип этот отчетливо услышался после отъезда Степана Петровича из Мохова, и накануне его смерти половицы уже не скрипели – плакали.
Так что Михаил, скорее, язвил, говоря, что я тут неплохо устроился.
Появление его в доме почему-то напугало маму. Смущенно и настороженно она ожидала какого-то неприятного известия и поглядывала на чемодан Михаила.
Тот же несколько минут, сидя на табурете посередине избы, побегал глазами по стенам и будто бы с неохотой сказал:
– Пойдем, брат, посидим на улице. А то душновато…
– И правда, душновато, – с готовностью согласилась мать. – Идите посидите на улице, а я сготовлю что…
Мы вышли с Михаилом за ворота и сели на скамейку под почтовый ящик. Я уже понял, что Михаил приехал с каким-то важным делом, и теперь гадал с каким. Он же все не начинал разговора, глядел вдоль улочки и щурился.
– Ты как считаешь, это по справедливости? – неожиданно спросил Михаил. – Тебе дом, а нам, родным, ни шиша?
– Так ты из-за дома приехал? – спросил я совсем ни к чему, поскольку внутренне раза два «угадывал» причину визита.
– Ну а как ты считаешь? Я вот с женой разошелся! Мне жить негде! – сказал он уже с обидой и слезами в голосе.
Я оглянулся на дом Степана Петровича: окна его смотрели на улицу открыто и печально. И только слуховое на крыше слегка хмурило бровь-наличник.
– Забирай дом. И живи.
Он не поверил, видно, решил, что ослышался.
– Чего-чего?..
– Дом, говорю, забирай и живи.
Михаил помолчал, соображая.
– И ты так, без обиды?
– Какая обида?..
Он сразу ожил, воспрянул, заулыбался, приобнял за плечо.
– Я тебе казенную пробью! У меня тут в райисполкоме приятель! Только ты без обиды. Все-таки отцов дом, мы в нем выросли. Родное гнездо, понимаешь?
– Понимаю…
– Тогда утром сходим в сельсовет, ты мне дарственную напишешь. – Он заторопился. – А я в магазин, братишка, пока не закрыли. Посидим, выпьем…
Михаил ушел, а я вернулся в избу. Мать, собирая на стол, мельком глянула на меня, и этого ей хватило, чтобы сделать вывод.
– Вы что, поругались? Где Миша?
Я коротко рассказал о нашем разговоре, и мать вдруг обрадовалась.
– И правильно! – улыбалась она. – Зачем тебе такой большой дом? А у Миши все-таки семья, дети, ему как раз будет.
Я не сказал маме, что Михаил будто бы разошелся, потому что сам не верил в это.
Мы прождали его до глубокой ночи, а пока связывали в узлы мои пожитки. Уезжая, Степан Петрович взял только одежду да самовар из этого дома; заправленные домоткаными покрывалами кровати, сундук, шкаф и буфет остались не тронутыми с места. И теперь оставались их новому хозяину. Я будто бы здесь и не жил…
– Домой поедем, сынок, – приговаривала мама, и лицо ее сияло. – Домой, домой…
Неожиданно спохватываясь, начинала горячо убеждать, мол, хватит тебе, пожил в Мохове. Оно хоть и большое село, да бестолковое, и народ здесь – с бору по сосенке. Ведь и раньше о Мохове дурная слава была, конокрады тут жили, ямщики загульные и, сказывали, даже лиходеи, что грабежом промышляли. Как ни говори, Мохово стояло на тракте и своим рождением было ему обязано. Поэтому, видно, и сохранился здесь старый дух…
Эти два дня, пока мать гостила у меня, круглые сутки сидела на запоре и, прежде чем открыть дверь, лезла на крышу посмотреть через слуховое окно, кто пришел и один ли…
Михаил так и не явился. Мы легли спать, но еще долго разговаривали, а вокруг дома – в палисаднике, дворе и огороде – кто-то ходил. Я отчетливо слышал вкрадчивые шаги, легкое дыхание, шорох травы и малинника; порой казалось, кто-то прикасается руками к стенам и углам, трогает наличники и заглядывает в окна. Тогда я умышленно говорил громко и весело, чтобы ничего этого не слышала мать. А она, наверное, думала, что я радуюсь скорому возвращению домой, в Великаны, и тихонько смеялась в темноте.
Рано утром в двери застучал Михаил. Второпях он поведал, что заскочил вчера к приятелю – райисполкомовскому работнику, засиделся у него, но зато договорился насчет комнаты для меня, пока в бараке, который скоро шел под снос. Мы пошли в сельсовет, где оформили дарственную бумагу, затем оттуда я отправился на работу, «обрадовать» начальство. Я думал, что меня станут удерживать, уговаривать, предлагать немедленную квартиру, однако главный лесничий и в самом деле обрадовался.
– Езжай! – благословил он. – Ты нам в Великанах до зарезу нужен. Мы думаем создать там новое лесничество, считай, еще один мехлесхоз! Три пилорамы поставим, цех тарной дощечки, химподсочку и дегтярню. Колхозы закрываются – мы открываемся. Так что через год ты таким начальником будешь – рукой не достать! А пока лесником, на место Христолюбова.
И подмахнул заявление о переводе. Да еще тут же дал свой «газик», чтобы отвезти в Великаны.
Возвращение домой было стремительным. На следующий день я уже получал наследство от дяди Лени Христолюбова: три топора, две лопаты, пилу, бухту проволоки, чтобы зимой вязать метлы, старенькую одностволку и кордонную избу на Божьем озере.
А еще весь рожохинский угол со всеми лесами, озерами и рекой.
Сначала дядя Леня хвалил:
– Молодец! Я уж думал, наймут чужого, начнет здесь хозяйничать. Теперь я со спокойной душой уйду…
Потом ругал на чем свет стоит:
– Дурак! Зачем избу Мишке отдал? Это же отцова изба! А Мишка ее продаст, вот увидишь!.. Да и зачем ты сюда ехал-то? Никакого мехлесхоза здесь не будет. И думать нечего. Будешь торчать всю жизнь в лесниках, с дипломом-то. Вот попомни мои слова!
Дядя Леня будто в воду смотрел.
Через месяц Михаил продал дом за три тысячи, уехал в город и купил-таки машину. Создание мехлесхоза отложили сначала на год, потом еще на полгода и, наконец, вовсе отказались от этой идеи, поскольку жителей деревень сселяли на центральные усадьбы, оставляя одних пенсионеров, и рабочих рук не было. Скоро из восьми деревень осталось две – далекое Пышкино и Великаны. Места, где жили люди, пустили под плуг, и со временем привычные названия – Гуськово, Рощино, Ключи, Чистые Колодцы – сохранились разве что на слуху.
А Великаны опахали с трех сторон чуть ли не до самых крылец. С четвертой стороны не дала Рожоха.
Пустел рожохинский угол…
На двадцать великановских дворов осталось пять мужиков. Моей матери завидовали, поскольку в ее доме было сразу два – дядя Федор и я. Однажды дядя Леня Христолюбов посчитал и пришел к выводу, что концентрация мужского населения деревни во время войны была в три раза выше, если считать подростков и ребятишек. Посчитал и долго ходил ошеломленным.
– Это же надо, а? – восклицал он. – Будто еще одна война прошла! Похуже атомной – потери-то вон какие!
Среди женской части Великан появилась примета: коли утром, выглянув в окошко, увидишь мужика – к хорошей погоде. Дело в том, что и погода отчего-то изменилась. День-два вёдро постоит, а потом дожди, дожди, зимой – метели. В иной год так заносило дорогу, что и трактор не мог пробиться. Бывало, весь рожохинский угол жил по законам острова: месяцами ни почты, ни нового человека с вестями, ни просто проезжего. Наш магазинчик закрывался, так как пенсии и мою зарплату не приносили, у населения не было денег, да и товар оставался такой, который покупают раз в десять лет – чугунные плиты к печам, ведра, гвозди, топоры и лопаты. Правда, были и пряники, и рыба минтай в томатном соусе, однако в Великанах больше любили свежую, а по утрам в каждой избе пекли блины и подавали на стол со сметаной – мороженой и протертой на крупной терке.
Метельными зимами, среди белых и пухлых, как тертая сметана, снегов, казалось, что жизни на земле больше нигде не существует и все человечество умещается на двадцати великановских дворах. Когда в ясную погоду над головой пролетал невидимый самолет, оставляя белопенный след, становилось странно и чуть жутковато, как бы в бессонную и одинокую ночь вдруг кто-то постучался в окно…
Все кругом – природа, старые избы и оставшиеся люди – погружалось в детское состояние, и по-детски воспринимался мир.
Но с весной все оживало. Гудели трактора на полях, жужжали моторчики на летних дойках, с воем проносились по Рожохе скоростные лодки, и встречный ветер выжимал слезу из глаз отдыхающих.
Переждав черемуховые холода, на берег выходили великановские инвалиды – Туров и Петруха Карасев. Изредка к ним присоединялись дядя Федор и дядя Леня. Они лежали на попонах, грелись на солнце и дышали запахом цветущей черемухи. Говорили мало, войну почти не поминали, а об атомной вообще речи не заводили. О ней теперь бесконечно писали в газетах, передавали по радио, так что говорить об атоме было скучно. Великановские мужики давно решили – до Великан в любом случае не достанет, да и какому захватчику взбредет в голову кидать бомбы в рожохинский угол?
Дядя Вася Туров и Петруха, полежав денек под черемухами, на следующий уже не выходили. У них была своя забава – инвалидные коляски. Лишь они двое дожили и получили наконец то, о чем когда-то мечтали. В середине шестидесятых Туров с Карасевым закончили в городе курсы водителей и прикатили в Великаны на «инвалидках». Правда, своим ходом прибыл только Петруха; дядю Васю он притащил на буксире. Турову так не терпелось покататься, что он, не проверив масло в двигателе, сел за руль и помчался. Говорят, летел он быстрее ветра, едва вписываясь в повороты: летел, смеялся и пел, пока не перегрелся и не заклинил мотор. Через полгода дядя Вася отремонтировал его, завел и еще раз прокатился, после чего «инвалидка» простояла в сарае, пока не вышел срок ее службы. Получив вторую, он решил ездить потише, однако снова не дотянул до Великан – полетел мост. Тогда он собрал из двух одну и поездил еще дня два. Потом была у дяди Васи и третья, и четвертая, но все они так и стояли в сарае. Зато теперь дядя Вася круглый год занимался ремонтом, ходил перемазанный до ушей и был доволен. А передвигался он по старинке, на березовых протезах, которые тоже менял через год. Его эти огромные протезы можно было найти в Великанах где угодно – на дороге, в колодце, на крыше заброшенного клуба. Говорят, однажды на реке берег обвалился, а из земли, с глубины двух метров, вывалился туровский протез. Почему-то он не берег их и, кажется, тихо ненавидел.
Помню, в детстве «инвалидная команда» отрядила дядю Васю в магазин за бутылочкой. Дядя Вася стал пересчитывать мелочишку на магазинном крыльце и уронил двугривенный в щелку. Продавщица заартачилась и не дала вина, дескать, не хватает, иди ищи. А крыльцо у магазина было рубленое, плахи толстые, настеленные в потайной паз – и прут не просунешь. Просить у людей двадцать копеек дядя Вася ни за что бы не посмел, а поэтому снял протез, засунул его под нижний венец крыльца и поднял его, как вагой. Меня, как самого маленького, протолкнули под крыльцо. Я шарил в потемках по земле, разрывал щепки, мусор и набивал кулак деньгами. За многие годы сюда нападало столько мелочи, что хватило на вино всей «инвалидной команде». Пока я собирал деньги, Туров держал на своем протезе крыльцо, пыжился и хрипел, чтоб вылазил скорее. И только я хотел вылезти, как протез не выдержал, переломился, лаз захлопнулся и я оказался в ловушке. Дядя Вася запрыгал на одной ноге, отыскивая, чем бы поднять крыльцо, но ничего прочного под руки не попадалось. Помаленьку сбежался народ, мужики принесли с кон-базы две оглобли и вчетвером едва-едва подняли. А Туров тем временем материл дядю Леню Христолюбова, дескать, опять пожалел березы и сделал какой-то гнилой протез. Небось Петруха Карасев вон сколько лет на одном ходит и хоть бы что.
Но когда дядя Вася получил первую «инвалидку», вдруг перестал менять протезы. Скорее всего переключил внимание на машину, потому что возмущался теперь по другому поводу.
– Инженеры, мать их так! – ругался он. – Путную машину сделать не могут! Вот бы их заставить ездить!
Осмотрительный и аккуратный Петруха Карасев катался на своей машине целых два месяца. Туров от зависти с ним здороваться перестал, только кулаком вслед грозил – погоди, и ты доездишься! Наверное, карасевской «инвалидке» бы и износу не было, да Туров накаркал беду. Петруха время от времени страдал от радикулита, а поэтому снял брезентовый верх, приспособил к сиденью широкую доску, чтобы упираться спиной, и ездил стоя. (На первых «инвалидках» вместо автомобильной баранки был мотоциклетный руль с рычагами тормоза и сцепления.) Дразня Турова, Карасев с гордым видом и на большой скорости проезжал по Великанам, выкатывался на берег, крутился по лаптошной поляне, а когда бывал выпившим, так устраивал целое представление перед деревней. И вот однажды он со всего хода врубился в столб. Хорошо, что стоял за рулем, иначе убился бы о стекло. А так Петруха вылетел из машины и укатился далеко вперед. Однако во время столкновения зацепился-таки за какой-то рычаг, порвал мошонку и, по сути, кастрировал сам себя. Отвалявшись в больнице, он вернулся домой, выпил, взял кувалду и вдребезги разбил «инвалидку».
С тех пор Петруха Карасев больше не получал бесплатных казенных машин. Они с Туровым давно помирились, однако когда дядя Вася уходил с берега заводить одну из отремонтированных «инвалидок», Петруха скрипел зубами и шел к себе во двор. В предбаннике он брал лом и мрачно ступал в сарай, где стояла сплющенная в ком железа машина.
И тогда звучный грохот долго разносился по всей деревне.
Туров тем временем маялся с зажиганием или карбюратором. И когда они уставали, то опять сходились вместе, копали червей на огороде в одну червянку, брали удочки и подавались на Божье озеро. Я часто видел на дороге их следы: левые – от кирзовых сапог большого размера, правые – оставленные протезами глубоко вдавленные ямки. Такие же следы я неожиданно находил далеко от деревни и в других местах – на старых, зарастающих проселках, на пашнях, в лесу и лугах. Отпечатки сапог, бывало, и не разглядишь, а следы протезов оставались всюду. И отметины эти подолгу сохранялись на земле; их не смывало частыми дождями, не заносило песком, и трава в них почему-то вырастала не сразу. Они вдруг вытаивали весной из-под снега и стояли до самого лета, заполненные водой, светлой и чистой, как слеза.
Дядя Федор с дядей Леней тоже долго не оставались на берегу. Слегка пьяные от тепла, солнца и запаха цветущей черемухи, они все-таки вспоминали о каком-нибудь заделье и шли к нашей избе заводить трофейный немецкий мотоцикл.
Я оставался один. В первые минуты мир вокруг казался бесконечно светлым и счастливым. Цепенела от задумчивости Рожоха, поднимая на себе палую листву и лесной мусор, почти на глазах вырастала трава, лопались и распускались гроздья черемухового цвета. Еще бы мгновение, и я бы, наверное, оторвался от земли, поверив, что все так же счастливы, как я…
Но вдруг откуда-то из голубой чистоты неба с нарастающим пронзительным воем падал на землю бекас-штурмовик, затем с утробным гулом рушился в воду подмытый берег. И когда утихала взволнованная гладь реки, над головой тревожным колокольчиком начинал звенеть жаворонок. Звонок этот будил, стряхивая остатки чудесных сновидений; он словно возвещал всему миру – жив, жив! – и одновременно навевал ощущения, с которыми мы с Илькой-глухарем тащили лодку на Божье озеро.
Я уходил с берега и, как единственный трудоспособный, шел на работу. С каждым годом хлопот прибавлялось, хотя жизнь в рожохинском лесу замирала и грозила вообще сойти на нет. Исчезали деревни, разъезжалось население, однако людей в лесах становилось больше. На машинах, на велосипедах и пешком сюда ехали охотники, рыбаки и просто отдыхающие. По ночам вдоль Рожохи, вокруг Божьего озера и в лесах полыхали костры, иногда перерастая в пожары, трещали под топорами деревья, ухали браконьерские выстрелы. И каждый год в наших краях появлялась какая-нибудь экспедиция. Сначала пришли орнитологи, затем собиратели фольклора, ботаники и, наконец, геологи. Я ходил у всех проводником и втайне надеялся – вдруг да найдут у нас что-нибудь такое, что сразу возродит и поднимет умирающую жизнь в рожохинском углу. Бывает же, где-то открывают нефть, руду или золото… Но наши птицы были как и по всей России, и великановские женщины пели старинные песни, как поют их по всей земле. Не спасли дела ни хорошие залежи строительного песка – его было повсюду много, ни даже знаменитый орех-рогульник, который столько раз выручал из беды. Наконец пришли археологи. Они раскопали стоянку древнего человека на Божьем озере, по моей просьбе – одну из могил великанов, показанных дядей Леней Христолюбовым, и ничего особенного не нашли. Черепа и кости оказались точно такими же по размерам и строению, как у современного человека.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.