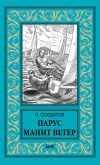Текст книги "Хлебозоры"

Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Мужики до войны приходили к Степану, жаловались на его ребятишек, дескать, уйми ты свою ораву, житья нет. И муж Катерины, Василий, приходил, колхозный счетовод, говорил, будто Мишка его парнишек сосульки учил глодать. Будто они без Мишки не научатся. Перед самой войной оба мальчишки Катерины умерли от скарлатины. Василий сам не свой стал от горя, на Степана озлился: мол, у тебя вон сколько и все живы, ни одна болезнь не берет. Так потом и на фронт ушел, озлившимся… И Кольки Турова отец приходил – кладовщик, когда Мишка с Аркашкой в колхозный склад залезли и четыре сыромятных гужа украли, чтоб бичи себе сделать и щелкать. И Дарьюшкин муж-тракторист приходил – трубку от мотора открутили на поджиг-самопал.
Остался теперь Степан Петрович один за всех в Великанах. За счетовода, за кладовщика, за возчика, поскольку последний трактор давно стоял сломанным.
Ледянка кончалась, и в просвете визиры уже виднелось плотбище. Горы сосновых кряжей ярко желтели на заснеженной Рожохе, угловато торчали пятитысячные маты на речном, затопляемом откосе, а рядом суетились женщины с крючьями в руках, катали гулко звенящие бревна, перекликались – бойся! Раз-два-взяли!.. Горели костры, возле которых грелись и махали головешками маленькие ребятишки. Христолюбов остановил мерина на склоне берега, чтобы легче сгружать лес, развязал веревку. От штабеля, заметив Степана Петровича, побежала Катерина, замахала рукой.
Степан подобрал стяжок и начал сваливать бревна. Женщины стояли поодаль, уперевшись крючьями в землю, тихо переговаривались и смотрели в его сторону.
– Степан, Степан! Уполномоченный приехал, – торопливо заговорила Катерина. – Нас вызывал…
– Знаю, Катя, – перебил Христолюбов. – Ты вот что, ты с завтрашнего дня ступай-ка черемушник рубить. Все к дому поближе…
Катерина прижала к груди киянку и узкую стамеску – инструменты маркировщика, в растерянных глазах копилась надежда.
– Не обижайся, Катя, – вздохнул Степан. – Я ж тебя временно ставил…
– На черемухе пайка маленькая, – пожаловалась Катерина. – А нас, едоков-то… Не протянем…
– Пайка лесорубная останется, – заверил Христолюбов. – Как-нибудь, Катерина. Как-нибудь…
И пошел с плотбища в гору, к засыпанным под окна великановским избам. Контора была недалеко, но Степан Петрович свернул на другую улицу и направился к избе Валентины Глушаковой. Призывник Михаил, несмотря на мороз, в одной рубахе метал сено под крышу стайка.
– Ухожу я! – похвастался он, работая вилами. – Весной мамке некогда будет сметать, останется под дождь, погниет…
Сама Валентина стояла у плиты, жарила картофельные напополам с тертым орехом-рогульником драники и беззвучно плакала. Слезы падали с ее красного лица и шипели на раскаленной чугунине. Степан молча достал бумагу, карандаш, пристроившись у печки, написал записку.
– Пошли парня на Божье, – сказал он тихо и виновато. – Пускай дадут пять фунтов муки и оковалок мяса. Сахару нету, так полфунта конфет дадут. Постряпай там что… Проводи, как полагается.
– Ой, спасибо тебе, Петрович! – оживилась, заплакала в голос Валентина. – Горюю, проводить-то по-людски нечем…
– Не мне спасибо, – проронил Степан. – Парнишкам с военобуча. Харчи-то ихние… Вот как живем мы, Валентина, в одном месте отрываем, к другому пришиваeм… Да ничего, не век же этой войне…
Валентина спрятала записку, схватила телогрейку. В избу зашел раскрасневшийся, сияющий Михаил.
– Ты, мамка, не забудь: корова у нас сразу после Рождества отелится. Смотри не прокарауль, сарай-то холодный, не успел перебрать…
– Не забуду, сынок, не забуду!
– Потом напишешь мне на фронт.
– Напишу. – Она спохватилась: – Петрович, ты на проводины-то приходи! Нынче вечером, как бабы с работы вернутся.
– Ладно, – пообещал Степан, держась за дверную скобу. – Если не заберут – приду…
* * *
Христолюбов зашел в контору, где было натоплено, душно и сине от махорочного дыма. «Фронтовика прислали, – в последний раз подумал он, открывая двери. – Чтоб устыдить покрепче…»
В комнате, где была бухгалтерия, нарядная и одновременно «кабинет» Степана Петровича, за длинным непокрытым столом с лавками сидел Андрей Катков, парень лет тридцати, родом из соседней Полонянки. Был он в гимнастерке, без ремня и погон, на груди – пригоршня медалей, в углу – черные облупленные костыли.
– Андрюха?! – Степан сорвал шапку и хлопнул ею по столу. – А где уполномоченный-то?
Катков, держась за стенку, выбрался из-за стола, пожал Степану руку и сел на скамейку, под окно. Не улыбнулся, не обрадовался – виделись еще до войны! – боднул головой воздух и насупился.
– Мне передали, аж из области приехал, – продолжал Христолюбов. – Думаю, Петровский не одолел меня, так в область нажаловался…
– Я уполномоченный, – хмуро проронил Андрей. – Петровский на фронте…
Степан сел верхом на лавку, присвистнул, разглядывая Каткова.
– Значит, ты… Один приехал или с милиционером? Петровский грозился и милицию привезти.
– Один…
– Та-ак, – протянул Христолюбов. – Ну а линию какую поведешь? Эстакады разрешишь строить? Или опять запрет? Опять бабам пупы рвать?
– Линия у нас одна: стране нужен лес. – Катков тряхнул головой, будто забрасывая свисающие волосы. Но забрасывать было нечего. На стриженной под машинку голове Андрея виднелось несколько проплешин от недавно заживших ран. Катков исподлобья глянул на Степана, отвернулся. – Ты когда стареть будешь? Сколь помню – все такой же…
– А белой масти люди не седеют, – улыбнулся Христолюбов. – Поседеют, так не видать все равно… Петровский тебе про меня все доложил?
– Доложил, – бросил Андрей. – Да и без доклада все ясно. На всю округу гремишь, Степан Петрович. Думал, в верхах только про тебя говорят, а сюда приехал – твое имя с уст не сходит.
– А как же, один ведь остался, да и ростом я высокий, не спрячешься, издалека видать… Линия, говоришь, одна? Значит, приехал из партии исключать? С работы снимать? Ну давай, действуй по закону. Я ничего не скрываю. За быка пытать будешь?
– За быка и жеребенка, – поправил Катков. – И еще кой за что…
– Ну-ну, давай, – усмехнулся Степан. – Петровский тот сразу кулаком по столу начинал стучать. В это вот место, – показал на столе. – Глянь, там не треснуло? А то как даст – лампа тухнет. Здоровый мужик…
– Хватит, Степан Петрович! – не поднимая головы, оборвал Андрей. – Больно говорливый стал…
– Это я от радости, товарищ уполномоченный, – засмеялся Степан. – Шел сюда – думал, все, с ребятишками попрощаться не успею. А тут вон какая неожиданность – земляк! От души отлегло…
– Ничего, я сейчас положу на твою душу, – сурово проговорил Андрей и дернул головой, хватаясь за затылок. – Согласно акту в прошлом году у тебя бык хребет сломал?
– Было дело, – согласился Степан Петрович. – Прирезали.
– А нынче что? Опять хребет сломался?
– Нет, нынче ногу сломал. Бык-то квелый был, доходной, кости ослабли…
– И у жеребенка ослабли? – Катков глянул в упор.
– У какого жеребенка? – приподнялся Степан. – Среди коней падежа не было. Пойди пересчитай: все по книге.
– Ты его в книгу и не вносил! Целый год в лесу прятал!
Христолюбов пересел на угол и отвернулся к окну.
– Овчинников на меня доказал? Ну и нашел кого слушать…
– Ты что, Степан Петрович, дурака-то валяешь? – чуть сбавив тон, сказал Катков. – Привык Петровскому хитрить, но мне-то не надо. Я тебя знаю… Ну давай всю тягловую силу под нож пустим, поедим к чертовой матери, а потом? Видали руководителя такого! А на чем лес вывозить, пахать на чем?
– Великаны два плана дают каждый год! – отрезал Хрис-толюбов. – А как – не твое дело. Вон лес на Рожохе, вон акт сдачи хлеба. И ты, Андрюха, на меня не ори, молодой еще, хоть и на фронте был. Виноват по закону – арестуй, только не ори. Иначе я с тобой разговаривать не буду.
У Каткова нервно блеснули глаза, раздулись крылья носа, однако он стерпел, резким движением взял костыли и встал, обвиснув на них так, что плечи выперли на одном уровне с головой. Левая нога его была согнута в колене, подтянута ремешком и обмотана старой клетчатой шалью.
– Нич-чего, будешь говорить, – сдерживаясь, процедил сквозь зубы Катков. – И за все ответишь. За быков, за жеребенка и за…
– Послушай, Андрей, – перебил Христолюбов. – Ведь война же, война. Людей вон как калечит, а что уж там скотина… Ничего, выдюжим, если все как одна семья. Быки – дело наживное. Лучше уж их, одного-другого, под нож, чем парнишек. Ты на передовой бывал, видел, какое нынче пополнение идет. А теперь на Божье сходи, глянь, откуда оно берется… Парнишкам по семнадцать, на фронт собираются, а любого соплей перешибешь. Какие из них бойцы? Постреляют, как рябков… Вот оно где вредительство, Андрей. А ты вцепился – я быка зарезал… Комиссия парнишкам была, взвешивать стали – больше сорока редко кто тянет… Это ты хоть понимаешь?
Катков медленно распрямился, отставил костыли и сел за стол. Тихо зазвенели медали на широковатой гимнастерке. «Проняло, – решил про себя Степан. – Еще бы сам глянул, так до пяток достало».
– Военобучу норму бы убавить, – попросил он. – Похлопотал бы… Парнишки едва справляются, а им силу надо копить, на фронт. И кормежку бы добавить. Остальным – ладно, перетерпят, все-таки дома остаются. Ребятишкам – воевать.
Андрей замолчал надолго, лишь изредка поднимал глаза, шарил ими по пустому столу, вскользь пробегая по лицу Степана, и снова упирался в свои руки. Христолюбов тоже умолк, вспомнив военобуч на Божьем озере. Как ни говори, парнишки растут, им питание крепкое нужно, да где его взять? Военобуч стоял на довольствии у лесопункта, допризывники питались в столовой, и Степан Петрович старался отдать туда лишний кусок сала, пуд картошки: все-таки ребятишки не дома живут, в казарме. Дома-то, глядишь, что от коровенки перепадет, от огорода, а здесь неоткуда ждать. Разве что орех в озере добывать, да после работы и полевых занятий они с ног валятся; лед же толщиной около метра… Однако сколько ни подбрасывал лишних продуктов на Божье, все жалобы были – в плошках хоть бы жиринка плавала. Капуста как попало сваренная, хорошо еще картоха попадается. Как-то раз допризывники вернулись с работы, сели ужинать и кто-то не выдержал, спросил у поварихи про сало. Та возмутилась, дескать, где сало-то взять? Не видите, война кругом, голод. Этому бы радовались. И только она выглянула в раздаточное окошко, как кто-то (попробуй разберись кто, когда в столовой темень) влепил ей в физиономию разваренным капустным кочаном. Хорошо влепил, метко, словно гранату в амбразуру бросил – только брызги полетели. Да и промазать было мудрено: поварихино лицо едва в окошко умещалось…
Повариха закричала и кликнула на помощь Топоркова – лейтенанта, не взятого по здоровью на фронт и присланного в Великаны обучать допризывников. Лейтенант вывел парнишек на улицу, положил на снег и заставил ползать. Дисциплину воспитывал так. Парнишки, успевшие взмокреть в жаркой столовой, но не поесть, распахивали пустыми животами снег и почти тонули в нем. Христолюбов, застав такую картину, попросил Топоркова вернуть ребятишек в столовую, мол, завтра в шесть на работу, а они еще не кормлены и одежда мокрая. Лейтенант на дыбы – я тебе не подчиняюсь! Тогда Степан Петрович взял за шиворот крайнего допризывника, поставил на ноги, потом второго, третьего; остальные сами повскакивали. И велел в столовую идти. Топорков рвал и метал, за пустую кобуру хватался.
– Да я тебя!.. За срыв военной подготовки!..
Христолюбов вошел в столовую, а повариха к нему – замучили, кричит, ироды! Варишь, варишь им и не угодишь. Все им, дармоедам, мало. За всю жизнь Степан Петрович ни разу на свою жену руки не поднял и словом-то редко обижал. Если уж припрет совсем – матюгнется в сердцах и уйдет. Но тут захотелось ему ударить – не жену, бабу чужую, вдову, да так, чтоб с ног долой, чтоб уползла в угол и выла там, хлебала кровь. Едва сдержался, скрипнул зубами.
– Ладно… Варить не будешь. С завтрашнего дня на ружболванку и пойдешь, лучок возьми лес валить.
Баба вмиг ошалела, чуть не в ноги бросилась:
– За что, Степан Петрович? За что снимать-то? Что я такого сделала?
– Ты не баба, не женщина… Ты… – Христолюбов выматерился. – Чтоб духу возле ребятишек не было!
В глаза она ему ничего не сказала, зато потом с Топорковым вместе такую жалобу сочинили, что Петровский два дня ходил по Великанам, людей опрашивал и оставил Христолюбова до первого замечания. Однако едва он уехал, Степан Петрович пришел ночью на конбазу, разбудил Овчинникова, дал ему нож и показал самого доходного быка. Конюх нож бросил, замотал головой:
– Нет, Петрович, уволь. Я на такие дела несогласный. Тебе простят, ты партийный, а меня заметут на старости лет.
И пошел в хомутовку досыпать.
Христолюбов сам зарезал быка, перешиб ему ногу ломом и отвез на Божье озеро. Поварихой он назначил Варвару Коренькову – та недавно переболела шибко, слабая была, куда ее в лес посылать? Вручил он Варваре безмен, лист бумаги и карандаш, чтобы отвешивала и все записывала, сколько в котел положено. И чтобы потом за каждый фунт отчиталась. Месяца не прошло – еще одна жалоба на Христолюбова поступила…
Катков отряхнулся от дум, болезненно сморщился, удобнее ставя раненую ногу.
– И еще бы, Андрей, Топоркова заменить, – пожелал Степан Петрович. – Не годный он с ребятишками работать. В мирное время, может, и ничего, а в войну не годный.
– Зато ты, Степан Петрович, на все годный в любое время, – зло сказал Андрей. – Тебе война не война… Мужики на передовой кровь проливают, а ты!.. Позор!
Христолюбов невесело усмехнулся, сгорбился над столом, подобрав ноги под лавку.
– Значит, и про это доложили…
– В первую очередь! – Катков стал наливаться краснотой, но, видно, крови не хватило – только пятнами пошел. – Смеются уже… Говорят, в Великанах да Полонянке единственное место осталось, где бабы рожают, как до войны.
– А чего смешного-то? Это хорошо – рожают, – довольно сказал Степан. – Они и лес еще добывают, и хлеб. Много добывают, мужикам до войны и не снилось.
– Видали?! Хан турецкий выискался! – взорвался Андрей. – Князь удельный! Что хочу – то ворочу! Гарем устроил!.. А что мужики скажут, когда придут, подумал? Спасибо, скажут, Степан Петрович, постарался за нас, пока мы Родину и тебя защищали. Соображаешь, что творишь-то?
– Ничего они уже не скажут. – Степан опустил голову.
Перед глазами выросла Дарьюшка – молодая, крепкотелая, туман над рожохинским половодьем, скрип рулевых бревен на матах и скрип коростелей по низким берегам. «А если Павел-то живой? Степушка?.. А если вернется? Говорят, бывает же… Как я отвечу ему? Как отчитаюсь? Вдруг не простит, а, Степан?.. Ослабла я, ох, как ослабла. Детеночка хочу, сыночка…» – «Помолчи сейчас, Дарья… Слышишь – коростели орут? Слышишь, весна, Дарьюшка, весна!..»
– Ты, Андрей, этого не касайся, – вздохнул Степан. – Ты за быков приехал спросить – отвечу, а это не трогай.
– Я и за это хочу спросить! – отрезал Катков. – Со всей строгостью, потому как это важнее!
– Ишь ты! – Христолюбов мотнул головой. – Еще круче Петровского берешь… Да я ведь все равно сверху буду, Андрей. Не теперь, так потом. Теперь-то ты можешь мне столько вины намотать – до смерти не изношу. Вон какой ярый!
Андрей взял костыль, отковылял в противоположный угол и долго стоял там, глядя в стену. Шея горела от гнева, краснели проплешины на крутом затылке, и перекошенное костылем плечо подрагивало.
– Седина в бороду – бес в ребро, – проговорил он и повернулся к Христолюбову. – Перед своими детьми стыдно должно быть. Жена у тебя живая… Что ты делаешь, Степан Петрович? Суразята эти, что бабы нарожали, и отца знать не будут.
– Как это не будут?! – взвился Христолюбов. – Какие суразята? Нету у нас суразят! Нету! Все дети мои. Всех до одного знаю и не забываю. Это как же – помнить и знать не будут?.. Я не кобель, Андрей, я своих детей не бросаю. Война вот только, помочь нечем особо, но с голоду никому не дам пропасть. Сам жрать не буду, а их подниму.
– Поднимешь? – бросил Катков. – Чем? У тебя своих-то сколько?
– Они мне все свои. Все до одного. Я их не делю. И те, что осиротели, – тоже мои. Раз один я остался!
Катков нервной рукой достал кисет из кармана брюк, вернулся к столу, закурил, пряча сигарету в кулаке. Глядя на него, закурил и Степан. Только самокрутку сворачивал не спеша, спокойно, и это спокойствие злило Андрея. Христолюбов ожидал новой вспышки гнева, однако уполномоченный, отвернув глаза, спросил негромко, но с напряжением:
– Марья Дьякова в Полонянке недавно родила… Твой?
– Мой, – подтвердил Степан. – Чей же еще?
– Ну… – Андрей хрустнул кулаками. – Она же мне тетка! Марья!
– Значит, теперь родня с тобой, – проронил Христолюбов и сжался плотнее, ниже ссутулился. – Хоть дальняя, но родня.
– Сколько же всего-то у тебя? – плохо скрывая мужское любопытство, спросил Андрей.
– А много, Андрей. Скажу – так не поверишь. Петровский, тот считать пробовал, учет хотел навести, чтоб судить легче.
– У Катерины… – Катков неопределенно кивнул. – Тоже твой?
– Тоже мой. Василием зовут… Первые-то два померли у нее… Ты, Андрюша, не пытай меня. Надо – сам расскажу. Вот скоро еще один появится. У Дарьюшки… Шибко ждет. Не выжить, говорит, в такую войну одной. Слабая она, Дарья-то. Телом крепкая, а душа у нее словно былинка. Таким женщинам только в мирное время жить полагается. Она же не для войны родилась, вот и мается…
Катков утер руками лицо, вздохнул.
– Ну а жена твоя как на такое глядит? Как она выносит позор такой? Ей же на улице не показаться…
– Дети – не позор, Андрюша, – тихо проговорил Хрис-толюбов. – Вот кормить путем нечем – другой разговор. Вот тут мне позор… А бабе моей позору нет. У нее на руках пятеро. Да и старая она, последнего с грехом пополам родила… Некогда ей сплетни слушать. Да и сплетни у нас нынче не носят, война… Пять ртов накормить надо, умыть-одеть. Я домой ночевать только прихожу, и то не всегда…
– Да-а!.. – Катков помотал головой, подпер ее кулаками. – Когда сюда ехал – думал, ты каяться станешь, оправдываться, врать. Думал, совесть тебя замучает. А ты, гляжу, гордишься вроде. Голову кверху, как бугай среди коров…
– Считай, как знаешь, – отмахнулся Степан. – На передовой ты одно видал. Здесь у нас все не так… Там ты воевал, дрался, а мы здесь и воюем, да еще и живем. Как обычно живут, живем. Надо и лес добывать, и ребятишек рожать… Погляди кругом да вдумайся.
– Да у меня и в уме такое не укладывается! – рубанул Катков. – Беда кругом, горе, а ты развел тут…
– У тебя война в уме укладывается? – тихо спросил Христолюбов. – Войну ты можешь понять или нет? Кроме того, что она в смерти да в горе, ничего не замечаешь? Вот тебе ногу повредило, головой дергаешь, мои бабы в лесу через пуп бревна катают – укладывается? За день так намерзнутся, домой идут – за версту слыхать. Одежа на морозе скрипит… Идут и еще поют! В мирное время не пели, разве что на гулянках… И хорошо, что поют. Чуют они, бабы-то: без ничего и пропасть можно. Вот и дюжат, что поют… А хорошо, если бабы скоро забудут, что они – бабы?
– Так ты им решил напомнить, – после паузы сказал Катков. – Начальник еще, руководитель… Да ты враг, Степан Петрович, если разобраться.. Ты же баб этих из строя выводишь. Они у тебя по три месяца не работают, а потом еще три ходят на легких работах.
– В первую очередь бабы рожать обязаны, не бревна ворочать! – отрубил Степан. – Вот их самая настоящая работа. Рожать да растить. Про то, что не работают, – помолчи. Лесопункт два плана дает…
– Ты успехами не прикрывайся! – крикнул Андрей и пристукнул костылем. – За блуд отвечать будешь. Если по-твоему думать, так получается, мужиков побили на фронте, а тебя на племя оставили? Да мы же люди! Не стадо! Ты партийный, Степан Петрович, должен понимать нашу мораль! Начальник в открытую живет сразу с несколькими женщинами, причем подчиненными! Похвалят за это? Спасибо скажут? Или думаешь, раз война, так все спишется?
Христолюбов привстал, упершись руками в столешницу, спросил полушепотом:
– Ты на такое не замахивайся! Хочешь сказать, я женщин принуждал? Положением пользовался? Куда ты повернул!..
– Ну если и не принуждал – все равно, – поправился Катков. – Кто разбираться станет? Факт налицо. И бабы-то что? Женщины, вдовы, а?.. Мужики полегли, а они…
– Меня совести, меня! – глухо сказал Христолюбов и сел. – Женщин не трогай. Права трогать не имеешь. Мы им не судьи. Они лучше знают, что делают. Чуют они…
Снова протяжно заскрипели рулевые бревна на матах. Утро, весенняя Рожоха, шелест утиных крыльев над головой, крик коростелей. «Что же ты, Дарьюшка, из-за легкой работы ко мне пришла? Чтоб я тебе послабление дал?.. Эх, Дарья! Вот кончится война – будет вам отдых. На месте Сталина – всем бы бабам лет на двадцать роздых дал. Живите да ребятишек рожайте». – «Так работать кто станет? Вон сколь мужиков поубивало. А придут калеченые – что с них?.. Долго нам отдыха не видать, Степа, ой долгонько еще… Но ты все равно поставь меня маркировщицей. Ну хоть не поставь, так пообещай, посули, что поставишь когда-нибудь. Ты же знаешь, я на легкую работу никогда не просилась. Это сегодня возле тебя слабая стала. Баба же я, а бабе только пообещай, так она и обещанием жить будет».
Плывут по Рожохе маты, курятся дымы над будками плотогонов. Третья военная весна пошла. И сколько еще будет таких весен? «Бабы-то мне и раньше говорили, будто ты мужик интересный, обходительный. И ребятишки от тебя не болезненные, шустренькие. Посмотрю на твоего поскребышка – сердце ноет… Мне бы такого да своего! Я ж еще, Степушка, пеленки не нюхала. А они, сказывают, сла-а-аденько пахнут… Грех великий, чую же, – твоей жене завидовать. А я завидую, Степа! И ревную… Я – молодая и старухе завидую!.. Дай, Степушка, послабление…»
– Понять хочу, что ты за человек, – вдруг признался Катков. – Как ты живешь, как осмелился на такое? Ладно бы еще, если любовь. Свихнулся от этого, закуролесил. Из-за любви-то я могу поверить. Ну с одной бы тогда! А то…
– Я их всех люблю, Андрей. Всех. – Степан глянул исподлобья. – Без любви и лесину не спилишь. У них все с любовью делается. И мне без любви тут никак нельзя. На фронте надо, чтоб ненависть была, а у нас чтоб любовь. Без нее все пропадет. Ты поживи, погляди, этим женщинам одно спасение нынче – дети и любовь. Им ведь ничего другого уже не осталось… А если у нас мораль такая, что баба хочет родить и не может – грех без мужа, то нужна ль такая мораль? В войну она не годится. В мирное время – еще ничего, а в войну мы с ней пропадем.
Катков помолчал, высматривая кого-то на улице сквозь проталину на стекле, обнял костыль.
– Не знаю, как и говорить с тобой, – вздохнул он. – Теперь понимаю Петровского. Наверное, из-за тебя он и на фронт попросился, два выговора получил… Мне теперь проситься некуда… Короче, из партии исключать тебя надо. И судить по военному времени.
– За быков?
– Ну, быка с жеребенком еще можно простить. Это я понимаю… За это из партии полетишь. А вот за распущенность судить будем.
– Суди, я статей-то не знаю, может, и есть, – согласился Степан. – Прямо сейчас с тобой и поеду, даже без милиции. Мужик ты не пугливый, вон какой иконостас на груди! – кивнул на медали. – Но поеду с таким условием: похлопочи, чтоб Топоркова убрали. А еще надо метров сорок мануфактуры и телогреек двадцать восемь штук. И пимов надо, и шапок. А то парнишки мои, стахановцы, начисто обносились, смотреть страшно. Ну и кормежку военобучу. Хлебную пайку добавить и сала, хотя бы по полфунта в неделю. Похлопочешь – поеду.
– Где я тебе возьму? – возмутился Андрей. – Все на фронт идет, там тяжелее! Еще и условия ставит…
Не договорил, боднул головой воздух, насупился.
– Тогда не поеду! – отрезал Степан. – А силком не увезешь. Я своих ребятишек на фронт таких не пошлю! Пока ты за милиционером ездишь, я еще пару быков завалю. А мясо военобучу отдам и по семьям, где допризывники есть. И Топоркова разжалую… Вот тогда и судить меня будешь! Мораль и закон нарушу еще раз… – И вдруг подавшись к Каткову, заговорил медленно, тихо: – Пойми, Андрей, ведь не я же их нарушаю. Война нарушила. И мораль, и закон – одним махом. Мы сейчас по-другому живем и думаем по-другому. Ты судить хочешь, а мне кажется, народ чище стал. Бывает так худо – ложись и помирай. Но бабы вон идут и поют на морозе… Ты все про мораль говоришь, за нее боишься… Да если есть в народе мораль, ее никакая война не погубит. Нарушить может, а погубить… Чем круче яр на реке, тем его подмывает сильнее, и берег валится, валится. Да только земля-то никуда не девается. Некуда ей деться. Промоет ее водой да и отложит на другой стороне. Помнишь, на Рожохе: пески каждой весной намывает чистые, белые…
И замолчал, снова вспомнив маты, плывущие по реке, скрип рулевых бревен и коростелей. Вода большая была, дурная от своей силы, и берега рушились под ее напором вместе с травой и деревьями.
– Говорить ты научился, – звякнув медалями, пошевелился Катков. – Ловкий на язык стал…
– Мне и языком приходится работать, – вздохнул Хрис-толюбов. – Комиссаров в тылу нет. Так что самому все надо… И врать приходится. Бабам-то я все послабление сулю, обнадеживаю. Тоже вроде на какую-то мораль наступаю… А то они к ворожейкам пошли, к попам, за словом-то. Так уж лучше я им совру…
– Ладно! – прервал Катков и стал сидя надевать офицерский полушубок. – Поехали! Райкому свои условия ставь – не мне.
Отмякшее было лицо его вновь затвердело, заострились скулы под сухой кожей. Андрей выглянул в окно: закуржавевший конь, привязанный за перила конторского крыльца, давно уже подъел сено и теперь перебирал губами жесткие объедья. Христолюбов тоже подошел к окну и стал смотреть куда-то вдаль, протаивая ладонью глазок. Катков взял костыли.
– Ты меня знаешь, – не оборачиваясь, сказал Степан Петрович. – Пока своего не сделаю – не поеду с тобой. Да меня из Великан никуда не пустят. Ты в окно посмотри.
Из переулка к конторе валила толпа. Впереди всех широким мужским шагом шла жена Христолюбова, Катерина Савельевна, и ее поскребышек едва поспевал, цепляясь за широкую мешковинную юбку. За ней – Марья Дьякова, тетка Каткова, эвакуированная хохлушка Олеся, потом маркировщица с плотбища Катерина. С котомкой на спине шагала Валентина Глушакова в окружении вдов с участка ружболванки. За бабами строем шагали парнишки: Колька Туров, призывник Миша Глушаков, другой Мишка – сын Христолюбова, Аркашка, Митька, Алешка, круглый сирота Влас, полонянские ребята с военобуча. Колонну замыкали конюх Овчинников с бичом и три старика, что рубили черемуху по Рожохе и вили вицы для матов. А за ними уже семенила вприпрыжку мелкота пяти-семилетняя. Шли молча, дышали часто – пар реял над головами.
Самой последней шагала Дарьюшка, с растрепанными волосами и в расстегнутой телогрейке. Шаль в ее руке волочилась по снегу…
Катков тоже смотрел в окно, прикусив губу, и медали на его гимнастерке не звенели, обвиснув серебряной тяжестью…
Смотрел Катков и думал: «Кто его знает… Вон народу сколько. И все за него. Все, и первые бабы – самый справедливый народ. Может, его, Степанова, правда созвала людей? Может, есть в этих людях что-то такое, что мне не понять, и потому не мне судить их?..»
Степана Петровича схоронили на городском кладбище за железнодорожным переездом. Место ему досталось шумное, с краю: в десятке саженей от двухколейной линии, поэтому когда хоронили, и слов-то, сказанных над могилой, не было слышно – то и дело в одну и другую сторону грохотали длинные поезда. Однако люди, которых собрал к себе Степан Петрович, все равно что-то говорили, и я видел их немо шевелящиеся губы и напряженные лица. Похоже, громких речей не получалось, так, что-то короткое и малосвязное, но душевное и живое…
Мать все время держалась за мою руку – какая-то слабая, постаревшая и дорогая до слез; оторвалась всего один раз, когда все подходили к гробу прощаться, но тут же снова еще крепче прижалась к руке.
Степану Петровичу как партийному сколотили обелиск со звездой, а рядом сельчане поставили крест, насыпали и прихлопали лопатами земляной холмик, и после этого все, кто был на кладбище, сгрудились возле него, и сразу как-то тесновато стало на просторном в общем-то месте. Стояли так, пока старший сын Иван с Катериной Савельевной обносили народ поминальной стопкой.
Потом старух и женщин посадили в автобус-катафалк – мест там было немного, а стоять неудобно, держаться не за что; наверное, поэтому мать никак не хотела ехать.
– Там держаться не за что, – говорила она. – Я лучше пешком пойду.
Но дядя Леня все-таки усадил ее, и нелепо-голубой катафалк загромыхал через переезд. Те, кто помоложе, пошли с кладбища пешком.
Я шел в нестройной колонне мужчин и женщин рядом с Володей – сыном дяди Федора. Володя теперь жил в этом городе, в общежитии железнодорожников, и работал инспектором ведомственной пожарной охраны. Одет он был в форменную синюю курточку, под которой угадывалась пришитая к рубахе алюминиевая тарелка, и брюки, заправленные в хромовые сапоги, перепачканные кладбищенской землей: Володя закапывал могилу. А прежде он что-то говорил над гробом, часто и резко рубил воздух рукой и изредка хватался ею за место, где выпирала тарелка.
По дороге к дому Ивана Христолюбова Володя, казалось, продолжал свою речь:
– Какой редкий человек был! Большой человек, громадина! Таких один раз в жизни и встретишь. Я вот весь земной шарик на подлодке обогнул – не видал таких. Он меня от тюрьмы спас. Я в войну лес возил по ледянке. А воз возьми и на раскате перевернись, ну, быку одному хребет и сломало. По военному времени за такое… Бывало, коню холку седелкой набьет – год срока. Степан Петрович на своего Аркашку свалил, будто он возчиком был… Аркашке тогда тринадцать исполнилось, по малолетству его и не судили… Помню, у Варвары кобыла на ледянке ожеребилась, а Степан Петрович того жеребенка спрятал, выкормил и на мясо пустил. Записали, будто кобыла скинула… Если бы не тот жеребенок, мы бы до весны тогда не дотянули. Мясо его до сей поры помню, вкус помню. Как материнское молочко… Эх, пускай земля ему будет пухом!
Говорил он громко, но, похоже, слушал его я один. Остальные шагали сосредоточенно, глядя под ноги и даже не оглядываясь. И Аркадий, спина которого мелькала перед глазами, ни разу головы не повернул…
Где-то на середине пути Володя вдруг засобирался к себе в общежитие, заторопился и повернул назад. Я попробовал уговорить его, но бывший мичман сообщил, что у него неприятности. Екатерина Савельевна попросила его достать воску на свечи – обегала город, искала и просила всех знакомых, – он достал и решил переплавить в воде, чтобы чище был, прозрачнее. Поставил кастрюлю на печь и прокараулил. Вода вскипела, воск сбежал, хлынул на раскаленную плиту, вспыхнул, и огненные струи растеклись по полу, занялась штора, скатерть на столе, задымила кровать. Пожар потушили, но в комнате все обгорело и закоптилось. Теперь людям хоть на глаза не показывайся: давно ли сам ходил по комнатам и штрафовал за нарушение пожарной безопасности?..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.