Текст книги "Между Третьим и Четвертым"
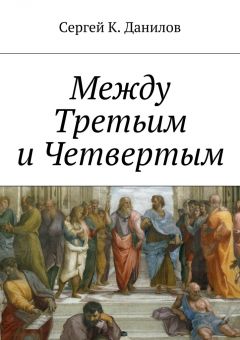
Автор книги: Сергей Данилов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
3. Долгожитель Васюта
Занемогла Дарьюшка окончательно: ноги ходить отказались, руки не поднимаются, силы враз оставили – слегла пластом среди бела дня, чего прежде никогда не бывало. Как на грех, Полина в больницу на сохранение легла, ну, конечно, соседки заглядывали проведать, пирожком угостить, но всем надо свои дома с хозяйством вести. А Дарьюшка совсем что-то плоха, на то сильно похоже, что дело к концу движется.
Тут сёстры-богомолки вновь объявились и уговорили болезную пустить к себе на квартиру истовую прихожанку Лизавету Павловну, у которой сын пьющий, бедовый, жить с ним верующему человеку невмоготу, надо где-нибудь хоть временно перебиться, отдохнуть. Но что делать, когда деваться некуда, согласилась Дарьюшка на квартирантку, сговорившись, что жить та будет в своей комнате бесплатно, хозяйство вести общее, готовить, стирать, а потом, как оклемается Дарьюшка, там видно будет, может и завещание на нее переделает.
Варила Лизавета исключительно постное хлёбово с капусткой да кашу овсянку на воде, покупала самый дешевый хлеб за тринадцать копеек, уходя в церковь на весь день, закрывала Дарьюшку на ключ, та лежала, глядела в низкий потолок, ждала смерти.
Сначала свою комнату Лизавета обвесила иконками, лампадку приспособила, потом в дарьюшкиной гвоздиков набила вокруг красного угла, из церковной лавки в кредит несколько ликов принесла и лампадку воскурила. Трудно дышать стало в сладкой духоте благовоний, попросила Дарьюшка убрать от себя ладан, но квартирантка не стала потворствовать грешнице: «Это в тебе черт просит лампаду загасить, больно плохо ему, черту, со святыми угодниками соседствовать, пусть сам прочь убирается. Ты, Дарьюшка, терпи, а главное – молись. Постом да молитовкой изгоним дьявола, сразу легче жить станет».
Дарьюшка постовала, молилась за упокой маменькин, тятенькин и всей своей некогда большой семьи, терпела. Сил не было ни на что другое. Однажды вдруг ни с того ни с сего захотелось ей испить пивка свеженького: всего бы пару глоточков, никогда такого не было, а тут востребовалось, ну, стала просить Лизавету о последнем желании – купить ей с пенсии бутылку жигулевского. Богобоязненная квартирантка, конечно, воспротивилась, сославшись на происки дьявольские.
На следующий же день явился молодой полный батюшка в ризе, с большим крестом, причастил болезную, отпустил ей грехи вольные и невольные, во время этого святого таинства Дарьюшке по-прежнему очень хотелось хлебнуть холодненького пивка, но заикаться батюшке, просить принести было совсем неудобно, как начнет пуще прежнего кадилом махать, и так в доме дышать нечем.
Наложила Лизавета на Дарьюшку полный пост, есть ничего нельзя, одну святую воду пить не запретительно. Поставила кружку с сырой водицей на табурете возле кровати и унеслась в город по своим церковным делам, замкнув больную на ключ. К вечеру отпила Дарьюшка глоточек из той кружки, сползла с кровати, добралась до окна, открыла форточку, стала людей звать. Услышал тракторист Фома, подошел к окну: «Чего, Дарьюшка, тебе?» – «Ой, пивка бы купил бутылочку жигулевского, так хочется пить, прямо спасу нет! Болею я. Купи, Фома Фомич, пожалуйста, выручи, я тебе деньги с пенсии отдам». – «А богомолка твоя где?» «В церковь ушла, на ключ закрыла, наказ дала постовать, вчера к смерти батюшка приходил грехи отпускать».
Сходил Фома в магазин, принёс бутылку жигулевского пива, открыл, передал в форточку. Выпила Дарьюшка полстаканчика, ах, как хорошо, аж от души отлегло. Сильно полегчало, мысли о грядущей смерти разлетелись в разные стороны, но вечером опять согрешила – рассорилась с Лизаветой всерьез.
Та задумала свечной заводик на кухне устроить: печку в летнюю пору растопила, сверху бак с водой поставила кипятить, чтобы недогоревшие церковные свечки расплавлять в воск и снова из них свечки лить. Не одна работёнкой занялась, Катерина с Марфой тут же, в деле. Сделалось в избе до невозможности жарко, сыро и душно. Возмутилась Дарьюшка, что не дают ей не только выздороветь, но и умереть спокойно, стала выговаривать жилицам тихим голосом, те в ответ за словом в карман не полезли, и под вечер развернулась настоящая баталия, хоть святых выноси. Как на грех, обнаружила по запаху Лизавета бутылку пивную, и уже тогда не стало ей удержу, провела по всей форме дознание, заставила признаться Дарьюшку, кто ей пива покупал: «И до Фомы этого доберусь, совратителя христианок, рад не будет! Ишь, змей подколодный, в форточку пролез! Марфа, бери молоток, срочно заколотить!»
Ночью приснились Дарьюшке дедуся покойный с бабусей, словно бы снова дома на лавке у печи сидят и с ней разговор ведут: «Хватит тебе разлёживаться, внучка. Вставай, бери лукошко, клубок шерстяной в него клади да езжай с богом на родину: сколько лет дом без хозяев стоит, надобно навестить». Хоть Дарьюшка при смерти лежала, а получив наказ, легко восстала среди ночи, бесшумно собралась и канула во тьму городских улиц.
Лизавета слышала, как она собиралась, разглядела даже в лампадном свете, что веки Дарьюшкины были при том закрыты, но кричать убоялась, заподозрив настоящую ведьму: «Спаси, сохрани, Господь наш, милосердный!»
Не очень далеко на поезде ехать, в соседней области родина находится. Пшеница здесь не вызревает, а рожь со льном в их деревеньке знаменитые были. Приехала на место, лес свой нашла, а деревню – нет, и кладбища нет, повсюду бескрайние поля, на которых стоит-сохнет чахлая кукуруза без початков, по большей части заросшая овсюгом да лебедой. У озера сидел бородатый старичок с удочкой, в рваных штанах, рваной шляпе, одной рукой удил рыбу, другой не было. Ловля подвигалась бойко, то и дело поплавок из пробки нырял, и в небольшое ведерко плюхалась очередная мелкая рыбешка.
Присмотрелась Дарьюшка к стариковской ухватке, вспомнила:
– Здорово, Поселенец.
Тот обернулся. Жевал, жевал взглядом, тоже догадался:
– Дашка, однако?
– Она.
Поплавок мелко сплясал, рыбак дернул удилище, сокрушенно полез за червяком в консервную банку:
– Объели, коммунары. Зря ты вернулась: ничего здесь нет, рыба и то в мелочь выродилась, кроме гольянов ни хрена. Раньше-то, бывало, какие караси ходили! Как народ извели, ни одна зараза лед не долбила зимой, задохнулась рыба к чертям собачьим. А потом, кто станет за столько верст бегать, лед долбить? Укрупнили деревни, свезли дома в одно место. Добивает Микитка последнее, на что у Ленина со Сталиным сил не хватило. Изживает деревню напрочь, хуже фашиста: тот жег, этот топит. Ты зря пришла, ничего здесь нет: ни домов, ни дворов, вишь, под поля распахали…
– А я помню, – перебила его Дарьюшка, сторожко оглянувшись вокруг, – как Ленин умер. Зимой, в страшный мороз собрали деревенских у сельсовета, с крыльца зачитали сообщение. Все плакали прямо на морозе, тятя плакал, и я заплакала.
– Дураки, – плюнул в сердцах Поселенец. – Вечно-бессрочные. По Сталину, небось, тоже плакали?
– Нет, по Сталину не плакала, нечем было. Значит, от наших мест примет не осталось? А я хожу, смотрю-смотрю, понять не могу.
– Зря ищешь, кладбище и то запахали, уроды, у них ведь план по вспашке земель из года в год повышается!
– Ты в колхозе сейчас?
– Я то? Нет, я в городе жил после войны, а потом сюда перебрался, землянку себе вырыл.
– На пенсии?
– Зачем? На своем довольствии состою. Как отменили плату за боевые ордена, роздал их ребятишкам – пусть играют, балуются с безделушками этими. Пенсии их позорной мне тоже не надо, пяти копеек в месяц. Дом детям отдал, сюда перебрался. В землянке печь сложил, рядом погребок отрыл, дров вокруг полно. Рыбу вялю, копчу, грибы сушу, на зайцев зимой силки ставлю. Существую вольной птицей вне рабовладельческого государства.
– Вот-вот. Точно. Слышала я, что в каком-то тридесятом рабовладельческом государстве раба, отслужившего семь раз по семь лет, тоже отпускали на волю: иди, старик, куда хочешь, выживай как сможешь. Не так ли и с тобой приключилось? Может специально тебя довели, чтобы ушел куда глаза глядят и от пенсии отказался?
– На их пенсию надеяться – ноги протянуть. А может, и специально, кто их, трубадуров, знает, когда дудят каждый день про великий и могучий советский народ. Они до конца дней будут толкать людей под великие подвиги, как под поезд, нормальной жизнью жить не дадут. Пока не изведут весь род под корень, не успокоятся. Слава богу, здесь я вольный человек, а не кочерыжка зависимая.
– Из наших приходил кто?
– Никого не видал. Ты первая объявилась. Ну, от вас еще кое-что осталось. Вишь, сруб с той стороны стоит горелый – это ваш бывший дом и есть. Из него коммунары сперва, как вас свезли, избу-читальню устроили. Ясно дело – пьянствовали, заливали зенки самогонкой, чтоб не стыдно было народу в глаза смотреть, когда на смерть отсылали. А потом в доме по ночам-вечерам непонятное стало деяться, что одна любопытная приезжая с городу комиссарка в штаны с испугу наделала. Посадили стражу из самых беспробудных комбедовских уродов. Сидят они ночью, самогонку хлещут, в карты режутся. И вдруг кто-то рядом, прямо над головами, как дунет по-человечьи: «Фффффуууу!» Керосинка враз погасла. Такого деру коммунары дали, кто в дверь, кто в окно. Пустым дом остался стоять, потом возгорелся вдруг. Крыша сгорела, чердак начисто, сруб остался весь в угольях. А что сгорит, то не сгниёт, вот потому и существует.
Уж когда народу почти не осталось в деревне, людей всех выслали куда Макар телят не гонял, когда сожрали-пропили чужой скот и припасы коммунары, наладились пустые дома сосланных разбирать и в город возить – продавать, чтобы, значит, можно дальше было хорошо жить бесплатно, по-коммунистически. А ваш на своем месте остался, кому он горелый нужен? После войны колхоз поле себе распахал на месте деревни для районной сводки о посевных площадях, трактором отволокли его в сторонку, ближе к озеру, здесь теперь и стоит.
Зашла Дарьюшка в горелое отеческое гнездо. Пустое оно, внутри всё угольно-черное. Пыталась разобраться, где печка стояла, на каком месте. За печью домовой жил. Бабка Татьяна их припугивала, когда раздерутся на печи: «Вот погодите, озорники, сейчас уже Васюта придет, он вас быстро успокоит!»
Маленькой Дарьюшке очень хотелось домового Васюту повидать, смотрела однажды, смотрела за печь, наблюдала, долго, уже все заснули, кроме бабки, сидевшей с лучиной за пряжей. И вот в последний момент, когда глаза закрывались, увидела Дарьюшка, как у дверей вроде клок сена быстро-быстро покатился, прошуршал! Наверное, Васюта.
Растет ныне в избе крапива в человечий рост да лопухи. Притоптала старушка крапиву кругом, поставила в центр корзинку с клубком, а сама вернулась обратно к Поселенцу. Тот сразу возобновил разговор, соскучился, знать, по человеку, но уже не про старое, чего про него бесполезно вспоминать?
– Мы нынче с советской властью по нулям разошлись – я ее знать не знаю, живу на природе инвалидом-фронтовиком, она меня видеть тоже не хочет. Что там слышно насчет того, будто инвалидов войны в дома престарелых забирать?
– Ничего такого не говорят. Да разве хватит домов на всех инвалидов?
– А они по очереди. Сейчас, вроде, забрали всех безногих да безруких.
– Как же забрали? Возле магазинов с винными отделами толкутся на своих тележках.
– Во-во. Именно это властям и не нравится. Некрасиво, когда расхристанные в мать-перемать защитники страны у ларьков просят чарочку налить. Не должно такого в развитом социализме быть, когда уж до коммунизма по кремлевским часам совсем ничего жить осталось. И пенсию хорошую тем инвалидам тоже не хотят давать, чтобы уважали сограждане ратный подвиг. Куда проще замести покалеченных в боях защитников страны в учреждение лагерного типа, куда вход есть, а выход – извините, только на кладбище. Всех прибрали, говорят. Или врут?
Поселенец глянул пристально. Дарьюшка задумалась.
– А между прочим, что-то в последнее время не видать стало тележечников у ларька. Может, и девали куда. До чего доброго у властей руки не доходят, а до этого – всегда быстро.
– Во-во. Ну, со мной у них не скоро фокус получится. Власть любит по пенсионным спискам работать, пенсионеров уничтожать, чтобы деньги не им платить, а я в тех списках давно не значусь, вычеркнули. Поживу вольной птицей сколь бог даст, сам собою успею помереть, пока власти хватятся, скорей какая-нибудь местная шпана пришибет. Уже в гости наведывались сопляки-уроды: «Дед, дай закурить». Дал им и прикурить, и закурить, всего дал и маком посыпал, обещались ночью зарезать. Так прямо в глаза и обещают: «Готовься, придем тебя убивать». Выродки пьяненькие, изначально мстительные, ненависть из глазенок прямо искрами полыхает, как у городских ученых комиссаров, что нашу деревню раздраконили. Продолжатели революционных традиций. Ты, знать, с болот убёгла?
– Убёгла.
– Смотри-ка, значит, повезло кое-кому выжить. А в основном-то, чую, прибрался народ, пусто нынче у нас. Ты иди, пока не вечер. Вечером по дорогам пьяный пролетариат на грузовиках из села в село на танцы гоняет, зашибут ненароком. Рассуждаю сам с собой: может, и хорошо, что никого из наших не осталось, чистыми ушли. Не то бы тоже сейчас в пьяном угаре бегали – дрались, да матерились, да воровали. По-человечески путь свой завершили, хотя и под конвоем, но главное – вовремя, до нынешнего содома не дожили, бог не привел видеть.
– А вот скажи, Поселенец, почему не значусь я рожденной в своей деревне, из архива мне так ответили на запрос, когда копию метрик хотела получить. Будто бы нездешная, будто меня вообще на свете не было и нет. Кто я тогда такая? Инопланетянка разве?
– О, чего захотела… метрики свои… забыла разве – сожгли городские коммунары нашу церковь, где метрические записи делались, значит и документы сгорели. Эти черти людей на каторгу отправили, на смерть, а вдобавок и память о них уничтожили, заразы! Иди, Дарья, иди, бог с тобой.
Зашла Дарьюшка в родные горелые стены, всплакнула там по всем родственникам, забрала корзинку и, попрощавшись с Поселенцем, ушла восвояси.
Вернулась в свою насыпушку век доживать, хотя желание было сильное навсегда остаться на родине, в горелом срубе шалаш поставить да жить.
Дома квартирантка Лизавета сразу пристала с допросом: «Куда сбегала?» – «Да так, – отвечает Дарьюшка, – по своим делам отлучалась». Заругалась Лизавета, что больной человек должен дома лежать, а не по ночам исчезать неведомо куда. Тут чашка вдруг на пол со стола как съедет, потом зола с искрами из холодного поддувала – фррр! – фонтаном на пол.
– Чего серчаешь, не нравится тебе здесь? Посуду не бей. Дай отдохнуть маленько.
В ответ Васюта зафыркал котом из-под кровати.
– С кем разговариваешь? – нахмурилась квартирантка Лизавета. – Сама с собой, иль с нечистым уже напрямки связалась?
Среди ночи заголосил петух из подполья. Подполье совсем небольшое, ямка в песке отрыта. Пара мешков картошки с осени в ней помещается, кадушка капусты да несколько банок с помидорами, огурцами солеными. Ныне все пусто, но голосит именно оттуда, будто из курятника утром. Лизавета перепугалась, в обход с иконой круг дома пошла, ругается во все горло: «Что такое? Что за наваждение? Не хватало участковому услышать, прибежит с пистолетом кур ликвидировать, а если штраф наложит?»
Меж тем петух про решения партии о собственной ликвидации вроде и знать не желает, заливается во всю ивановскую. Лизавета за нож взялась, решила прикончить горлопана, свой ли, чужой ли в подполье залетел – все равно! Суп сварить. Тут вдруг птица больше голубя, сизая, по комнатам вздумала летать, крылами бить – лампадки и затухли! Ужас! Ужас!! Перепугалась квартирантка, нож бросила: «Кого ты, ведьма проклятая, с собой в дом принесла, что за нечисть дьявольскую? Не буду с тобой жить, душу свою христианскую губить, пропадай одна! Прямо сейчас уйду, ноги моей в чертовом месте не будет!»
Только она за порог – снова заголосил петух из подполья, уже при включенном свете. «Нет, вы посмотрите на него, вконец обнаглел! Васюта, кончай шуметь!» Орет Васюта, не унимается.
Пришлось больной с койки подниматься, открывать лаз в подполье – там, естественно, никого и ничего. Одно ведро, закрытое крышкой, да обвязанное тряпьем сто лет назад, в наличии. С работы понемногу натаскала Дарьюшка дуста на всякий случай – обработку отхожих мест произвести, коли когда понадобится, – и благополучно про него забыла. Ныне на Дезостанции от дуста отказались, признав страшным ядом, гибельным для всего живого, а у нее – гляньте: целое ведро в подполье практически под кроватью.
Выволокла Дарьюшка ведро с ядом из подполья да из дома, чуть не окочурилась, хорошо, Васюта угомонился. Через силу на работу отвезла, еле-еле допёрла: «Куда хотите свое добро девайте, а мне не надо».
И что любопытно, с того дня старушка пошла на поправку, за неделю выздоровела совершенно, будто в санаторий куда съездила, вот так-то воздух родины целебно человеку помогает, особливо на старости лет.
4. Незнакомец с большим чемоданом
Напротив дома Кузьмы Федоровича, окна в окна, через дорогу стоит дом Фомы Сорокоуса, тракториста, и «Беларусь» его с ковшом перед окошками присоседился: с подработки воскресной приехал Фома на обед, коротко кивнул соседской компании, собравшейся у ворот Кузьмы постоять, прошел к себе во двор, закрыв калиточку.
Не любит Фома всеобщего благодетеля Кузьму Федоровича, и все тут! Ни за какой надобностью к нему не обращается, гулянки не посещает, даже просто так не остановится поговорить на улице: лишь кивнет кратко и к своим воротам заруливает: дескать, некогда мне с вами лясы точить, дел полон рот, успевай разворачиваться. За версту видно – самостоятельный человек, к тому же торгового блата на дефиците ни под каким видом не терпит.
Даже вроде как в пику соседу дом свой Фома выкрасил ядовито-желтой краской, какой ни один нормальный человек во всем городе не покрасит, самой последней беспомощной старухе в голову не придет так опозориться, лучше уж совсем не красить, чем в желтом доме оказаться, как в психбольнице.
Когда красил, на вопросы пораженных соседей отвечал кратко: «Что в магазине было, то и купил, а воровать с детства не приучен». Вон, даже прохожие останавливаются в недоумении. Дарьюшка понимающе оглядела нездешнего молодца с большим чемоданом и сумкой в руках, ставшего как вкопанный возле дома Фомы с открытым ртом: дом желтый, ставни темно-синие. Явно прохожий из сельской местности прибыл, при костюме, белой рубашке, но без галстука, и воротник так расстегнут, за версту видно, что никогда галстук на данной шее не висел, а плечи и походка широкие, комбайнерские. Механизатор в город подался с чемоданом, не иначе. Такого квартиранта нам не надо: молодой, неженатый, да и женатых не надо – Дарьюшка отвернулась, вздохнула: таких, как Полина, поискать нынче. Жалко, лето грозливое выпало: и урожай сильно побит, и фронтовик Иван Евсеич до того на крыше накувыркался, что вздумал на Полине жениться.
Ишь ты, встал и стоит, смотрит – опять же ясно: не видал желтого дома сроду. Ничего-ничего, погоди, дай срок, в городе поживешь – и не в такой угодишь. Нынче нужного товара в магазинах днем с огнем не найти, можно даже не бегать, уважаемый Фома Фомич, не искать, но попросил бы Кузьму по-свойски да намекнул только слегка, так, мол, и так, дорогой соседушко…
Самой лучшей краски тот бы выписал на своей торговой базе, ведь не Сорокоусу на свой дом смотреть, а Кузьме из окошка в него пялиться: выглянешь, а там желтый дом напротив, плюнешь, что за пакость! А гости иногда большие приезжают и удивляются, чего Кузьма не мог соседу удружить? В глаза спрашивают, подпив коньячка: ну, как же так, Кузьма Федорович? Разве можно? А тому и крыть нечем: он рад бы оказать содействие, да Фома разговаривать не хочет, можно сказать, в упор не видит.
Гражданин с роскошной шевелюрой, в белой рубашке, как правильно угадала Дарьюшка, являлся сельским механизатором, желтый дом рассмотрел в подробностях, но далее своей дорогой, как обычный прохожий, отчего-то не проследовал. Вещи наземь опустил, кстати, не у калитки Фомы, а возле соседского заборчика приспособил, меж обломанных кленовых кустов, и теперь стоял, словно отдыхая, будто руки отмотал тащить этакой чемоданище. Чемодан, кстати, весьма похож на своего хозяина, ей-богу, как два сапога пара, оба здоровенные и слегка рыжие.
Тут к всеобщему счастью из-за угла появилась дочь Фомы Татьяна, не очень давно окончившая техникум, а ныне уже преподаватель швейного училища, в домашних же условиях послушная ласковая дочь, проспавшая воскресное утро в тишине и радости, даже не услышав, как отец и муж уходили каждый на свою выходную работу.
Танина мать встала много раньше мужчин, завтрак им собрала, потом с огородом управилась, потом обед готовила, иногда забегая в комнату будить, но каждый раз останавливаясь: «Ах, какая красавица дочка: разметалась на подушках, разнежилась. Ну, поспи еще, дитятко, поспи, Таня, милая, вот пойдут свои дети, не доведется так-то отдохнуть», – и выходила тихо вон, опасаясь грядущей дочкиной женской доли, которая неотвратимо когда-нибудь наступит, но пока, слава богу, не наступала, несмотря на замужество.
Повезло жить-поживать Танюше с муженьком в родном доме, своей девичьей комнатке при родителях. Маменька души в дочке-красавице не чает, папаша с лица всегда сердит, но внутри тоже добр, хотя показывать того не желает, потому что проповедует закон и порядок во всем мироустройстве, куда домашнее хозяйство тоже входит. Мужа Таня самостоятельно себе подыскала в деревне и вывезла оттуда прямо домой. В первую же трудовую осень такое дело случилось.
Послали ее с учащимися в колхоз на уборочную, там влюбилась в местного творческого паренька, который после армии был поставлен директором клуба, на самодеятельность. А Таня с детства в самодеятельности всегда на отлично выступала. Так они спелись за месяц, что не смог выдержать директор клуба грядущей разлуки, дня одного не пережил, бросил родные просторы, березки, речку, про которые до того песни самодеятельные сочинял, и уехал вместе с Таней в город, где поженились молодые люди и стали жить-поживать у Таниных родителей. Она по-прежнему преподает шитье в профтехучилище, муж в заводском клубе поет и танцует, в институт культуры поступил учиться. Таня по стопам молодого супруга тоже в своем училище танцевально-певческий ансамбль организовала из девчонок, и так хорошо они выступать стали, что в двух смотрах городских победили.
А в июле этого года Таня с ансамблем ездили на областной смотр в Первомайский район: в июле у колхозников передышка между посевной и уборочной наступает, так давали им серию концертов. На том выезде познакомилась с механизатором Ларионом – здоровенным парнем – и вдруг робко-робко себя почувствовала, когда пригласил ее прогуляться на пару с вечера по единственной асфальтированной улице райцентра. Ларион – такой большой, интересный, в парадной белой рубашке с засученными рукавами и наглаженных черных брюках, она – в лучшем платье, отчего-то пылающая, счастливая, очень красивая, не зря мама все детство твердила: «Ой, Танечка моя писаная красавица растет!».
Так и прогуляли всю ночь до утра.
Сегодня проспавшая все сроки Татьяна побежала в хлебный магазин, когда там, естественно, никаких очередей уже не было, да и на полках пустота – хоть шаром покати. Съездила на трамвае в центр города, только здесь тоже ничего не нашла, кроме печенья да сладких дорогих булок с повидлом. Делать нечего, отец скоро на обед приедет, – купила булок и печенья. Увидела трактор возле дома, заторопилась, коли папаша сядет щи хлебать без хлеба, такой разгон устроит, что берегись.
Когда пробегала мимо незнакомца, даже не посмотрев в его сторону, тот вдруг нежданно-негаданно охватил ее талию сильными руками, сжал очень крепко, легко в воздух приподнял, крутнув вокруг себя несколько раз. Перепугалась Танюша, как в девичестве, когда приснился сон, будто невидимый в темноте мужчина поймал ее. Два года замужем, давно перестала бояться темноты с мужчиной, привыкла. А тут вдруг снова, ни с того ни с сего, среди бела дня страх пронзил от сердца до пяток, организм разжижился, и когда опустили, убрав объятия, сползла вниз по широкой груди, опасаясь, что свои ноги не удержат, выдохнула:
– Ларион, ты, что ли?
– Я, – гость стеснительно глянул на кленовые кусты, под которыми прятались чемодан и сумка. – Прошу извинить, если не ко времени.
– Ларион, мне надо срочно домой. Отец приехал на обеденный перерыв, я за хлебом бегала. И это… – тут только Татьяна произнесла то, о чем так и не решилась сказать за всю длинную ночь, которую прогуляли вдвоем по асфальту райцентра и берегу речки, – я замужем, Ларион…
– Вот как? Да я ничего… и не думал даже.
И в одно мгновение, – Дарьюшка зафиксировала это явление наглядно – резко опал ростом. Неизвестно куда девался разворот плеч в косую сажень, нет, вовсе даже не молодец, ошибочка вышла в глазомере, так себе гражданин, вполне обычный прохожий, тащился-тащился человече, пыли наглотался, встал передохнуть. Или какой дальний родственник Фомы из деревни приехал? Устал больно или того хуже: собрался в больницу лечь, подлечиться, не иначе. Ишь, какой зеленый, скорее всего желудок не исправен, с плохим пищеварительным трактом в поле много не наработаешь, а с другой стороны сказать: ну какая такая в сельском районе может быть медицина? Фельдшера в основном числятся с медсестрами на пункте первичной помощи, ветеринара и то найти трудно, хотя сельскохозяйственный профиль требует наличия. Институтские выпускники-медики, выходцы из села, тоже нынче в городе норовят пристроиться, даже в большей степени, чем комбайнеры. Разбегается народ из деревень на все четыре стороны, начихав на колхозную крепостную родину, пользуясь моментом, что стали выдавать паспорта.
– Ты ко мне ехал? – спросила Татьяна напрямую, придя в себя и заметив чемодан с сумкой под пыльной листвой.
– Хорошо, что в дом не зашел, как чувствовал, – слабо улыбнулся механизатор. – Да. С работы уволился, скоро уборочная начнется, а я сбежал с трудового фронта. Ох, и материл меня председатель в хвост и гриву! Ладно, извините, пойду я.
– Ну вот еще, чего обиделся, Ларион? Отобедаешь с нами. Вы же угощали наш коллектив в столовой, идем-идем, и не сопротивляйся даже. Бери свои вещи, заходи, без обеда не отпущу.
– А муж? – обиженно поинтересовался усохший человек, вконец расстроенным голосом.
– Его дома нет. У них сегодня концерт на весь день до вечера.
Без малейшего вдохновения проследовал за Татьяной в желтый дом с синими ставнями. А давно ли счастливым летел с вокзала, как на крыльях? Пройдя через веранду и сенцы, очутились, как полагается, в большой светлой кухне с двумя окнами, за столом сидел обедавший без хлеба хозяин: сердито хлебал щи, насыпав в тарелку горелых сухарей. Мама обрадовалась:
– Вот и Танечка из магазина вернулась, зря отец беспокоился. А это кто с тобой в гости пожаловал?
– На Пролетарской хлеба нет, – доложилась Таня, первым делом выкладывая на стол покупки, – в центре тоже пусто, пришлось сладкого взять, хоть к чаю сойдет… это знакомый механизатор встретился, зовут Ларион. Он коллектив наш принимал в Первомайском районе, теперь в город приехал, я пригласила отобедать. Вы, Ларион, без хлеба суп едите?
– Зачем без хлеба, я захватил с собой, вот две булки, пожалуйста. И сала немного есть, примите к столу.
– Молодец, – перестал хмуриться Фома, когда перед ним вдруг очутились две пышные ковриги домашнего изготовления, – механизатор, значит?
– Широкого профиля.
– Садись за стол, добрый человек. Фрося, наливай гостю.
– Ой, как вы вовремя, – обрадовалась Фрося, – мойте руки и присаживайтесь, сейчас я вам с Татьяной все поставлю.
Сидевший во главе стола хозяин, нарезая пышных белых ломтей, возрадовался:
– Хлеб настоящий, крестьянский, запашистый, мы в городе про такой давно забыли. Уже самого главного в магазинах не стало, целину подняли, а хлеб пропал, хоть карточки заводи, как в военное время. Выкинут на пару часов в магазин, будто ворованное, очередь на квартал тянется, а за чем, спрашивается, чего там доброго? Дрянь одну толкают, хрущевского помола мучица, американский продукт – кукуруза голимая. Руки, смотрю, у тебя, Ларион, нашенские – трудовые, подходящие для работы. Зятёк в этом отношении малость подкачал… культурный человек, хотя тоже из села. От того и в культуру подался, деятелем культуры трудится: песни поет, басни читает, танцы танцует. – Фома хмыкнул: – Я бы, Ларион, по маленькой предложил за встречу, но, извини, надо ехать, сети подводим под канализацию с водопроводом, траншеи копаем. По воскресеньям часто приходится вкалывать, когда план сдачи рушится из-за очередного головотяпства.
– У нас в уборочную тоже воскресенья не соблюдаются. В хорошую погоду с утра до ночи пашем.
– В город купить что приехал? В магазин, небось? Закрыто сегодня все. Выходной.
– Нет, я так… посмотреть.
– Это можно. Смотреть можно, смотреть есть чего: одних кинотеатров понастроили штук пять, театра два, горсад, на Выставку Достижений съезди, там мебель красивая прямо целыми комнатами оформлена, то бишь гарнитурами: спальный, столовый, кухонный – смотреть за деньги можно, если билет купил, а трогать нельзя, зато пиво всегда бывает в ларьке у озера: и чисто, и лавочки удобные со столиками. Ладно, мне пора. Если переночевать негде будет, ты заходи, не стесняйся, посидим, обсудим международное положение. С хорошим человеком я всегда рад.
После ухода отца семейства на работу Таня с мамой наперебой принялись угощать Лариона, достали даже водку из шкапчика и налили всем по рюмочке – за встречу и для настроения.
Хорошо ли она сделала, что тогда не сказала о муже? А сейчас вдруг позвала с улицы в гости? С одной стороны, конечно, не очень хорошо, но ведь о том и речи не было, когда он, ни с какой стороны не относившийся к организаторам смотра, вдруг по собственной инициативе привез букет цветов и вручил ей по окончанию концерта, и далее, на торжественном ужине в школьной столовой, проявил себя с лучшей стороны, ухаживал за всеми как добрый хозяин, доставал необходимое, решал проблемы, то и дело возникающие по ходу ужина, потом проводил до гостиницы и пригласил еще погулять, пройтись по замечательным окрестностям, так как погода стоит хорошая…
Все ее девчонки отказались, наплясавшись и напевшись, а она согласилась пройтись, осмотреть местные достопримечательности. Пока гуляли, о многом с Ларионом переговорили, но ни она не обмолвилась о муже, ни он не назвал семейного положения. Впрочем, говорить и без того было о чем, гулять тоже интересно, просто так приятно, без дальних мыслей, нет, слишком приятно, как два года тому назад танцевать со своим нынешним мужем. «Точно, что ли? Нет, не может быть! Даже никакого сравнения быть не может – гулять гораздо приятнее», – у Тани среди разговора вдруг предательски округлились глаза. Она поняла, что влюбилась. В двадцать два года со взрослой, замужней женщиной, преподавателем училища разве может такое случиться?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































