Текст книги "Шара"
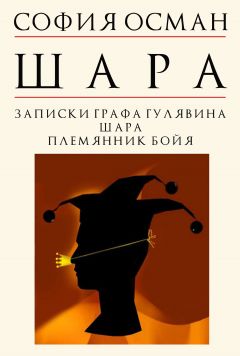
Автор книги: София Осман
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Шара
Глава I
Каждый большой город беспокоен. Шум голосов сливается с топотом, бранью и бестолковой суетой тысяч тел.
Беспорядочный гул уничтожает солидность в любом, даже самом степенном мирке и вместо респектабельной тишины заражает биением горластой ярмарки.
Ранним вечером, начиная с пяти, наступал переходный к сумеркам час. Это время напоминало сбившийся метроном, ускорявший удары к приближению мрака.
Но пока еще день не подобрался к излому, повозки, выстроившись вереницей, степенно катились по проспектам.
Экипажи держались еще по-дневному чинно, на расстоянии друг от друга. Этому медленному каравану не хватало только сопровождения из двух десятков верховых охранников с длинными поясными ножами. Вот если бы такие окружили кибитки да тягали бы упряжки, дыбя лошадей, то сравнить столичных господ с верблюдами в пустыне было бы неминуемо верным, особенно по части беспристрастности верблюжьих морд ко всему, что встречалось на их пути.
Кое-какие коляски были пустыми: это замечалось по тому, с какой легкой мягкостью кузовок переваливался через случайный булыжник или выбившуюся из мостовой торцовую планку.
Опустевшие повозки вставали в дорожную текучку, но недолго оставались без содержания. Внутрь бархатного возка забирался важный господин и, усаживаясь на кожаный диван, блаженно и безмолвно созерцал городскую суету через дверную шторку. Снаружи гудела и торопилась улица, внутри же было тихо и неподвижно.
– Любезный, – обращался пассажир к вознице так, как если бы мнил его себе ровней, – до Кадетского моста, да поживее!
Заслышав авторитетное «поживее», извозчик искусно сплевывал сквозь зубы и, усмехаясь, глядя на обездвиженные каретки, цедил:
– Вмиг домчу, любезный!
Если же городская повозка была рангом повыше и принадлежала лихачу, в ком всё твердило о вольности, такой и вовсе мог захохотать и крикнуть:
– Эх, родимые, помчались, – и даже привстать на козлах, словно лошади, услышав вожделенное «помчались», рванут вперед, и требовалось уцепиться за вожжи, удерживая равновесие. Лихач поглядывал на пассажира, желая увидеть, оценил ли тот его шутку, и лениво усаживался обратно, высматривая кого-то воспитанного, кто пропустит его вперед и позволит занять место в дорожном заторе.
Какие-то экипажи ехали гружеными: плотные кофры и тугие коробки были уложены в кабинки, а не закреплены на крыше или позади, как принято для багажа.
В таких ландо разъезжали манерные дамы в меховых накидках. Они наряжались в экстравагантные шляпки с бантами, длинные перчатки с насаженными поверх шелка перстнями и сапожки с тугой шнуровкой. Выглядывая из-за занавесок и морщась, они снисходительно рассматривали городскую грязь и выносили вердикт:
– Нет радости очам, в промозглый серый день…
На этом они замолкали, поскольку не знали продолжения строчек начинающего таланта Казанцева, с творчеством которого едва познакомились за завтраком. Вирши молодого поэта печально только начинались. За безрадостной вершиной литературная мысль Казанцева пускалась перебирать способы собственного увеселения. Но женский взгляд избегал литературной бравады и отвлекался на поучительную статью под названием «Каким образом можно получить красивую грудь».
Там, среди белесого текста, жирным шрифтом указывалось название пилюль. «Волшебные» таблетки обещали 6 дюймов тем, в отношении которых природа не благоприятствовала.
Дамочка внимательно читала статью, а затем погружалась в созерцание нарисованной барышни с грустным лицом. Печальное изображение свидетельствовало об отсутствии пышных форм. На следующих пяти зарисовках наблюдалась метаморфоза. Газетная барышня веселела с каждой картинкой всё больше и больше, повинуясь преображению собственной фигуры.
С последней она уже смотрела высокомерно и неприкрыто гордо, подтверждая улыбкой большую округлую грудь.
На том просмотр газетки заканчивался. Милейшее создание – а подобное описание в таком щекотливом вопросе могло применяться к любой даме, даже той, чей милый возраст остался далеко в прошлом – подходило к зеркалу и вставало к нему боком. Стоя и прищуриваясь, дама примерялась к новому шестидюймовому выступу, выпячивая вперед то, к чему он должен прибавиться.
И вот теперь, угнетенная раздумьями и этим похожая на рисунок до приема «грудных» таблеток, она еще больше печалилась, рассматривая вокруг природное несовершенство.
Дамское огорчение доходило до того, что, казалось, мадам держит альбом с карикатурными зарисовками и выбирает из них самую несуразную. Так же как намедни пристально рассматривала себя в зеркале, целясь примерить себе выпуклости, она прикладывала хорошенький пальчик к самым сатирическим местам грязной картинки города, добиваясь гармонии.
После подобной мрачности сохранять сердечную доброту становилось весьма сложно, а когда поблизости с кареткой проходила розовощекая баба, охотно отдавшая бы страдалице шесть дюймов доброго тела, дамочке делалось невмоготу.
Мадам смотрела на нее по-отечески добро, миролюбиво, как смотрят на кормилиц, покуда у нее хватало на то воли. С каждым бабьим шагом под аккомпанемент грудного тяжелого размаха дамочка становилась всё мрачнее. Она менялась в лице, прекращала улыбаться и, прячась внутрь маленького перевозного домика, обнимала шелковую подушку, обещая себе более не читать по утрам прессы.
Днем сударыни посещали модные магазины, мастерские портних или ювелиров, а затем торопились в cafe. Там, в пестрой смеси запаха какао и табака, их поджидали точно такие же напудренные мадам с нагруженными колясками у входа.
Они усаживались около окна и делали вид, будто увлечены разговором.
Казалось, они не замечали ничего, кроме того, что было перед ними. Их взгляды обращались друг на друга или на фарфоровую чайную пару с лежащим на блюдце маленьким марципановым пирожным. Но это было не так: дамы видели всё происходящее не только за их спинами, но и по ту сторону большого стекла. Они подмечали все подробности и додумывали любые скрытые нюансы.
Если бы кто-то из них разоткровенничался, то рассказал бы с поразительной точностью, во что была одета любая сидевшая за столиком мадам, кто был ее кавалер и дюжину идей о том, что связывает этих двоих.
Не хуже любого писателя-фантазера они выдумывали остросюжетную драму, вплетая в рассказ поочередно каждую соседку и её сопровождающего. Употребив всех гостей в этом кафе, дамы обостряли интерес к кафе напротив, где за большим окном разместились госпожа М и господин Н, сидевшие там не просто так, а с тем, чтобы их заметили господа С, пьющие кофий через столик.
– Видела? – улыбалась одна, указывая в сторону. Подруга в ответ молчала, но это значило лишь то, что следовало посмотреть на её лицо, где был мгновенный отклик. Оно делалось надменным и принимало настолько высокомерное выражение, что слова не требовались, хотя расшифровка могла быть самой разнообразной: от «Ей бы прикупить самокрасящей гребенки да замазать седину» до «Профессор Брюнер избавляет от прыщей, надо посоветовать».
Но вместо того, значительно помолчав, вторая тоже мило улыбалась и отвечала:
– Извертелась, – и поводила подбородком туда, куда должна была устремиться вторая и, как опытный стрелок, не спускать более оттуда своего меткого взгляда.
Повсюду была интрига. Живой чешуйчатой змеей она пробиралась сквозь посетителей и взмывала над ними. Перемешавшись с сигаретным дымом и раскаленным песком под кипевшими турками, хитрая «змея» ударялась о стекло и рассыпалась, оставляя на окнах капельки гигантской паутины, похожей на светское столичное общество.
Гости модных заведений были знакомы друг с другом, но подходить и лично приветствоваться было не принято. Заповедь легкого, чуть заметного кивка доказательством того, что ты «свой», не нарушалась.
Иногда жеманство уступало живому интересу, и какая-нибудь мадам или же рослый усатый господин, завидев приятеля или знакомую, позволяли себе подойти и поздороваться лично. Господа избегали пожимания рук, а дамы – объятий, то есть всего не принятого правилами манерных англичан, которые, как известно, не владели беззаботностью и искренностью.
Встреча превращалась в изображение глухого поклона и сдержанной полуулыбки. Приветствие заканчивалось обменом почтительными фразами: «Так что ж, сударь? Отменный вечер сегодня, как сладостно им любоваться!», оставляя странное послевкусие и сомнения в его нужде. Однако ж и оно было необходимой частью вежливого ритуала, дабы позволить всем, кто наблюдал, оценить собственное великолепие и неуклонное следование правилам высшего общества.
Столичные денди любили разъезжать в нарядных открытых фаэтонах или в модных «эгоистках» на высоких колесах. Слева от кучера сажался верткий парнишка – грум, опекавший молодого хлыща не хуже няньки. Он открывал ему дверцу, откидывал ступеньку, носил его покупки и укутывал ноги. Если же молодому щеголю требовалось выехать тайно, а в секрете держалось любое, даже самое обыденное, действо, как, к примеру, равнение усов, то мальчишка-лакей брал вожжи сам. Так он оберегал хозяйские затеи от кучерского свойства разбалтывать их кому ни попадя.
Но больше того, чем устраивать тайны, столичные денди любили красоваться. Они легко вскакивали на подножку лакированных экипажей и, задерживаясь ненадолго стоя, отводили голову в сторону, как будто рассматривая что-то в отдалении.
Этой уловкой модники пользовались всякий раз, когда было удобно показать себя. Удачное проявление щегольства было важным этапом в их каждодневных пижонских стараниях. Для того, чтобы выглядеть с подобной свободой и блеском, им приходилось не только долго примеряться, но и упражняться, оттачивая поворот головы, диагональ подбородка, жест рук и еле заметный, но не менее важный упор ноги о качающийся кузовок, так чтобы дать второй конечности возможность задержаться в воздухе на должное время и при этом не затечь.
Усаживаясь на край кожаного дивана, они требовали в хорошую погоду откинуть крышу и ехать неторопливо.
Искусство выставляться ярко и нарочито было заведено не ими, хотя каждому имевшему принадлежность к обществу франтов полагалось выполнять обязательный этикет: по-особенному смотреть, сидеть, здороваться, хмуриться и смеяться, но при этом не следовало открыто показывать свои чувства, чтобы никто не думал о том, что ты такой же, как и все, обычный или сомневающийся в себе тип.
Настроение следовало давать намеком, чтобы передумать, когда того требовали обстоятельства. Глядя на смущенно-отрешенно-надменное выражение лица и хищный взгляд чуть суженных глаз, за нехорошим огоньком можно было увидеть простодушный взор невыспавшегося паренька, чья мамка с утра, обнаружив одетого сынка спящим на тахте с блевотными разводами на именной рубашке, упрекала: «Как вы меня расстроили, Александр, как расстроили!» – и прикладывала пухлую руку то к шее, то к щекам, поглядывая на отражение своего холеного лица в серебряный поднос, оказавшийся под рукой в качестве карательной меры.
Было привычным заимствовать модные способности у англичан. Щеголи подсматривали за их стилем и перенимали радостные, всегда одинаково радушные выражения лиц. Однако наши считали англичан лицемерами, а их улыбки фальшью и, подражая им, тоже становились двуличными и плутоватыми, полагая, что надо именно так.
Еще считалось модным смотреть «остро». Высшим умением была способность объяснять красноречивым взглядом то, что хотел бы сказать его владелец. При таком смотрении обладатель проницательного взора мог и вовсе ничего не произносить, позволяя глазам любые реплики.
Когда природа подобным взглядом не награждала, то демонстрация этой самой остроты требовала тренировки. Как было подмечено самими модниками, природа ничем не могла повлиять на осмысленность глаз. Зрительная глубина давалась чтением, размышлениями и кропотливым осознанием человеческого существа, поэтому актуальные тенденции рекомендовали читать и развиваться. С этой целью для светского общества издавалось множество развлекательных газетенок и журнальчиков. Их надобно было держать в руках и раскрывать каждый раз, как только находилась для того возможность, показывая тем самым умение думать.
Несведущим в моде были непонятны беспокойства разодетых хлыщей. Ведь стать одним из них казалось легким: достаточно вырядиться в новое, придать взгляду высокомерную отрешенность и схватить под мышку прессу.
Спросить у любого модника: «Что особенного надо прикупить, чтобы прослыть франтом?» – в ответ последует снисходительное: «Купить можно моду, а не стиль».
Каждый знал: грешить с модой недостаточно, как и слепо следовать всему, что рекомендовано к туалету.
Личность, одаренная вкусом, способная затмить своим образом остальных, становилась для них примером.
Тысячи разодетых модников стремились сделать собственный стиль узнаваемым подчерком, ведь это позволяло управлять остальными, навязывать им фасон.
И вот усевшийся в пролетку господин, с ровной, вытянутой в струну спиной, перекидывал ногу на ногу и, опершись на колено, демонстрировал дорогие туфли и точеные стрелки брюк роскошного костюма. Он мог небрежно расстегнуть одну пуговицу жилета и замереть в тревожном ожидании остановки, показывая по пути грустную задумчивость и полнейшую мыслительную отягощенность.
Ежедневно, будто исполняя рабочий порядок, разодетая «бригада» посещала светские кружки.
Кроме рассудительности и ума, участнику светского развлечения полагалось свободно держаться, рассуждать и важничать. Во время дружеских дебатов требовалось блеснуть, а затем замолкнуть, выслушивая других.
В знак согласия надобно было кивать, в знак противоречия – сложить на груди руки и надменно смотреть на визави, показывая позой несогласие и тягостное ожидание минуты, когда тот окончит излагать.
При особой эксцентричности, на какую изредка решались самые развязные и творческие, допускалось пренебрегать светскими манерами и демонстрировать своенравие.
– Помилуйте, вы несете несусветную глупость! – вскрикивал разодетый безусый хлыщ, пряча за спиной руки, отчего вид его казался поучительным и важным, – а я утверждаю, что в будущем церковный брак, вместе со всем бутафорским антуражем таинства, этими вашими клятвами, записками, обедами, изживется! Уверяю вас, лет через сто убеждения изменятся настолько, что сожительствовать станут все. Идея внебрачного проживания, которую вы так усердно порочите, станет единой, естественной и легкой, а главное принимаемой. Брачные союзы исчезнут, ими будут пренебрегать, людям станут не нужны ни волокита, ни обряд. А знаете отчего? – с озорством и позерством выкрикивал молодой человек.
– Пригода, уймитесь! – весело говорила какая-нибудь разодетая дамочка в светлом платье и, хитро улыбаясь, подносила к розово-белому лицу задиры креманку.
– Аммм, – ворковала она и всовывала ложечку мороженого в покорно открытые челюсти.
Пригода с нежностью и интересом смотрел на прелестную подругу, позволяя утереть белоснежной салфеткой уголки своих губ.
Его взор становился точно таким же, как предложенный десерт: сладким и сочным. Он становился радостным и облегченно вздыхал: в острый момент растерянности она для него становилась спасительницей. Трудность выдумать разумные доводы в споре была частым следствием разговоров, поэтому милые создания участвовали в диспутах на равных и держали наготове лакомства. Завидя назревающую опасность, они возвращали гармонию, мудро используя обаяние и приятную сладость.
После обязательной череды острых бесед наступало долгожданное время, когда все расслаблялись. Однако и за этой мнимой раскованностью наблюдалась работа над собственным совершенством. Казалось бы, ну что особенного в дружеской болтовне, где полагалось развлекаться свежими сплетнями, домыслами и «доподлинно известными» нюансами? На деле естественность была заготовленным сценарием, как, впрочем, и всё остальное. Надобно было не сказать лишнего, но при этом не пропустить важного. Полагалось невзначай позволить себе нечаянную откровенность и следом обречь компаньона клятвой не распространяться об этом. Противоположная сторона точно так же требовала обещания молчать и выдавала порцию «новостей».
Спустя несколько минут все клятвы забывались, и глухие голоса пересказывали услышанное, перевирая факты так, чтобы обезличить источник сплетни и сохранить собственное обещание. Подобная игра давалась большим усердием, вниманием и феноменальной памятью. Внутренняя напряженность сохранялась до предстоящего вечера и спиртных возлияний, которые помогали «светским труженикам» обрести долгожданный покой.
Разъезжаясь по домам, модники совершали туалет и возвращались бродить по городу. Вечером было заведено размышлять о будущем или пьянствовать в больших веселых компаниях, где откровенная вседозволенность подменяла любые ощущения.
Часто, во время начинающихся сумерек, к государственным делам возвращались после кушаний чиновники. Они передвигались в красивых рессорных бричках, наблюдая за улицей через плотно задернутые кожаными занавесками окошечки?
Усаживаясь в свои чинушечьи кресла, они обводили сомлевшими глазами бархатные шторы, массивные шкафы, огромный красивый стол и мягкий диван с богатой обивкой. С невероятными усилиями они побеждали настигающую дремоту и желание прилечь. Обладатели личных кабинетов были способны себя одолевать.
Закрадывалась невольная мысль, что причиной их высокого положения был этот особенный талант. Неумолимое желание сна выбирало время, когда разомлевшее нутро беспомощно тянуло в зыбкую нежную бездну с неистовой властью.
Решительно превозмогая себя, они применяли силу, превышающую животную стихию человеческого существа. Удивительные люди со спокойной внутренней прохладой останавливали взгляд и долго глядели в одну точку.
Их взор не цеплялся ни за что вокруг, от этого начинало казаться, что смотрят они в свою собственную глубину, туда, где, кроме своих ощущений и мыслей, не было более ничего.
Как они противостояли внутренности, как сопротивлялись шаткому состоянию, как не нарушали равновесие, было неизвестно. Вероятно, они уговаривали себя или чем-то грозили, а может быть, что-то обещали в награду, но часто замечалось, что вслед за слипающимися веками возникала повышенная возбужденность: «джентльмен должностного назначения» быстро хватал со стола папочку и углублялся в чтение. Проницательными неподкупными глазами он изучал бумагу, а затем важно, с понятием качал головой и откладывал до следующей послеобеденной вспышки или до истечения только ему понятного срока.
В тот же час в повозках ехали коммерсанты. Они перемещались парами или по трое, обсуждая с компаньонами доходные мероприятия. Редко можно было увидеть, как довольные предприниматели посмеивались или потирали «нагретые» руки. Нечасто можно было заметить и тех, кто проиграл. Подобное, однако, не останавливало спекулянтов энергично продолжать свои нехитрые планы.
Час дорожного затора был безжалостен к любому. Все, кто имели лучший выбор и предпочитали принимать блага у себя в резиденции, а не мешкать в городской суете, тоже застревали в повозочной цепи.
Фамильные аристократы в роскошных тяжелых каретах, запряженных лучшей четверкой лошадей, обычно выезжали по крайне важному делу: на встречу к таким же статусным господам. Для них хорошие манеры не были пустым звуком. Они были любезны наедине с собой точно так же, как со всеми. Их осанка не менялась на сгорбленность даже в самом почтенном возрасте. Достоинство, прирученное с детства, становилось частью внутреннего и никуда не пропадало.
Такие встречались в дорогих ресторанах, куда попасть было невозможно. Там они укрывались в защищенное от посторонних глаз место: в кабинку за занавеской или столик за ширмой, где неторопливо беседовали, соблюдая всю строгость изысканных манер.
– Я, вы знаете, облагорожен тяжелым физическим трудом, – просто и в то же время точно произносил один и замолкал, давая время понять весь смысл сказанной фразы.
Второй, точно такой же, без неряшливых мыслей и речевых недоразумений, легко кивал и отвечал:
– Всем нам подвластно усовершенствовать этот мир. Праздность и созерцание только в помощь работе.
Их беседа оставляла ощущение избранности и чувство, что они, эти особенные люди, рождены для важной миссии, оттого ответственны перед миром. Весь их вид твердил о том, что долг в служении высшей идее им легок, потому-то в каждом была особенная гордость.
Прочие экипажи в этот час имели самое разнообразное назначение: груженная багажом повозка ехала на вокзал, громоздкая карета с нарисованным на пологе крестом перевозила больного, цирковой фургончик вез животных, почтовые дилижансы – письма, телеги – провиант, а омнибусы – пассажиров.
Тротуары жили по своим собственным законам и не подчинялись движению проезжей стороны. Прохожие, однако, не соблюдали никаких правил и часто шествовали наперекор повозкам или между ними, особенно сейчас, когда те двигались медленно, а иногда и вовсе стояли.
Тротуары разрешали горожанам торопиться и прогуливаться, оставляя за каждым порядочное пространство для любого маневра. Можно было даже бежать, огибая тех, что брел медленно, и тех, кто спешил, но успевал торопливо оглядываться, или тех, кто неподвижно стоял, облокотившись на фонарный столб, и оставлять позади сидевшего на бордюре с вытянутой рукой.
По улицам торопливо шли студенты, прогуливались городовые, брели после рабочего дня сотрудники канцелярий, чинно шли почтальоны с листиками адресов в руках, и спешили на божественные литургии церковные служители.
Хорошенькие гимназистки обычно прохаживались стайками. Они смеялись и украдкой поглядывали на военных, но, не замечая их ответного интереса, отворачивались. Офицеры, переговариваясь друг с другом для отвода глаз, рассматривали миниатюрные фарфоровые личики под одинаковыми шляпками и маленькие ручки в перчатках, держащие книжицы.
За молодежью важно ступали женщина в добротном, но старом пальто, с черномордой старой собакой на поводке и мужчина, прижавший сломанную к груди руку. Их обгонял на велосипеде веселый паренек в кепке, успевший улыбнуться хорошенькой молодой учительнице, шедшей ему навстречу.
Повсюду сновали попрошайки и те, кто угадывался по удивленным и растерянным лицам, – приезжие. Неместные выдавали себя задранными головами и частыми остановками возле ярких надписей, таких как «Оружейный магазин» или «Пекарня». Они долго всматривались в резные буквы, вспоминая, как кто-то из прохожих, объясняя дорогу, называл вместо улицы известное место с яркой вывеской. Местные отправляли заезжих блуждать по переулкам и завороженно рассматривать вывески взмахом руки: «Доберетесь до аптеки доктора Даца, повернете налево, с полверсты до книжной лавки, и после проезжей дороги нужный дом с вывеской «Лилипут»».
Стоя под деревянной растяжкой, иногородние зачастую не замечали витрины и её великолепного содержимого. Уже потом, будто падая из полудремы в глубокий сон, они опускали голову и сперва отшатывались, не доверяя красоте по ту сторону.
Не веря в подлинность, принимая великолепие за имитацию, они приближались к стеклу так близко, что едва не утыкались в него носом, и проводили внимательную, осмысленную работу распознавания.
Первая боязливая нерешительность быстро сменялась доверием и вспышкой теплой влюбленности.
Они начинали млеть:
– Ты смотри… смотри какая, – простодушно тыкал пальцем в стекло заезжий и, не сводя взгляда с револьверов с резными рукоятками, унимал жену, – да не галди ты, глянь сюда.
– Да куда ж тебе такое, – отвечала жена таким тоном, как если бы, имей она под рукой банный веник, ткнула бы им в мужа и повернулась бы к нему задом, напоминая этим оборотом, что «такое» только у нее.
Но затем она, зараженная его молчанием, затихала и умащивалась рядом, разглядывая длинноствольные кольты, винтовки, ружья и лежащие возле них коробочки с порохом.
Их взгляды становились похожими: детскими и чистыми; они перемещались с одной игрушки на другую, а как только замечали деревяшку с воткнутыми кортиками, то привораживались к стеклу окончательно, изображая преданную и нежную любовь.
Книжные магазины выставляли на обозрение открытки, почтовые марки и календари, а магазины одежды – ненастоящих господ в безукоризненных костюмах. На деревянные головы с нарисованными глазами и ртами крепились парики и шляпы, а к деревянным кистям привязывались кожаные сумочки.
В окнах часовых лавок маячили механизмы и ходунки, а в скорняжных – шкурки и набитые опилками пушистые тушки.
Весы, ведра, веревки, чашки и бочки, самовары, скобяные детальки – всё что, могло понадобиться горожанину или гостю, ставилось на главную полку магазинчика.
Можно было запросто подступиться к любому магазинному стеклу, кроме, пожалуй, того, за которым стояли манекены в меховых манто. Ни одна уважающая себя мадам не могла пройти мимо и не задержаться у рыжего лисьего воротника, беличьей шубки или пушистой муфты.
Одни наблюдательницы знали, что меховое роскошество для них недоступная мечта. Завороженные блеском одинаковых ворсинок, даже не пробуя отвести взгляда от мехового убранства, они заранее проигрывали себе уговор сдерживаться и ничего не выражать лицом.
Другие спокойно присматривались, прикидывая количество шкурок для заказа, чтобы успеть с пальто до октябрьского ветра.
Даже приезжие из глубинок, лелеющие мечту о волчьем полушубке, и те останавливались возле вывески «Меха». За три витринных метра они догадывались о назначении плаща, подбитого соболем, где мех совершенно не был виден, но зато ощутим его обладателю.
Судя по обороту женского лица, в этот момент случался внутренний и весьма болезненный переворот. Изнутри что-то отрывалось и окончательно исчезало вместе с грезами о волчьей шубке, заменяясь мечтами о норковом манто, висевшем за стеклянной изгородью.
Приезжие тулячки или новгородки, сложив кружочком ротики, причмокивали и затаенно шептали: «Это как я буду в нем бесподобна?! Это как мне будет в нем приятно и весело?! А кому, если не мне, в таком хаживать?!», – и отходили на пару метров назад, рассматривая норку как собственную, уже висевшую за одежной ширмой.
Улицы и переулки раскрашивались теплым светом ночных огней. Внутри стеклянных плафонов зажигались маленькие точки лампочек. Оранжевые светильники разгорались и прогоняли мрак, покрывая стертые углы подворотен мягкими красками.
Дворники лениво волокли метлы, оставляя за собой борозды вычищенных пешеходных троп. Утрамбовав в баки мусорную кучу из фантиков и сигаретных огарков, они утаскивали их во дворы.
Уличные крикуны замолкали и шли к торговцам за заслуженной копейкой, а те, переворачивая на другой бок лежалые окорока, поучали горластых мальчишек: «Не кричи, шалопай, «говяжий студень – ложку в пузень». Кричи «мясо коровье – всем на здоровье!»».
В это время мясники ждали беспамятных кухарок, забывших днем о завтрашнем обеде. Торопливая стряпуха выберет рульку или ножку и не станет принюхиваться и тыкать в розовые прожилки пальцем. Она схватит завернутую в бумагу вырезку и поспешит обратно, пока её не спохватились перед ужином.
Соседи мясников, кондитеры, приманивали вечерних покупателей, развешивая над прилавками сахарные, почти деревянные крендельки.
Витые булочки были удачными и ровненькими, хоть и негодными даже для размокания в чае. Черствая сдоба служила наживкой для тех, чьи затертые к вечеру глаза уже не различали свежести.
Это днем могла забежать студенточка и, ткнув в бублик, заявить, что хочет именно его. Вечером же любой посетитель отдавал выбор на откуп продавцу, который вытягивал из-под прилавка утреннюю булку и, заворачивая её в бумагу, протягивал вместе с коричневым леденцом на сдачу.
Готовясь к гостям, рестораны наполняли солонки и салфетницы, смахивали со столов крошки и тщательно подметали полы. Ледяные жбаны наполнялись бутылками, а мытье главного стекла исполнялось до прозрачной невидимости. Витринная перегородка, за которой шумела улица, была визитной карточкой любого заведения. Для тех, кто имел роскошество глядеть внутренностью на улицу, не было нужды в заметности, ведь прохожие и так соблазнялись, наблюдая снаружи за убранством зала и посетителями.
Официанты покрывали белоснежными скатертями столы и разглаживали их руками, оставляя со всех концов одинаковые отмерки ткани. Окружив белоснежный квадрат креслами, они миллиметрово сервировали его поверхность.
Перед самым началом вечерней смены всё скрупулезно проверялось и объявлялась финальная готовность: официанты выстраивались в шеренгу и, заложив за спину руки, становились похожими на караульных солдат.
Чем быстрее приближался заветный час, тем усерднее бегал по улице малолетний народ с записками. Эта особенная публика, пожалуй, была не менее значимой, а по численности и превосходящей светскую. В такие часы было заведено обмениваться планами на вечер, хотя всё без того было заранее условлено и принято. Но что поделать? «Этикет светской интриги» требовал неукоснительного соблюдения.
Половина записок имела подлинный смысл, другая же отправлялась с условием, что малец выронит её у экипажа определенного господина или передаст по ошибке некой прелестной даме. Посыльный убегал до момента, пока получатель поймет, что читает чужое.
Светские участники знали эти уловки и, получив «нечаянное» послание, уверялись в чьем-то интересе, чтобы этим же вечером обратить внимание на автора письма.
Были и такие, кто пренебрегал правилами светского этикета и не посещал днем мест публичного безделья. Для «красивой и талантливой публики» – поэтов, писателей, театральных сценаристов, художников и тех, кто себя к ним причисляли, но таковыми не являлись, жизнь следовала за сумерками и представлялась чередой непрерывного мрака.
К пяти вечера творцы просыпались и прикладывали к отекшим лицам ледяные компрессы, возвращая формам привычный, довольный жизнью вид. Некоторые еще заставали за окном ясный день. Таким удавалось сменить картину предыдущих суток на новые, большинству же доставались тени закатных лучей.
Заполняя будни сном, они забывали, как это – шататься по дневным улицам, ловя отражение в залитых солнцем витринах. Если поначалу думалось, что жизнь такая временна и за долгой зимой начнется светлая пора, то с началом летних ночей другого уже не хотелось. Променять огни ночных фестивалей на лоск солнечных линий не было никакого шанса.
Гонимые светилом, они испуганно пряталась в спальнях за плотными шторами. Со временем им начинало казаться, что ночь задумана для них, для «избранных». Они играли с рассветом в прятки, подозревая солнце в заговоре: ведь если оно проберется внутрь их темных комнат и дотронется до безукоризненных тел, то навсегда оставит отметину обычности, отобрав у них исключительную редкость.









































