Текст книги "Шара"
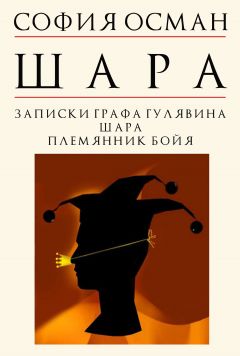
Автор книги: София Осман
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
– Благодарю Вас, господин Салевич, за беззаветную службу Государю нашему и нам, слугам его, – отчеканил усатый.
– Всё, программа окончена, – заорал Поликарп и, грозно сомкнув брови, ступил на высокого мужчину, всем видом изображая готовность отогнать любого, кто посмеет приблизиться, – отошли, все отошли, воздуха дать, без воздуха огню не быть!!!
– Хорошо служишь! – сказал Бронеслав и, похлопав Поликарпа по плечу, добавил: – Предназначен!
– Дорогу, – заорал тот, и люди кинулись по сторонам, падая друг на друга и отползая. Салевич взобрался в повозку, крикнул вознице «трогай» и через секунду пропал с площадки перед «Мединой».
– Одарил, благословил, – охнул управляющий. Прильнув щекой к следу большой ладони, он зажмурился и перестал шевелиться.
Глава II
С наступлением выходных время замедлялось. По тротуарам шатались гуляки, а проезжая сторона, ополовиненная перекладкой брусчатки, пропускала лишь по три экипажа в одну сторону, создавая грандиозные заторы.
Стряхнув будничные заботы, пестрая толпа веселилась и не спеша заглядывала в лавочки. Без суеты публика перебирала товары и, приценившись, торговалась с измученным хозяином магазинчика, не имевшим выходных.
Выходной день выстраивал людей очередью у популярных мест. Особенно славилась затея позировать перед объективом. В фотомастерскую приходили все, кто мог позволить себе эту забаву. К фотографии готовились заранее, ведь быть обсыпанным белой пудрой и просидеть несколько минут обездвиженным, рассматривая невидимую точку, указанную в пустоте, требовало терпения и исключительного желания участвовать в фотографическом деле.
Повинуясь художественному вкусу, мастера выстраивали посетителей так, чтобы уместить даже очень большие семейства в один снимок.
Художники, а именно так требовалось обращаться к фотографам, сперва усаживали наряженных бабулек и давали каждой на колени по кружевному младенцу. Позади, за их спинами, они строили дочерей или сыновних жен. Мужчинам полагалось занять места по бокам, но перед этим господа получали инструктаж. Им показывали, как нужно упереть руку в бок или же чинно облокотиться о край высокого дивана.
Детвору сперва «примеряли» к бабушкам, а затем пересаживали от них, поскольку бледные детские лица, зажатые весомыми телами, сливались с гипюром старческих воротников и становились с ними неразличимыми. Мальчиков определяли на приставные стульчики, а их высоких сестер ставили позади, не давая ученическим бантам загораживать ясные мальчишечьи глазки.
Праздный день притягивал ко всему съедобному: любая, даже самая маленькая, лавка, торговавшая съестным, была полна захожего народа, а уж в магазинчиках, где на развес продавали орехи или сушеные ягоды, было не протолкнуться.
Посетители хватали кульки и набирали в них миндаль и фундук. Лакомства щедро сдабривались бесплатной сладкой пудрой или горячей карамелью. Тем же, кто решил, например, залить сушеную бруснику шоколадом, уже подобало раскошелиться. Но что значила копеечная плата за след сладкого порока на зубах, от разводов горячего какао?
Можно было заглянуть в любую кондитерскую, да так и остановиться с раскрытым ртом, рассматривая шоколадную куколку с марципановой шляпкой в маленьких ручках, ушастого зайца во фраке или многоярусный торт с верхушкой из красных ягод и половинок груш, залитых сладкой патокой. Потом следовало замереть, увидев на больших подставках десяток одинаковых маленьких пирожных в кружевных салфеточках с дольками ананаса на верхушках.
Плетеные корзины были завалены сахарными каштанами и закрученными в разноцветную фольгу трюфельными кругляшками, а огромные жестяные коробки – разноцветным мармеладом. Рядом выстроились пирамидками деревянные и бархатные коробочки, куда следовало уложить всё, что было рассыпано и разложено кругом.
Но наступали сумерки, и, как было заведено вечерами, рабов ночного карнавала манил женский визг и пьяный хохот. Каждодневный праздник могло нарушить лишь отчаянное происшествие, такое, например, какое случилось накануне, поэтому сегодняшний вечер выдался небывало тихим.
Весь день Петербург перемалывал новость. К вечеру всё произошедшее превратилось в байку и обросло нелепыми и неуклюжими подробностями.
Вчерашний случай стал походить на выдумку: дамы шептались, что Салевич накануне перемерил все рестораны, высматривая себе даму заместо Сони, и как будто около трех часов ночи нашел похожую в «Гаре». Господа утверждали, что поэт преследовал должника, проигравшего ему в карты дюжиной дней раньше в «Сове», и что тот должник – не просто должник, а сам Аркашка Молочный – сын Петра Андреевича, прославленного мецената и филантропа, который третьего месяца замер в болезни и тем одобрил сыновние растраты.
Однако ближе к полуночи «басни» обернулись неожиданной догадкой: Бронеслав прибыл в «Медину» со специальной миссией встретиться с самим Устинским, которому назначил встречу вчерашним днем. Но Устинский, знатно аккуратистый господин, помедлил появиться собственной персоной и отправил вместо себя переговорщика. Его помощником оказался щуплый мужичонка, владеющий специальной подготовкой, которую он всеобъемлюще демонстрировал перед Бронеславом Андреевичем, чей разум и Божье провидение слывут по всей России гласом поэтической мысли. Эти размышления так пришлись по вкусу обществу, что заполонили все предыдущие версии. Устинский превратился в государственного врага, а его переговорщик – в служаку самого дьявола.
В ту минуту, когда коалиция окрепла, напротив дверей «Медины» остановилась повозка с чеканными инициалами «БС» на дверце.
Салевич так стремительно зашел в ресторан, что встречавший его швейцар не успел оторопеть. Замешкавшись, он оставил себе важное лицо, с каким обычно встречал гостей, и, надув щеки, громко выдохнул в пышные усы, отчего те трепыхнулись и встали вперед наподобие двух беличьих хвостов.
Не раздевшись и не дожидаясь приглашений, Бронеслав прошел в зал, где, как и вчера, прислуживал Сашка. Тот издали заметил высокую фигуру поэта, растерянно водившего головой по залу.
– Бронеслав Андреевич, миленький, присядьте, – выдохнул Сашка и ударил подносом о ближайший стол, откуда с испугом вскочила разряженная рыжая дама. Завидев поэта, она обрадовалась, шумно вздохнула и, воздев к нему руки, с жаром произнесла:
– Встряхнуть оранжевой копной,
Раскинуть завитки,
Тисками сети золотой
Манить с небес желтки.
Ладонью небо окрестить
И клеткой пятерни
Подкрасться к кругу и схватить
Светило за огни.
Шептать лучу: «Ты мой, ты мой,
Сияй теперь лишь мне,
И грей меня, и освещай
Мой путь в кромешной тьме,
Твоя царица я, ты раб,
Прислужник, мой фонарь,
Теперь тебе один указ:
Искри и мне играй.
Я королева всех сердец,
Сияю, как звезда,
И ты при деле – молодец!
Мы пара хоть куда!
Дразнить весельем солнцепек —
Провал для всех идей,
Не знала я, что мой желток —
Противник рыжих фей.»
Он обнял свод моих волос
И, нежно прислоня
К щекам лучей горячих ось,
Оставил след огня.
Рассыпал на моем лице,
На лбу и возле губ
Цепочку цвета янтаря,
Веснушек ярких круг.
– Здрасьте, – кивнул поэт и, уворачиваясь от её рук, попятился, – не нужно, не нужно… не для вас писано. – Он налетел на Сашу и, схватив того за плечо, шепнул: – Степана зови.
– Присядьте, присядьте, вмиг всё устрою, – шептал Саша в ответ, сгребая грязную посуду со стола, где только что сидели гости. Теперь они все кивали и рассматривали Бронеслава точно так же, как родня разглядывает только что крещенного ребенка, получив дозволение приблизиться к нему с условием не трогать того руками. Они всматривались в него, вытянув шеи, и еще бы чуть-чуть – кто-то непременно бы вскрикнул про нос или родимое пятно на ручке и вспомнил бы про прадеда, имевшего такую же родинку на ножке.
Бронеслав стоял сутулый, отвернувшийся к сцене. Он старался не глядеть никуда, кроме оркестровой площадки, где сейчас происходило заметное оживление. На площадку забрался тенор – высокий светловолосый мужчина в смокинге с ярким цветком в петлице. Срывая на ходу подвязанную салфетку и дожевывая, он защелкал пальцами и затарабанил ногой. Расслабленные понурые музыканты, получившие минутой ранее заслуженную паузу, на секунду растерялись, но, узрев возле сцены литератора, подхватили инструменты и грохнули звук невообразимой мощи. Розовые рюши на платье дамы, сидевшей поблизости, затрепетали в такт музыке, отчего платье «ожило». Показалось, что эта мадам была тоже участницей ансамбля и села в метре от сцены не по велению случая, а специально, чтобы в этот избранный момент, когда монументальный взгляд великого человека пал на артистов, оживить своими рюшами выступление.
В зале стало тихо.
Из-за занавески показались трое: двое официантов вели под руки развязанного, казавшегося пьяным Степашку.
Степан, не дожидаясь пригласительного жеста, сел и, закинув локоть на спинку соседнего стула, щелкнул пальцами.
Певец, заметив суету, смолк и остановил музыкантов, а потом плавно заводил плечами, указывая такт теревшимся за его спиной скрипачам. Музыканты откликнулись печальной мелодией.
– Что, глазастый? – грозно сказал Степашка Саше, – че гасишься, корма тащи.
Салевич достал из пиджака блокнот и раскрыл его на чистой странице.
– Бронеслав Андреевич, что прикажете?
Любое, – махнул рукой Салевич и внимательно посмотрел на воспаленные глаза и мутный взгляд полупьяного Степана, – моему другу принеси выпить.
Саша добежал до кухни и заметался:
– Поликарп Ильич, батюшка, что же это второго дня, никакого покоя да праздника, – официант вцепился в руку метрдотеля, присевшего с тарелкой к откидному столику, и выдал значительное «опять!».
«Опять!» сорвало Поликарпа, как прогремевший выстрел. Он, не сдернув с шеи салфетки, выбежал в зал, столкнулся по пути с дамой, вывел быстрое «пардон» и, растерянно осмотревшись, кинулся к столику поэта.
– Счастье второго вечера! Что за щедрость? Великодушный Бронеслав Андреевич, позвольте душе моей богатство! Разрешите Вас пожать? – заголосил Поликарп, хватая большую ладонь, – чем обрадовать Вас? Жалуете изобилья? Дайте намек – исполню, разобьюсь, а сделаю, всем рискну, ничего не жаль, быть мне слугой – утешение. Взглядом ткните – уловлю: понятливый. Соберусь, выполню. Вы – земля наша, избавление греха, душа необъятная, всем нам защита, купол Вы наш Божий.
Не было бы свидетелей, Поликарп бухнулся Салевичу в ноги и исполнил челобитную по всем правилам литургий.
– Ну, полно, полно трепыхаться, неси… корма неси.
Не дрогнув ни единой мышцей, словно от каждого захожего господина он слышал подобное обращение, Поликарп схватил проходящего паренька и громко распорядился:
– Корма Бронеславу Андреевичу, да поживее!!!
Через минуту на столе поэта появились кушанья, а позади Степашки привстал официант. Он заполнял рюмку каждый раз, когда тот её ему подносил.
– Эй, белобрысый, вдоволь лей, как себе, – прикрикивал на него Степка, а тот, чтобы избежать его гарканий, каждый раз наклонялся и закрывал один глаз для точного движения.
– Едрить, поэтушка, прямо держись, дело говорю, – вещал разомлевший Степка и довольно покряхтывал, – ты слуга человечий, адская житуха, приплыл. Тишину поймал? Стосковался?
От собственной догадки Степка захохотал, но резко оборвал смешки и серьезным голосом добавил: – Вот… лядиада!!!
– Делать-то что? – обратился к нему Бронеслав.
– А до меня что дое. ался?
Поэт вздрогнул от вопроса, как от щелчка по носу, заслуженного, но несвоевременного. Он с горечью посмотрел на Степку, попытался подобрать слова и даже зашевелил губами, примеряясь сказать, но остановился, мученически облокотился на руки и воткнул в ладони лицо.
– Не п. деть команда!!!! Расслабляйся, поэтик, раскину мозгами, сочиню, подскажу, – выкрикнул раздобревший Степка, хлопнув по плечу Бронеслава.
От его дерзкого жеста публика вскрикнула. Степан же щербато оскалился и обернулся к людям, изображая своим расхлябанным видом полную вседозволенность касательно поэта.
Салевич будто забыл о том, что можно гневаться или возмущенно глядеть в ответ на панибратский шлепок. Посудомойщик выдвинул вперед челюсть, чем придал себе странное, казавшееся ему неподходящим выражение нашкодившего ребенка, и, сузив глаза, окончательно превратился в шалуна.
Его вытянутое лицо с большим подбородком и щелками глаз, где теперь грелся нехороший, чертовский блеск, выглядело ненормальным. Он смотрел на гостей так, как будто в последний раз предупреждал о готовящейся проказе или поджидал, что кто-то смелый его остановит и скажет: «Степка, на кухню, сукин сын!»
Все молчали.
Так никем и не одернутый, Степка резко вскочил и высоко подпрыгнул, а затем ринулся присесть на корточки.
– Эх, Россия, гниль да срань, нет житья!!! – крикнул он и повторил прыжок, только теперь его тощие руки лежали на груди крестом, а ноги выбрасывались поочередно вперед.
Так он прошелся вдоль столиков, останавливаясь возле каждого и рассматривая всех, кто ему встречался.
– А мы живем! Мы радуемся! Душат нас, травят, а мы радуемся! ДА?! – Степка рванул возле моложавой привлекательной дамы, выкрикнув свое «да» ей в самое лицо, словно именно она давала пример всеобщей радости взамен положенной печали.
Дама, одетая в белоснежный наряд, не скрывая своего отвращения, испуганно отвернулась. Сидевшая рядом с ней юная девушка в переливчатой накидке стала кричать, чем сразу же приковала внимание Степана к себе.
Кто-то принялся громко успокаивать некоего Петра, вскочившего навстречу сумасшедшему танцору. Храбрый Петр, брезгливо посматривая на пылкого плясуна, загородил собой юную девушку, чьи крики превратились в невнятные стоны.
Перекрывая всеобщий гул, Салевич захохотал и захлопал в ладоши, а когда к танцующему из-за занавески с криком выбежал Поликарп, Бронеслав Андреевич поднялся на ноги и зааплодировал еще жарче.
– Россия, матушка, родина моя! – заорал метрдотель, повторяя танцевальные па плясавшего Степки. Тот, заметив сподручника, развернулся к нему и заходил вокруг, словно гусак.
– Грязью укроет родина, проча раны сердечные,
Ничто не залечит скорби от мук твоих бесконечных,
Твой я, пропитанный полно, больной от тебя, тобой задранный,
Босой, прикрытый отрепьем, невольно душою связанный,
– закричал мужской баритон, издали напоминающий голос Бронеслава.
– Колья распятий вколочены под каждым куполом в грязь.
Святейшим синодом отточены те, кого поклонясь,
Молим о счастье и радости, спасении грешных душ,
Прося перед Божьим образом здоровья для рыхлых туш,
– продолжал голос.
Расталкивая людей, из толпы выбежал невысокий господин. По всей вероятности, именно он был владельцем близкого Салевичу тембра, но оттого что казался смешным и нелепым, по вине своих слишком толстых и коротких ног, не был похож на обладателя баюкающего голоса.
Он сорвал с себя пиджак и бросил его под ноги, а жилетку расстегнул и, подтянув модные штанины, туго облипающие пухлые икры, тоже заприседал. Присядка новенькому не давалась: казалось, он пробует ее впервые и никак не может с собой совладать. На каждый шаг он подставлял руки и неуклюже на них заваливался, пока совершенно не ослаб и не грохнулся на спину посередине площадки.
Тотчас стоявшие господа, будто получив разрешение, бросились в танцующую кучу.
Огромный, сутулый, чуть присевший, но оттого не казавшийся меньше поэт звонко хлопал и прикрикивал:
– Гэй, гэй, братушки,
За Россию матушку!
Государю батюшке
Мы родные чадушки,
Все мы родилися,
Ко двору пришлися.
Тут нам благодать,
Воевать, умирать!
Гэй, гэй, братушки!
Свалка из тел перестала напоминать танец. Салевич выпрямился. Его вид стал обеспокоенным, а красивое большое лицо печальным и виноватым. Глядя на корчащихся возле его ног людей, Бронеслав растерянно попятился, но тут же встретился с Сашей. Во взгляде официанта читались одновременно ужас и жадная надежда на тишину.
– Держите обломок моей души,
Довольны? Берите, грейтесь!
Горы из горя, руды из лжи,
Валите, кидайте, лейте.
Нет в нем печати жизни простой,
Теплой бездарной комы,
Грез и желаний любви роковой,
Нет золотой истомы.
Пусть больше не будет мерилом война,
Сломаем железные копья,
И без того все холмы в крестах,
Распятых душ отголосья.
Берите осколок, теперь он ваш,
Затянутый знаками, ритмом,
Благословенный смысл в строках,
Нетленно дырявит в рифму.
Глава III
А по воскресеньям в большом городе торговали на рынках. На площадках из красочных лавок можно было отыскать всё что угодно: лен, масло, рыбу, мясо, фрукты, орехи, ложки, плетеные короба и корзины, сукно, тарелки из глины, расписные кувшины с крышками, керосин в горелках и бутылочный, счеты, шапки, вышитые платки с бахромой и настоящих певчих птичек.
Базарное тряпье казалось нарядным и дешевым, оттого было желанным для всех. Даже если хотелось купить всего лишь медный чайник, спустя час ему в придачу появлялись чашки и пузатая сахарница. Следом покупались пряники и мед. Новоселье блестящего котелка превращалось в праздник.
Держась за сахарные бублики, толпа сгребала шерсть, деготь, сало с яйцами и шагала сквозь ряды гастрономий к домашней утвари. Минуя ряды с корытами, кадками и ухватами, все устремлялись туда, где рынок становился местом забав. Разодетые в яркие рейтузы и юбчонки медведи верхом на колесе катались по кругу вслед за рукой дрессировщика и связно рычали, попадая в такт балалаечному треньканью плюгавенького мужичонки.
Веселый, добродушный дядька в облезлой тельняшке и накинутом на плечи бушлате, теребя трехструнную бренчалку, забористо чеканил стишки про голых девок и их голых мамаш. Когда того требовал сюжет поэмок, он разводил широко ладони, зажав гитарку в кулаке, и показывал размер девичьего зада, не покидающего его грезы, или золотого куша, так нужного ему для веселой жизни. От этого жеста казалось, что потертое пальтецо вот-вот свалится к грязным большим сапогам певуна, однако оно держалось на его худых плечах, будто влитое.
Его беззаботная некультурщина притягивала больше, чем заунывные песенки про разлуку и нищету юного итальянского шарманщика, стоявшего неподалеку. Невысокий паренек повторил эту песенку тысячи раз, отточив выговор трудных русских слов до полной неразличимости с их исконным звучанием, и уже напоминал не заезжего музыканта, а черноглазого кубанского мальчишку.
Веселье притупляло вскрики раздетых по пояс мужиков. Глядя на красные следы их тумаков, верилось, что они бьются не для потехи. Их обступали со всех сторон и кричали «гей-гей, бей-бей» или «тузи его, тузи» и размахивали кулаками, показывая, как надо ударять. Под аккомпанемент отборной матерщины в толпе непременно кто-то падал, втягивая в кулачную схватку своего соседа, а остальные растерянно приседали, не зная, в какую сторону любопытнее таращиться. Решив этот нехитрый вопрос, зрители сердечно скандировали «вставай Васька, вставай», единогласно решая, что упавший следом за первым и есть обидчик.
Но самым приметным зрелищем на воскресных съездах были циркачи. Площадку, где бородатый силач в тугих трико и белоснежной рубашке держал на плечах тоненькую, едва телесную девочку, обступали плотным кругом. Принцесса, одетая в золотой костюмчик, крутилась на плечах бородача. Стоя на руках вниз головой, она изгибалась, а потом взымала вверх от толчка большой руки, изображала в воздухе затейливую дугу и невредимо приземлялась на землю.
В сторонке, на перевернутом деревянном футляре, на порядок возвышаясь над всеми, стоял расписной клоун с барабанчиком на шее. Каждый раз, когда толпе следовало затаиться и задрожать от страха, он поднимал барабанные палочки и выбивал отрывистую дробь. Оттарабанив, он замолкал, не сводя нарисованных глаз с гимнастического зрелища, чем еще больше нагнетал всеобщее напряжение.
Доведенные до смятения зрители уже не верили в отвагу большого бородатого мужчины и в то, что он сможет поймать малютку, поэтому негромко жаловались: «Отпусти девку-то» или «Вот ирод».
Но девчонка взмывала ввысь и приземлялась точнехонько в гимнастический обхват. Публика вздыхала: «Его самого так бы кувырнуть» – и отходила туда, где двое гармонистов, резво перебирая по кнопочкам, растягивали подвижную вставку между деревянных закрылок и прикрикивали разбитное «хэй», меняя этим словцом любую мелодию на базарную.
Тем же вечером светские шалопаи разодевались в шелка. Напялив маски благожелательной прохлады, они «заступали» на ежевечернюю службу.
Возле «Медины» было шумно.
– Вчера ночью Салевич выступал в «Медине», – женский голосок торопливо пересказывал события минувшего дня подошедшему мужчине в бархатном бордовом пиджаке с модным платком вместо галстука и дорогом кашемировом пальто. – Невероятно! – пискнула женщина и дернула плечами, – говорят, будто его попросил сам Устинский, а тот, вопреки всем правилам не давать публике себя, выступил! – рассказчица округлила глаза. – Как только он уехал, людей начали выносить и раскладывать прям тут, – она ткнула ногой в красный ковер, – давали соли, хлопали, обливали! Я бы тоже не выдержала, потеряла бы свет, если выдалось его узнать! Может, приедет? Мне бы хоть издали глянуть, и то счастье! А уж слушать его, смотреть – такое и не думается. Салеееееевич, – захныла женщина и прижалась к кашемировому плечу.
– Знаешь что, – начал мужчина, – готовится что-то! Салевичем публику отвлекают, понимаешь? Устинский реформу задумал, еще вспомнишь мои слова. Суровое время грядет, неспокойное. Недаром Салевича вызвали! Только представь, что будет! Сам Бронеслав, это где такое было?! И, главное, где? В трактире, в «Медине»! Неладно это!
Женщина жалобно продолжала плакать:
– Его Соня бросила, сбежала в Москву, к студенту! Все про это знают, все говорят! Вот он и не выдержал, к народу потянулся оттого, что плохо ему.
– Откуда знаешь?
– Мне Аида всё рассказала, знаешь Аиду? Ну как не знаешь! Она – любовница Прачалы.
Мужчина вытаращил глаза и охнул.
– Про это все знают! Аида сказала, что Соня сбежала месяц назад, что живет в комнатушке с клопами, лобызает студентика, а Бронеслава отправила ко всем чертям. Дура девка, ой и дура! – причитала женщина, – но нам-то, нам-то шанс!!! Понимаешь, Тарас?!
– Суровые времена грядут, посмотришь! Устинский реформу задумал! Будет ли Салевич из-за юбки так биться!
Опомнись: он не человек – гора. Не пристало ему ручейком извиваться и плескать себя о бабьи ноги, он великий!
– Всё не так! Я расскажу правду, – к паре развернулся почти лысый человек, чью макушку кольцевал седой пушок; на носу у говорившего были очки, – спор у них с Устинским за Соню!
– Ааааа, – женщина отшатнулась, – у Салевича и Устинского? За Соню?
Лысый значимо кивнул.
– Цыганка им обоим душу измотала. Потопталась и бросила, рыжая потаскуха, – шипел лысяк, – с обоими спала! Те, как узнали друг про друга, бросились к ней с криком «выбирай», – кряхтел он, – поэтому и сбежала, а они стали между собой договариваться!
– Да ты что? – ахнула женщина, – вот это история! И что, решили?
– Не решили! Видишь же, что делается? – он махнул в толпу.
– Нет, тут политика! – сказал Тарас, – никаких баб.
– Да бросила она его, со студентом кочует в Москве, их видели!
– Делят они её, послушайте же меня!!! – усердно кивала лысая голова.
На пороге «Медины» показался Поликарп. Сперва он, важно похлопав по пиджаку в районе груди и смерив людей внимательным взглядом, словно удостоверяясь в чем-то, достал из кармана листок.
– По спискам! Кого назову, тот проходит в зал и занимает место, тихо сидит и ждет, никого не кличет, не требует выпить, не пялится в окно, – распорядился метрдотель и начал выкрикивать фамилии, не спуская взгляда с каждого проходившего мимо. А когда ресторан набрался и толпа разочарованно заревела, гордо развернулся и зашел в двери, плотно их за собой закрыв.
По центру ресторанного зала, на возвышении, за овальным столом сидел хмурый Степан в свежей нарядной рубахе, криво висевшей на его тощем теле, и штанах, заправленных в широкие голенища высоких новых сапог.
– Играйте, – скомандовал посудомойщик замершим музыкантам и, дождавшись, пока певец подпрыгнет и ринется к пианисту, отщелкивая пальцами ритм, перебил его стуком ноги под столом.
– Налей, – продолжал он командовать.
– Момент, Степан Родионович, – отозвался Поликарп и надел на руку белоснежную перчатку, – угощайтесь, кушайте, – приговаривал управляющий, заполняя Степанову рюмку и повязывая ему салфетку.
– Отошел, – рыкнул ему посудомойщик. Но как только Поликарп поклонился и заторопился к кухонной занавеске, снова рявкнул: – И скажи им, пусть не сидят истуканами, нечего меня сверлить. Нельзя на меня смотреть! Нельзя!
– Всем отвернуться, не смущать Степана Родионовича! – послышался голос Поликарпа, – миссия на нем: понимать величайшее поэтическое слово!
К одиннадцати голова пьяного мессии лежала на столе.
Салевич зашел в зал в половине двенадцатого и сел напротив разнеженного Степана.
– Ждать себя велишь, поэтик? – поднял голову посудомойщик, – а кто ты такой вообще? Третий день лечишь, воешь, словно кум мне?
– Салевич я, Бронеслав, – тихо ответил поэт.
Степан сморщился и рыгнул.
– Нет, не слышал про такого.
Бронеслав растерянно пожал плечами и зашептал:
– Туточки да тамочки,
Светочки, да Танечки,
Машеньки, да Анечки,
Лакомые самочки.
Девочки-матрешечки,
Расписные брошечки,
Губки размалеваны,
Взгляды избалованы.
Ходят стайки девичьи,
Хвостиками беличьими
Крутят – бьют животиком,
Попадают дротиком.
Смехом заливаются,
Счастьем рассыпаются,
Мучаются, маются
Дурочки – кривляются.
Степка задумчиво осмотрел поэта, застывшего в ожидании откровенной ответной тирады. Выдержав порядочную паузу, посудомойщик заливисто, по-ребячьи откровенно расхохотался, содрогаясь всем телом и пристукивая по столу рукой.
– Говно, а не стихи. И что, тебя читают? – выкрикнул он.
Из зала послышался короткий вскрик, быстро сменившийся тихим плачем. Если бы не предшествующие дни, людское возмущение разнесло бы мужичонку, но сейчас присмиревшая публика бесшумно разевала рты и лишь бессмысленно таращилась на овальный стол.
– Плохой вкус у нашего брата, – хмыкнул Степашка и кивнул вбок, подзывая белую перчатку с водочным графином.
– Сам Государь меня принимает, – сказал Салевич глухо, – я читаю ему – он смеется.
– Так и что? Баран ты безмозглый, – закричал Степан, – ноль, а не человек!
– Я Салевич!!! – заревел поэт и, опершись о стол, медленно поднялся во весь рост.
Зал ахнул.
– Сядь, – прикрикнул Степан и ткнул пальцем в стул, – сядь, поэтик! Про то ли нужно людям или ты для Государя пишешь? Про что? Про хохотство да гульбища? В этом твоя поэзия? Это твое благословение, Салевич? – Степашка смачно плюнул на пол и весело стал наблюдать за подскочившим полотером, важно стирающим с пола мокрую точку.
– Что тебе надо? Что сюда ходишь? Покоя ищешь? – шипел посудомойщик.
– Затих, – одними губами произнес Бронеслав и опустил голову так низко, что коснулся подбородком груди.
– Всё так, поэтишка, так! Всё так, потому что говно, а не стихи, – Степка ринулся к поэту и, наклонившись к нему, начал быстро говорить, шипя и оплевывая благородное лицо. Глаза поэта округлились, он покраснел, шарахнулся и попытался встать, но Степкина рука лежала на плече Салевича, словно пригвоздив того к стулу.
Его слов не было слышно, но перепуганные люди, присматриваясь к губам, надеялись уловить их движения, чтобы хоть что-то понять. Когда кого-то осеняла нелепая догадка, гости наклонялись друг к другу и шептались под соседское цыканье, напоминавшее театральное «закройте рот, мешаете спектаклю».
– Сашка, что там? – прохныкал Поликарп.
– Шепчутся, не расслышать. Только одно могу сказать: говорит он значимо, – заметил Саша, разглядывая печального Бронеслава, подпиравшего большую, понуро опущенную голову руками. Салевич не сопротивлялся, уже не пытался подняться и уйти, а тускло смотрел прямо перед собой, изредка с согласием кивая. Он так поник и сгорбился, что стал казаться меньше: его плечи опустились и сузились, а голова шаталась вверх-вниз, как тряпичная.
– Спаси его, – жалобно пробормотал Поликарп.
– Разрешите прибраться, Бронеслав Андреевич? – поклонился Саша, подскочив к столу.
– Не торкай ты меня. А ты говори, Степан, говори.
Салевич схватил Степку за рубашку и, рванув к себе, по-отечески обхватил рукой его пегую голову, притягивая к широкой груди.
– Говори, Степан, – закричал Салевич, – рождаюсь!!!
Салевич поддел ворот своей рубахи и рванул воротник. Посудомойщик с видимым удовольствием на лице пододвинул стул и присел, уже не удерживая поэта и не ухмыляясь.
Через час поэт горячо его обнял и, не глядя по сторонам, покинул ресторан.
* * *
– Давайте, родимые, давайте, – прикрикивал извозчик, метко хлеща в миллиметре от лошадиных крупов, – застоялись, родимые, месяц не гуляны, – громко веселился он, прогоняя экипаж по тихим улочкам и вывозя повозку с чеканными буквами «БС» на проспект.
Проехав порядочно, экипаж завернул за угол, спустился вдоль канала и остановился на безлюдной набережной возле двухэтажного особняка.
– Генрих Рудольфович ждет Вас, – широко распахнул калитку слуга навстречу поэту, как только тот покинул повозку и устремился во двор. Забежав по ступенькам, Бронеслав толкнул дверь и стремительно прошел по коридору в глубь дома.
– Гаря! – крикнул он на ходу невысокому пожилому мужчине, быстро приближаясь к столу его рабочего кабинета.
Мужчина счастливо расплылся в довольной улыбке и встал навстречу гостю.
– Броник, мой родной, – хозяин протянул к поэту ладони, но вместо этого был объят высоким Бронеславом.
– Как давно тебя не было! – воскликнул Генрих, стоя напротив друга, держа того за локти и рассматривая, – вроде похудел? Как будто опал. Не знаю, чему верить! Говорят-то разное! Ты садись, садись, не стой, – засуетился хозяин, усаживая Салевича в большое бархатное кресло напротив своего стола. Тот сдернул с себя пальто и, перекинув его через бархатную спинку, медленно сел, счастливо смотря на друга.
– Разное говорят-то, – повторил Генрих неторопливо, – словно Соня сбежала к студенту, а ты из-за того ополоумел. Поднял весь Петербург, вроде как искал её. Говорят, что ревновал её к Устинскому и даже звал того на разговор, но тот струсил, сам не приехал, отправил вместо себя тощего паренька. И вроде как того паренька ты пожалел, взял к себе служить, ибо выглядит он жалко. Потом слышал, что в карты ты крупно проигрался сынку Молочного и тот, не дав тебе рассрочки, потребовал оплату, и потому ты давал концерты в кабаке, заработал на том и расплатился. А потом и вообще чудное говорили, – Генрих махнул рукой.
– Мне бы их фантазию лихую. Я бы…, – Салевич расхохотался.
– Что молчал полгода, Бронеслав, случилось что? Ни строчки, тишина, – посетовал Генрих.









































