Текст книги "Шара"
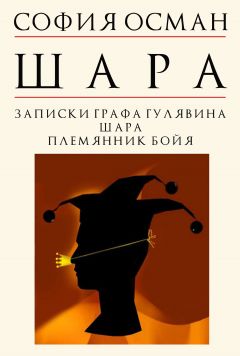
Автор книги: София Осман
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Были ночи, когда музыка внутри замолкала, мазки выдавались уродскими, а фразы напоминали свалку. Тогда они забирались в повозки и разъезжались по праздникам, часто забывая торжественные поводы веселий.
Из укрытий освобождались первые разряженные бабочки. Отправляясь блуждать по улицам, девицы одинаково мечтали о знакомстве с суженым. Жених, предназначенный для нее небесами, был обязан узреть в разукрашенном лице дарованную свыше продлить его имя. Эти картинки неотступно следовали за блудницами в любой балаган с их участием.
Те, кто был постарше, прятали фантазию так глубоко, что возвращались к ней как к спасению, когда требовалось приложить льда к разбитой губе или глазу. А те, кто недавно овладел искусством фривольного общения, становились их заложницами и не скрывали надежду, сопровождая взглядом каждого проходящего господина.
Не хуже душевных докторов они оценивали любого господина за доли секунд. Отличив порок от добродетели, девицы незамедлительно решали, стоит ли встать к прохожему ближе, вседозволенно улыбаясь.
Вечерняя суета достигала золотой точки в то время, когда коляски заполняли ресторанные улицы, высаживая нарядную публику.
Господа и дамы, ступая на мостовую, немедленно преображались, вздергивая кверху подбородки. Они смотрелись значительно. При взгляде на господ думалось про Государя и про то, что это он лично выбрал каждого из них в число участников победного парада.
Торжественная процессия вышагивала по ярко-малиновым дорожкам к распахнутым дверям ресторанов. Участников шествия объединяла незаурядная способность с небрежностью смотреть сквозь всё и одновременно ничего не упускать из вида. Эта способность поражала любого, кто был далек от неписаных правил держаться благородно и по-гордому обособленно.
Зацикленные на «любви к себе», они не всматривались никуда, кроме собственного вида, однако смеряли взглядом каждого, кто был поблизости. В таком взоре было множество отталкивающего, но знание светского порядка и торжественного протокола незримо украшало владельцев особенного взгляда.
У каждой резной двери маячками «того самого места», куда так «безысходно» тянулись экипажи, лежали красные паласики. Золотые кончики тростей дырявили сплетенные нитки, оставляя в них метку «хожено». Каждое отверстие пурпурного половика, если бы ему предстояло на секунду ожить, непременно бы высказалось: «Смотрите на меня – пронизанное тысячей шпажек, это ли не значит, что тут дорожка для «хрустальных башмачков»?»
К девяти гости собирались, занимая все места заведений на улице «красных дорожек».
Яркая гирлянда красавиц украшала любое место и так же отчаянно его уродовала своей безликой одинаковостью.
Изредка сквозь массу похожего выбивалось случайное юное личико без тусклой печати уныния. Оно притягивало, заставляло рассматривать себя, как диковинку, и делать ставки, словно на гончего пса или кобылу на выездке.
Одни нарекали незнакомку случайной гостьей, о которой завтра никто не вспомнит. Другие предрекали ей будущее. Сколько продержится? Внемлет ли игре? Начнет ли свою? Станет ли куклой на ниточках в чужих руках или сможет отстоять себя? Как быстро сменит красные коврики на серые коридорные дорожки дешевых отелей?
Некоторые господа с видом бывалых ловеласов переглядывались через столы, подмигивали друг другу и кивали на новеньких. Они менялись секретными знаками, как члены тайного сообщества, и бесстыдно пялились на напуганные милые черты, азартно при этом посмеиваясь.
Новые красавицы копировали жеманные привычки освоившихся дам. Они точь-в-точь, как и те, запрокидывали голову, щурились и держали мундштуки кончиками пальцев, а потом курили, прикасаясь самым уголком губ к деревянной трубочке, выпуская дымный сгусток вверх, демонстрируя уверенность в себе.
Застланный дымом ресторанный потолок быстро терял очертания, становясь низким. Туман покрывал фигуры снующих татар во фраках и белых перчатках. От табачного дыма официанты опускали свои головы с гладковыбритыми лицами вниз, подчеркивая свою услужливость, а белоснежную кисть с подносом задирали повыше.
Дымные клубы разгонялись звуками оркестровых труб и звонким трепетом бубнов. Шум венгерского оркестра, сперва неторопливый, медленный, ленивый, как и начало празднества, ускорялся за несколько минут до срывающихся тактов, заводя публику.
То тут, то там раздавались хлопки вылетающих пробок газированных напитков. Официанты еще церемонно и со всей важностью лили шампанское в бокалы, но не отходили. Они ждали, пока господа поднимут тост с пожеланием доброго вечера, а их дамы манерно сопроводят смущенные взгляды улыбками. После этого секретного сигнала, уже расторопно, без просьб и распоряжений, прислужники открывали следующую бутылку. Эта вольность исполнялась с такой невозмутимой доброжелательностью, что если кто-то и решил отужинать, воздерживаясь от возлияний, то не в силах был отказаться от легкого напитка с приятными пузырьками и кивал белоснежной руке, заносящей бутылку для повтора.
Алкогольный градус кардинально менял поведение публики: спиртное раскрепощало спокойных, делало буйных развязными, а от природы фамильярных и крикливых, напротив, приводило в чувства, даря равновесие. Гости забывали о регалиях, делались розовыми и щедрыми и расслаблялись настолько заслуженно и глубоко, что к одиннадцати вечера многих было уже не узнать. Голоса звучали громче, смех становился хохотом. Посетители ресторанов принимались курсировать по залу от стола к столу, превращая два десятка отдельных компаний в одну грандиозную шайку.
Это днем они здоровались еле заметным кивком – теперь же, разомлевшие гости громко радовались друг другу, протягивали и пожимали протянутые ладони.
Упревшие от беганий служаки уже не успевали отзываться на окрики, хотя совсем недавно они еще медлили. Завидя едва заметный кивок посетителя, с достоинством, каким их учили отзываться гостям, официанты неторопливо подходили и тихо осведомлялись о господском требовании. При этом они опускали глаза, выражая гримасой полнейшее почтение. Теперь-то они поглядывали на гостей свысока: дескать, видели бы вы, господа, сейчас свои красные морды и расстегнутые ворота шелковых рубашек.
Взмокшие от коллективного празднества благородные гости смело разглядывали барышень, забыв про почтительность. Они откровенно измеряли каждое наряженное тело, начиная с головы и заканчивая кончиками подола. Возвращаясь к основанию белой шеи, где тугой лиф удачно смыкал любые прелести, они упирались в него любопытными взглядами.
О хитром устройстве корсета знали все, но это лишь добавляло смотрящему азарта. По-мальчишечьи нагловатыми, беспечными взорами свежевыбритые, сытенькие, хмельные моты утопали в упругом дамском декольте. Чувственная ложбинка манила неизведанностью. Прикоснуться к живой реальности соблазнительных мест было еще не дозволено, как и ощутить взлет безумия и счастья или горькое пустое разочарование после их изучения. Вопрос тугого корсетного обмана и спрятанных за тафтой и крепдешином округлостей был к этому часу основным, потому как вероятность прогадать росла вместе с количеством выпитого спиртного.
Ближе к полуночи буйство достигло недозволительной грани. Однако светское общество не переходило пределов благоразумия, оберегая собственные имена от соседства с фразой «возмутительно и безобразно» в завтрашних записках.
Когда по залу прокатился шепот: «Салевич!», гости закрутили головами по сторонам в поисках обладателя известной фамилии. Не нашедши его, господа испуганно стали таращиться друг на друга, разыскивая болтуна, чья шутка для всех разгоряченных тел стала подобна ушату ледяной воды.
Еле заметно дрожа, гости останавливали разнузданную вакханалию и рассаживались. Как по команде, мужчины начинали двигаться так, как если бы хотели занять собой побольше пространства. Они широко расставляли руки и раскатывали плечи. Одни горделиво выпячивались вперед грудь и громко, с сожалением вздыхали. Другие меняли ликование безрадостной маской, выражая полное угнетение новостью. Лица их делались отрешенными, полными размышлений, серьезными. Казалось, все разом начинали испытывать потребность выразиться. Сейчас, в момент невообразимого волнения перед неминуемым, эта горесть помогала в глубочайшем осмыслении жизни и тем отражала душевную глубину.
Дамы же, точно по команде, выдохнули и втянулись, меняя нетрезвые взоры на томные взгляды. Те, кто был поживее, прикрывали веки наподобие ленивых сытых кошек, знающих толк в привлекательном равнодушии и податливой расслабленности.
Женщины усердно кусали губы, наполняя их кровью, а те, что сидели поудачнее, макали пальцы в тарелки с маслом и проводили жирными кончиками по пересохшим устам, оставляя след сладострастия и готовности к любому исходу.
– Салевич, Брон-н-неслав, – выдыхали масленые рты.
Он был высокий, тяжелый и спокойный.
Уверенной походкой Салевич медленно подходил к ресторану по красному коврику, а тот, лаская его большие ступни, отдавался и привораживал, как горячая девица.
За стеклом показалось несколько голов, но были бы не так суровы светские правила, гласившие не выказывать своего интереса, к окну припали бы все, кто чинно сидел по ту сторону.
Дай гостям волю, они стали бы водить по стеклу руками, гребя ладонями образ, а потом слизывать его лик с пальцев или умываться его светом.
Салевич смотрел себе под ноги и, еле заметно переваливаясь на каждый шаг, приближался ко входу. Только возле распахнутой двери он огляделся и спросил:
– «Медина»?
У него был низкий бархатный голос, от которого трепетали дамы, а мужчины тренировались издавать звуки, походившие хотя бы ноткой на мелодию его речи.
Швейцар шарахнулся в сторону, но спохватился и суетливо подбежал к Салевичу:
– Господин Салевич, – поклонился он, – как Вам будет угодно!
– «Медина», я спрашиваю? – Бронеслав повысил голос и нахмурил густые брови на большом открытом ровном лбу. Смерив взглядом швейцара, он дождался от него нервного кивка и сказал: – Хорошо!
Он скинул с себя пальто и не глядя бросил в руки гардеробщика. Тот прижал его к себе, подобно ребенку, бережно держа и покачивая. Прислужник словно позабыл о себе и о том, как дышать или стучать сердцем, и обернулся неподвижным изваянием, источающим тепло и любовь, пособничая этим младенческому сну.
Внутренние двери ресторана распахнулись. Вместе с дымными клубами из затихшего нутра ресторана вышел лощеный невысокий мужчина с гладко зачесанными волосами, в смокинге, черной бабочке и с ярко-красным платочком в нагрудном кармашке. К лацкану его пиджака был приколот золотой значок с чеканной надписью «Ресторация «Медина»».
Достигнув Салевича, он заискивающе залепетал:
– Господин Салевич, счастье «Медине» видеть Вас! Какая радость, Бронеслав Андреевич, не верю, не верю глазам, – метрдотель развел руки и превратился в растерянного мальчишку. Через секунду его наигранная растерянность сменилась азартом, и он картинно прижал ладони к груди.
– Сперва подумал: ошибка, но как глянул за окно – зажмурился. Вроде как полумрак рассеялся, и за окном солнечный полдень…
– Полно, – прервал Салевич его любовный трепет и протянул широкую ладонь, которую тот схватил, подобно счастливой находке, и мелко затряс.
– Вы к нам отужинать? Выпить? Выбрать усладу? Просто глянуть, как мы себя радуем?
Поэт молчал, сохраняя при этом невозмутимость. Его сдержанность могла показаться безразличием, каким выученно болели все светские люди, если бы не одно существенное отличие: тоскливая отрешенность не была модным явлением. За равнодушием скрывалось глубокое чувство потери и холодной пустоты.
Метрдотель скис и, робко пододвинувшись к гостю, приподнялся на носки и громко зашептал:
– Плохо веселимся, скучаем, нет утешения, всё серо и одинаково, – сказал он застенчиво, будто выдал большую тайну, – а тут еще праздники, да и они все безлики. Как, знаете, – он махнул рукой, – как если бы гирлянды не красили, а так и оставляли фабричными матовыми огоньками. Вот и у нас всё так же.
За его спиной из зала послышалось унылое, затянутое на одном тоне скрипичное соло. Сквозь открытые двери виднелся горестный скрипач с закрытыми глазами и вытянутым к подбородку лицом. Рядом с ним переминался тенор, который десятью минутами до этого ухал «Дубинушку» и срывался с постамента в зал, готовый вцепиться в плечо большого бородатого господина. Тот с самого первого такта стоял рядом со сценой, но, вместо того чтобы продолжать внимать звукам и, как раньше, раскачивать огромное тело и бросать в ноги сорванную с головы незримую папаху, крякнул, развернулся к столу и, не дожидаясь помощи, налил себе водки.
Певец, завидя, как гости разом прильнули к тарелкам и, словно примерные школьники, покосились вбок, растерялся. Он смотрел на десятки испуганных глаз, взирающих на что-то неясное, но дарящее мир и прилежность. Можно было бы предположить, что в углу размокали ивовые розги, напоминая о судорогах и дрожащем голом заде, по которому хлестко и обидно взвывают гибкие прутики.
Не поняв произошедшего, тенор подумал, что его голос плох, а сам он нелеп и смешон, чем и отпугнул восторги и подпевки.
– Любезный Бронеслав Андреевич, – жарко шептал лощеный возле самого его уха (можно было подумать, что Салевич – его ближайший друг, у которого тот просит дельного совета), – гляньте сами? Отвратительная невеселость, плакать, а не зрелище!
Метрдотель отодвинулся от входа и, подобострастно кланяясь, почти закричал:
– Вот теперь-то радость! Душе праздник! Не скрыть восторга! К чему шампанское? От Вас во хмелю! Ах, ну что за день сегодня – чудо, а не день. С утра знали: что-то будет! Вдохновением одаренный, великий Вы наш, батюшка. Счастье «Медине», счастье нам!
Салевич помрачнел и с большим недовольством зашел в ресторанный зал, отрезая путь к свободе всем, кто был внутри.
Не замечая, как от радости сидящие низко задышали и зашипели «Салевич… Бронеслав», он подошел к свободному столику, расчищенному для него за эти минуты, и сел.
Публика, хватая воздух, беззвучно открывала рты. Застывшие на лицах изумление и радость делали людей похожими: обессилевшими и тихими.
Поэт смотрелся как остров с маяком посреди океана: такой же незыблемый и занятый миссией.
Государев любимец взял в руки страницы меню, но сразу же потерял к ним интерес и отбросил. На его большом лице появилась волна морщин и, скользнув по лбу, приподняв густые брови, пропала в густой шевелюре. Он сощурил светлые глаза и громко втянул в себя воздух, как при питии чего-то обжигающего. Сомкнув ладони, Салевич стал тереть их друг о друга, словно ему было зябко или он готовился к решительному шагу и так соприкасался с внутренней пружинкой, которая приводила в движение его большую душевную массу для рывка.
– Несите любое, – махнул он рукой официанту. Тот отвлеченно заводил подбородком по сторонам, как это было им выучено, поскольку не следовало мешать обдуманному выбору господ своим нетерпеливым взглядом.
– И вот что, – он подманил официанта ближе и вполголоса, кивая на пустующий стул рядом, серьезно попросил: – Пригласи-ка Степана.
Не прошло и пяти минут, как стол был заставлен тарелками и блюдцами.
– Степана не имеем, – скороговоркой выпалил прислужник – смуглый невысокий парень с темным внимательным взглядом и темными волосами, зачесанными за длинные, чуть выпирающие уши. Он вытянулся в струнку и, плотно прижав к себе оба локтя, отвел взгляд от поэтовского лица, как было положено правилами.
– Ответ неверный, уважаемый Саша, – спокойно ответил Бронеслав, присмотревшись к золотистой табличке с именем.
– Слушаю-с, – Саша поклонился и исчез за двустворчатой кухонной дверью, откуда спустя секунду выбежал метрдотель и, всплеснув руками, нежным баюкающим голосом, залепетал:
– Ах, какой у Вас утонченный вкус, господин Салевич! Я снова восхищаюсь Вами! – вскрикнул он, обводя любовным взглядом закуски на столе. – Что еще мне для Вас устроить?
– Степана, – Салевич кивнул на стул и резко добавил: – Сейчас.
– Ах, какая усмешка! Какая милая хохотушка! Нет ни одного Степана, – заискивающе пролепетал лощеный и, кланяясь, заулыбался.
Поэт небрежно глянул в его сторону, показывая равнодушие к его угодливости и отвернулся.
– Да если бы знали, да если бы кто подсказал, брали бы работать только Степок!!! – растерянно заговорил метрдотель, – всех бы звали Степками да Степанидами. Ну, я-то? Я-то уже Степан! Присяду? – он сделал шаг к стулу и попытался усесться, но неловко застыл на согнутых ногах, зависнув над сиденьем: – Присяду, да?
– Не разводите философий, любезный, – остановил его Салевич, ухмыляясь, – работает у вас Степан, доподлинно знаю, искать!
Лощеный выпрямился, закивал и быстро удалился в сторону кухни, сопровождаемый тяжелым поэтовским взглядом.
Гости, увидав оборот гневного обожаемого лица, мгновенно ожили:
– Аааааа, – донеслось отовсюду.
Поэт хмуро кивнул и, облокотившись на стол, сгреб большими ладонями в гармошку белую скатерть.
Наблюдающие за ним сразу же вняли его жесту: одернув ручонки, гости водрузили кулачки на застеленную поверхность копируя скатерную волну.
Даже самые дальние столики, что, казалось, не могли видеть его движений, и те смяли ткани, а кто-то в особом усердии попытался сгрести все салфетки и подложить их под кулак, чтобы сделать волну грубее.
Не успел Бронеслав схватить стоящий рядом графин, как из-за его спины запотевшую емкость выдернула рука в белоснежной перчатке и налила в стопочку прозрачной, чуть тягучей жидкости.
Отовсюду послышалось бульканье.
– На здоровье, – поднял рюмку Салевич и выпил.
Сидевшее сборище отозвалось десятками «многих лет», но фразы, спотыкаясь о великого Салевича, не завоевывали его внимания.
– Господин Салевич, Степанов нету, – шепнул метрдотель и дернул плечами так резко и быстро, как если бы был привязан ниточками, за которые потянул кто-то невидимый, – есть один ущербный, он у нас посуду моет, но разве то Степан? Так, Степашка безродный. Пожалели паренька, взяли в услужение.
Выслушав это, Салевич тотчас смягчился и с улыбкой ответил:
– Его!
Спустя полминуты со стороны кухонных дверей показался официант, ведущий под руку щуплого сутулого паренька. Поверх несвежей рубахи на парнишке болтался белоснежный передник. Наспех надетый фартук был не подвязан и колыхался посередине тощего тела. Степашка был молод, но уже несвеж и замызган. Типов, как он, облезлых и грязных, в столице было с избытком. Но если бы кто-то особо чуткий проявил любопытство и внимательно разглядел Степку, то заметил бы странность: лицо его было… будто не его. Такие лица не подходили подобным облупленным личностям. У него была вытянутая голова, с высоким, но уже исполосованным множеством морщин лбом, острым, раздвоенным ямкой по центру подбородком, сжатым маленьким ртом, ясными, большими, но сердитыми глазами, поверх которых были усажены густые светлые ресницы и такие же рослые брови.
Всё выглядело живописно. Невольно верилось в то, что если бы его отмыть и облагородить, то смотрелся бы Степка не хуже любого господина. Во взгляде этого неряшливого человека была та самая настоящая отчужденность, селившаяся при большом банковском счете. Всё в нем уверяло в упрямстве и скрытом, только ему понятном мнении.
Невзирая на сутулые плечи и телесную слабость, Степашка не выглядел никчемным или жалким. Он пинком отодвинул стул и уверенно сел напротив Салевича; легко нарушив все правила этикета, он поставил на стол локти, а затем и вовсе, откинувшись на спинку, развалился на сиденье и не мигая уставился в благородное лицо литератора.
Салевич тоже не отводил взгляда и точно так же, не мигая и не переминаясь, смотрел на Степана в упор.
Так они сидели долго, пока посудомойщик вызывающе не хмыкнул.
– Чего тебе? – спросил он, бесстыже мотнув головой.
Публика волновалась: люди рассматривали странное соседство и шепталась. Из глубины ресторана послышался всхлип и сдавленный, но достаточно громкий шепоток: «Вот это случай! Вот так эпизод…»
– Поешь, – сказал Степану Салевич с улыбкой, сопроводив слово дозволительным наклоном головы.
Тот на еду не бросился, как, вероятно, мог бы, а ехидным взглядом осмотрел миски и вырвал ветку укропа. Громко втянув в себя укропный запах, он кинул зеленуху на стол.
Слыша за спиной неугомонный ропот, он глянул за спину и, придав помятому лицу язвительность, лениво налил себе водки. Под всеобщий гул неодобрения, не торопясь, повернувшись к публике вполоборота, так, чтобы его поступок был хорошо виден, он выпил.
Обтерев губы рукавом, он громко икнул. Кто-то из гостей пугливо и коротко вскрикнул. Повинуясь разлившемуся внутри теплу, он улыбнулся, вдохнул запах рукава, издал одобрительное «хэк» и дозволительно кивнул.
Салевич придвинулся и стал тихо что-то говорить ему, а Степашка отвернулся и принялся выдергивать из скатерти махровые нитки. Бронеслав Андреевич имел самый живой и заинтересованный вид, посудомойщик же, напротив, был равнодушен и как будто даже непричастен к разговору.
В какой-то момент Степашка начал отвечать. Чем больше он издавал звуков, тем больше суровел и желтел. Его глаза стали узкими, взгляд – тяжелым, а подбородок – острым, напоминающим раздвоенный конус вместо мягкой пухлой булочки с точкой по центру.
В зале сделалось тихо: позабывшие о долге официанты застыли, музыканты сгрудились на краю сцены, дамы повставали и робко зашагали, пробираясь к столу. Но, как бы они ни старались уловить движения губ и предположить, о чем толкуют сидящие, сделать это не выходило.
– Поди, – метрдотель ткнул официанта в плечо, – поменяй тарелки.
Лощеный стоял, вытянув шею и приподнявшись на носки. Испытующим взглядом он целился в спину служаке, пока тот суетливо расставлял у стола посуду.
– Поликарп Ильич, услышал! – выдохнул Саша дрожащими губами спустя минуту.
– Что?
– «Ты мне блудняк не лей», – пересказал Саша, – дальше что-то невнятно, а потом «закругляй блевотину».
Поликарп дернулся, будто получил знатный подзатыльник, и выставил вперед руки. Желая схватить Салевича за лопатки и выдернуть из-за стола и так спасти, он сделал шаг вперед, но отпрял и вместо этого уцепил официанта за ворот и рывком притянул к себе:
– Глянь ему в лицо, – потребовал он и с силой вытолкнул паренька из укрытия, а сам, спрятавшись за занавеску, выставил наружу голову. Глядя на его несчастное лицо, можно было подумать, что у него только что скончался любимый дядюшка, учивший его в детстве рыбачить и запрягать кобылу; нерадивый племянник, знавший, что тот на исходе, не поехал к нему в последние дни жизни, соврав про неотложные дела; сейчас же, узнав о его кончине, родственник выражал собой скорбь, раскаяние и виноватость.
– Он улыбается, а тот «лезешь мне под шкуру» и еще добавил «вертилом не дергай», – отчитался Саша и скуксился, глядя на проступившие слезы начальника.
Поликарп схватился за сердце и, пошатнувшись, сел на лавку. Его колени мелко подрагивали, а лоб покрылся испариной. Он прерывисто дышал и трясущимися пальцами отодвигал ворот, туго перехватывающий красную шею.
– Поди, поди к нему, Саша. Не своди глаз. Если захмурится, сразу вернись, – велел он парню.
– О я, бедняга, – Поликарп закатил глаза и стал раскачиваться, держась за колени мокрыми дрожащими ладонями, – надо же так попасться, так оконфузиться. Нелепый, нелепый конец! – горло перехватывало, выдавая сип, – позором покрылся – не отмыться. Как же он в меня въедет? На всю Россию-матушку впишет да мордой окунет в трясину, под забор скинет, в яму, в могилу, – всхлипывал мужчина, – и поделом мне, да, – кивал он, – есть грехи, пусть распнет, он знает лучше. После его суда прочий не строг. Господи, помилуй мя грешнаго.
– «А ты мурлычь, мурлычь», – прошептал в занавеску Саша. В ответ послышались сдавленные всхлипы.
– Бронеслав Андреевич пьют чай. Попросили принесть сахару. Доброжелательно попросили, сказали «пожалуйста» и назвали «Сашей». Я и принес, и он откликнулся, «спасибо», говорит, «идите».
Заплаканное лицо, растратившее гладкость и почтительную улыбчивость, пронзило занавеску.
– Он что? – переспросил метрдотель, приглаживая рукой взлохмаченные на макушке волосы.
– Чай пьют, головой водят и будто сидят, что-то пишут в блокнот. А так-то больше ничего, сидят, хрумчат сахаром и записывают. Уже четыре куска, – отчитался Саша.
– Беги в музыку, пусть поют ему.
Саша бросился к сцене и, схватив певца за шею, зашептал ему на ухо.
– Очи черныя!!! – завопил певец, едва Саша отпустил его голову.
В напряженной тишине зала слова прогремели, как грохот выстрела. Люстра на потолке задрожала и отозвалась тенору перезвоном хрустальных абажуров.
Мелодия любовного романса заполнила «Медину».
– Очи страстныя, очи жгучия, – надрывался музыкант.
– «Баба твоя черноглазая? Значит, шалава!», – отчитался занавеске Саша, повторяя слова Степашки.
– Ох, пропади всё пропадом, – крикнул Поликарп и, подбежав к сцене, подпрыгнул и замахал певцу, но тот, закинувшись, водил головой по потолку и ничего не замечал.
– Замолчи!!! – выкрикнул дрожащим голосом Поликарп, но музыка продолжалась, скрыв его душераздирающий раскат.
– Господин Салевич, – надрывно расхохотался лощеный, переместившись к столу поэта и махая рукой на сцену, – не слушайте Вы его, ерунду поет, маета одна. Репертуар дрянной! Певчик-то новый, заместо нашего, третьего дня служит, еще не втолкует, что можно исполнять, а что – не надобно.
– Пусть баюкает, – Салевич мечтательно прикрыл веки и разнежился, закинув за голову большие руки.
Степашка, щербато улыбаясь, продолжал:
– Так мы его и отоварили, он же каторжный, бегляк.
Он развязно загоготал и ударил ладонью по столу, опрокинув наполненные рюмки на стол. Слизнув капли, попавшие на руку, Степашка развеселился еще больше и, взявшись за графин, плеснул водки в ладонь. Припав к ней губами, он громко втянул в себя жидкость, как утомленный долгими скитаниями путник, напившийся из собственного ручного черпака ключевой воды.
С ужасом в глазах Поликарп схватил его за локоть и потянул в сторону двери, а тот, еще громче рассмеявшись, приобнял его, как доброго друга, и похлопал по круглой гладкой щеке. Метрдотель брезгливо вздрогнул и дал посудомойщику хорошую оплеуху.
– Позвольте, уведу? И тут же другого Степана предоставлю, еще лучше прежнего. Прилежного, нежного, учтивого, – торопливо глотал слова Поликарп и, перехватив Степку за воротник, с силой тряхнул, отчего тот повис в собственной одежде и радостно пьяно сник.
– Полно трепыхать. Хватит на сегодня. Всё, неси расплату.
– Какая расплата, Бронеслав Андреевич, всё «Медина» покроет, всё «Медина». Радостью снизошли, уважили, почтили, благодетель Вы наш, – приговаривал управляющий, меленько перебирая ногами, едва успевая за Салевичем к выходу.
Он выбежал за ним следом на улицу и, встав ровнехонько, так чтобы не заступать на красный палас, наклонился и вытянул руку в сторону открытой повозки.
– Уж не гневайтесь, что не так, всё исправлю, всё учту, – жалобно продолжал говорить управляющий.
Салевич остановился посередине дорожки и достал из-за пазухи блокнот. Проведя по записям взглядом, он досадливо усмехнулся и с горечью в голосе громко заговорил:
– Я люблю, а не любим, сумасшедший, неприличный,
Я за ней, она за ним – куколкой тряпичной.
Я гора, а он босяк, точно: тут он лишний,
Не дышу я, полный мрак, рассуди, Всевышний.
Приклонюсь я головой, ты – моя царевна.
Отчего гоним тобой, тошно и надменно,
Горе, горе мне, услышь, вразуми, Создатель,
Волком вою, не могу разомкнуть объятий.
В западне я, обмелел, брешь во мне! Довольно!
Боже, забери к себе или делай вольным,
Гасну я от тьмы ее, нет любви, презренье,
Заволочен, захламлен, нет душе спасенья.
Я отвергнутый изгой, я тобой наказан,
Я тобою опленен и тобою связан,
Тянет в петлю, рвет курок, я готов к мытарствам,
Вдохновенья Божий дар для меня стал рабством.
Я, как нанятый, плетусь мнимым звуком в омут,
Ради нежных фраз мирюсь с грязью в горле комом.
Убивает тишина и игра в молчанку,
Немоты внутри война завела шарманку.
Не любим я, не любим, что за наказанье?
Пробираться через смрад к неизбежной грани,
Я измученный монах, облаченный в схиму,
За бесову болтовню я давно судимый.
Я согреть ее хочу, нет в желанье меры,
Без нее моя любовь – грешные галеры.
Дай же шанс, к чему упрек? Или нет значенья?
Я твой раб, твой сын, Ты – Бог, я прошу спасенья!
Не успел Салевич закончить, как грохнули крики. Обступившие его люди прижали Поликарпа совсем близко, почти вмяв в подол кашемирового пальто. Толпа гудела и восхваляла поэта нежными словами и ликующими возгласами. Публика кричала так громко и неистово, что почти глохла от своей любви и восторженного лая.
Салевич стоял в окружении десятка вытянутых ему навстречу ладоней. Стараясь дотронуться до его одежды, словно одежда была реликвией или артефактом, коснувшись которого следовало ждать, как снизойдет наивысшая благодать, люди теребили кончиками пальцев и вытягивали вперед руки. Салевич стоял, как непоколебимый утес. Он был невозмутим и спокоен, принимая человечьи попытки, как навязчивую щекотку.
– Это Салевич, САМ Салевич, – кричали отовсюду.
– Смотри, смотри, какой он… глянь, какие у него руки и пальто, – любовались люди.
– Как он смотрит!!! Только представь, как смотрит!!! На кого?
Возвышаясь над толпой на целую голову, Бронеслав рассматривал, как слева человечье сборище упиралось в стену здания на углу Невского, а справа – в решетку огороженного особняка.
– Мы любим тебя, Бронеслав Салевич, – выкрикнула женщина лет двадцати пяти в теплом пальто и пестром платке на голове. Она подпрыгивала, задрав руки над головой, как если бы держала плакат с надписью «Галоши. Резиновая мануфактура. Полное ручательство за доброкачественность» и примерялась повесить его на проезжий столб.
Казалось, все эти люди испытывали теперь, остановившись посреди улицы, в темноте осеннего вечера, одно и то же чувство невероятного пробуждения. Те, кто расслышал четверостишья и рассмотрел окончательный жест тяжелого движения его головы, упавшей на грудь в конце трудных строф, смотрели теперь одинаковыми смутившимися и сладкими взглядами.
Люди, затаившись, внимали каждому вздоху поэта и старались всё запомнить, чтобы разобрать стихи на строки и разнести их перепутанными фразами по городу. Жесты же копировались и неумело повторялись, убеждая себя в том, что этот острый взгляд и хмурая волна бровей – такая же, как у Салевича.
Из толпы вышел человек высокого роста, с мохнатыми усами. Его держали за плечи двое невысоких господ, не пуская подойти ближе, а он, недовольно хмурясь, отбрыкивался и переступал с ноги на ногу.









































