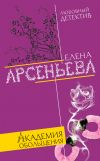Текст книги "Самозванец. Кровавая месть"

Автор книги: Станислав Росовецкий
Жанр: Боевое фэнтези, Фэнтези
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Глава 21
На исходе последней ночи
Отец Игнаций выпрямил спину и, по-прежнему свирепо взирая на реденькую бородку Спирьки, заговорил – со стороны поглядеть, так совершенно бесстрашно:
– А надо было натаскать сюда побольше сена и завести лошадей, занести кладь с повозки. Заставить этого недочеловека… лучше сказать преадамита… выкатить бочонок с вином наверх и хорошенько наверху протопить, потом связать его и шинкарку, а самим обосноваться на втором этаже, в горницах. Во входной двери вырубить бойницу и выставлять дозорных именно там, в сенях.
– Позор на мою седую голову, позор! – прорычал пан Ганнибал и вдруг расхохотался. – Прямо-таки замечательная диспозиция, святой отец! А когда это ты успел обучиться военному искусству, если не секрет?
– Просто я читал Юлия Цезаря, Тацита и Светония, пане ротмистр, – объяснил польщенный иезуит, наконец-то прямо взглянул на пана Ганнибала, точнее, на его длинные седые усы, и тот увидел, что глазки у святого отца покраснели, как у кролика. – Словно пчела мед, я выискивал в их книгах крохи военной мудрости.
– Цезаря знаю, про других названных тобою полководцев, скажу честно, и не слыхивал, – пан Ганнибал еще раз огляделся, обнаружил теперь свой палаш, сходил за ним, вставил в ножны, вернулся за стол, а во время этих манипуляций убедился, что руками владеет, в ногах вот нетверд. – О чем бишь я? Ах да, это ты о чем-то говорил, святой отец…
– Я говорил о том, что я мудр, хоть у меня и внешность серой мыши. Я, пане ротмистр, подготовил себя к великим делам. Я уверен, что ты беседуешь сейчас с будущим провинциалом ордена Иисуса в Московии. Кому же еще, как не мне, занять этот пост? Как только я передам послание царевичу…
– Эй, я же просил говорить понятно! Что еще за «провинциал»? Слыхал я, как столичные шпыни-краковьяне обзывают нас, самборцев, провинциалами, а ты о чем?
– Это большая тайна, но, поскольку я уже решился доверить тебе, пане ротмистр, послание… Нашим орденом управляет отец генерал, а в каждую страну, и в Речь Посполитую тоже, он назначает местного начальника всех действующих там братьев, вот таковой и называется у нас отцом провинциалом, а ежели точнее, так praepositus provinciae…
– Я же просил!
– Имен, заметь, я даже тебе не называю… Отцу генералу и отцу провинциалу самим нашим Господом и святейшим отцом папой дана власть распоряжаться мною, как кадавром… то есть как бездыханным трупом. А я хочу получить такую власть над всеми иезуитами, кои будут действовать в дикой Московии. Как только я вручу послание его царскому величеству, я стану его тенью и нижайшим слугою, а там, Бог даст, и наперсником. Я добьюсь, что царевич станет доверять мне, как самому себе, а я буду неутомимо вращивать… взращивать семена святой католической веры, посеянные в его душе обращением из схизматиков. И постепенно я добьюсь разрешения вызвать в Московию сотни моих братьев по ордену Иисуса, и безбожная, невежественная страна покроется сетью наших школ, коллегиумов и дортуаров. Мы обратим в истинную веру сначала бояр, потом тамошнюю шляхту, а тогда уже купцов, всякую городскую сволочь и пахотных мужиков. Последних попов-схизматиков, отловив в дальних лесах, будем водить по улицам на цепи, как медведей! И кого же тогда, пан ротмистр, святейший наш папа посоветует отцу генералу назначить провинциалом Московии, а? Кого же еще, как не меня, пане ротмистр, сегодня незаметнейшего из братьев ордена Иисуса… Я сказал. Amen.
Крякнул пан Ганнибал и поискал глазами слугу. Плюгавец дремал стоя, вжавшись в темный угол. Жбан стоял на столе.
– Гей, служник! – загремел старый ротмистр. – Долей наши кубки, пся крев! А если посмеешь сказать, что вино кончилось, мы твою кровь пить станем!
И подмигнул отцу Игнацию. Тот икнул и, оценив шутку, хихикнул. Тут же красное лицо монаха размякло, он скривил тонкие губы и заплакал беззвучно. Снова икнул, шумно сглотнул и поведал плачущим голосом:
– Я все ждал, когда ты скажешь, старик, что надо сначала эту ночь пережить… Думаешь, я не понимаю? Похоже, ты любимец богомерзкой и тупой Фортуны… Из тех, кто войско теряет, а сам спасается… Наберет новых солдат и снова геройствует… Прошу тебя, если меня убьют, возьми у меня послание от нунция Рангони и отвези его царевичу Димитрию. Обещаешь, пане ротмистр?
– Клянусь… коли жив буду! Ранами Господа нашего Иисуса Христа клянусь! – ударил себя в грудь старый ротмистр. – Только скажи мне заранее, где ты послание прячешь, откуда мне его с твоего мертвого тела доставать?
Багровое, налитое кровью лицо иезуита вдруг побледнело, и он неловко показал себе на грудь:
– Здесь послание. Здесь, где сердце.
Пан Ганнибал кивнул. Потом проследил, как заспанный слуга наливает вино из бочонка в жбан, а из жбана в кубки.
– Ты и немцу долей, ему потребуется подкрепиться, когда очухается. А ты, святой отец, не желаешь ли составить Георгу компанию? Ведь в клетку, помнится, еще одна птичка залетела…
– А что? Я бы не прочь, если б не ты в свидетелях, – ухмыльнулся отец Игнаций и погрозил пальцем. – А то еще потом мне на голову сядешь, начнешь из меня деньги тянуть. И не подумаю!
– Ты о чем это, монашек?!
– А я разве не сказал? Ты же будешь начальником стражи у меня, в московской моей резиденции. Большая честь!
До того изумился старый ротмистр, что даже немного протрезвел. И припомнились ему молодые и дерзкие шляхтичи, не один такой припомнился, тоже вот так, хлебнув лишнего у костра, не потаивший намерения дослужиться до коронного гетмана или завоевать Крым. Многие из таких столь спешили отличиться, что погибали еще до завершения кампании, и хорошо, если попадали в братскую могилу, а не оставались валяться в поле, добычею волков и стервятников. И уж точно никто из них на памяти старого ротмистра не выслужился в полковники, а о Крыме что и говорить… Вздохнул тяжко пан Ганнибал и решил, что пора заканчивать застольную беседу и устраиваться на ночлег. А иезуиту, напротив, хотелось еще поболтать.
– Та, вторая, проворная такая, резвушка, – вздохнул он. – Твой покойный слуга, Тимош, вечная ему память… Он где-то видел ее лисью шубу. Теперь и мне уже кажется, что тоже ее видел, шубенку… Так тебе понравилась моя… как это?.. Диспозиция? Очень, очень мне сие приятно, пане ротмистр…
– Да, я сказал, что твоя задумка хороша. И я поступил бы точно так же, если бы мы находились на вражеской земле. Однако хозяйка корчмы готова глаза выцарапать за царевича Деметриуса, более того, он даже соизволил на днях разделить с нею ложе…
– Да неужели? – скривился отец Игнаций. – С этой простушкой?
– Его величеству виднее, – пожал плечами пан Ганнибал. – Не наше это дело, ведь правда? Но поскольку царевич воюет тут неподалеку, то, глядишь, еще и вздумает послать за нею (чем черт не шутит?), чтоб развлекала его в лагере. Вот я и приказал Георгу вести себя с корчмаркой осторожнее. И представь себе, что мы сразу связали бы хозяйку и этого слугу. Тогда не видать было нам вкусной горячей похлебки и вполне приличных битков на ужин.
– Почему же я не знал о прихоти царевича?
– Да потому, что ты, святой отец, и лошади своей не расседлав по-человечески, бросился на кровать и спал до ужина, как мертвый. Покойный Каша (надеюсь, что парень легко умер) в то время занимался лошадьми, а Тимош стоял в дозоре. Мы же с Георгом отправились на кухню. Меня привлекали туда блюда, что там готовились, а немца – корчмарка. Однако стоило мне услышать о благосклонности к ней царевича, как я отозвал Георга в сторонку и втолковал ему, чтобы оставил с этой прелестницей свои обычные замашки, а поладил с нею по-доброму, по взаимному согласию.
– Это Георг? – фыркнул монах.
– Вот-вот… Боюсь, что хозяйка запрется от него, а двери я запретил ломать. Парень там, на кухне, пытался поухаживать, а для того втолковывал корчмарке, чуть ли не на пальцах, как именно он, на пару с бедным Гансом, обходился с девками, – я так и не понял, о продажных шла речь или о пленных. В его годы я, святой отец, о таких гадостях и понятия не имел.
– Да, не обучен парень увиваться за бабенками. Даже я, монах, знаю, – тут иезуит громко икнул, – что это настоящее искусство, о котором Овидий написал целую книгу.
– Правда? Брехун, видать, какой-нибудь… Теперь я хотел бы сказать о наших конях и о дозорных. Если нам с Георгом удастся разогнать на рассвете последнюю лесную сволочь, мы либо отобьем у них всех наших лошадей, либо заберем себе кобылу и мерина, что стоят в конюшне. Найдем под домом мою повозку, в нее мерина запряжем, а нет, и без нее до лагеря доберемся. Немец пешком, а мы с тобою, отец провинциал, верхом.
– Скажи лучше, будущий отец провинциал, а еще лучше: praepositus provinciae probabilus, то бишь возможный, вероятный отец провинциал…
У пана Ганнибала зашумело в голове, а в сердце больно кольнуло. Он замер на мгновение, прислушался к себе. Да нет, прошло… Однако пора уж и отдохнуть. Он переборол желание прикрикнуть на безумного монашка и обратился к нему, тщательно выбирая слова:
– Тебя послушать, святой отец, так я нарочно отправлял своих людей на смерть. Ты просто не понимаешь, какая необходимая вещь на войне дозор. Да я сам в молодости, когда был простым гусаром-товарищем, десятки раз стоял в дозорах, охраняя роту от внезапного нападения, однако жив ведь остался, как видишь!
– У тебя сердце прихватило, пан ротмистр? – пригляделся к нему иезуит сочувственно. – Я бы мог пустить тебе кровь…
– Пустое, святой отец, – пан Ганнибал отмахнулся от него небрежно. – К тому же, если пустить сейчас кровь, из меня вино потечет. Уж лучше чуть попозже мы с тобою выйдем в сени и вместо кровопускания сотворим мочеиспускание. Тоже полезно… А почему дозорные на обычной, человеческой войне остаются живы, поднимают своих по тревоге и укрываются в лагере? Да просто потому, что вражеское войско не может подойти незамеченным к дозорному, если он честно несет службу и не спит на посту. Днем над войском поднимается пыль; это если летом, а зимой над людьми и лошадьми стоят белые облака пара. Лошадей нельзя заставить замолчать, они ржут, а ночью к тому же очень далеко слышно, как скрипят колеса повозок и пушек, как стучат подковы коней и сапоги пехотинцев. В общем, ты понял меня… Иное дело, что у нас сейчас противник не обычный, не человеческий – черт его знает какой! Русский лесовик, который швыряется бревнами и отводит глаза, великан, воняющий мертвечиной, прочая нечисть. И нападают только подло, только из-за угла, стреляют только в спину, пся крев! Вот товарищи и погибли. Однако я кое-что еще, святой отец, приметил…
Пан Ганнибал склонился над столом в сторону отца Игнация и поманил его узловатым пальцем к себе. Прошептал:
– Первыми погибли самые ярые, нераскаянные грешники. Те, кто на том проклятом хуторе лютовали больше других, разве я не прав? И еще, того кроме, жулье, обманщики – те беглые надворные казаки князя Острожского, выдававшие себя за запорожцев. Будто я настоящих запорожцев не видал!
Иезуит опять побледнел, потом снова побагровел. Кивнул на беззаботно спящего Георга и зашептал еще тише, чем пан Ганнибал:
– Почему же тогда этот безбожный лютеранин еще жив?
– А разве ночь уже закончилась? – сверкнул глазами ему навстречу пан Ганнибал. – Впрочем, кое-что из твоей задумки стоит применить. Эй, ты, недоумок со жбаном! Ты, недоразумение Господне! Давай сними с пояса у пана, что на полу лежит, смотанную веревку – и на стол! А потом отвяжи с него кирасу (доспех, понял?) и почисть. А мы пока со святым отцом в сени прогуляемся.
Поднялся на нетвердые ноги отец Игнаций, пошарил-пошарил глазами по столу – и вдруг отшатнулся от Спирьки:
– Он нож со стола украл! Поберегись, пане ротмистр!
Пан Ганнибал правой рукой взял слугу за шиворот и отодвинул от себя, левой смахнул со стола объедки и поднял нож, оказавшийся под пустым оловянным блюдом.
– Ишь ты, не украл… Но мы его, паршивца, все-таки свяжем (это ты, святой отец, славно придумал) и уложим наверху под нашей дверью. От греха подальше. Ладно, допиваем и пошли, святой отец.
Наверху подруги услышали, как грохнула дверь, и снова замолчали. Вот дверь снова стукнула, внизу еще потоптались, опять загрохотали, но как-то с заминкой, по лестнице сапоги, донеслась польская шершавая речь…
– А если, Анфисушка, мне встать и придержать дверь спиной? – шепотом предложила Зелёнка.
– Не стоит с этим торопиться, они сначала стучать будут, – Анфиска зевнула, прикрыв рот ладошкой, чтобы бес не залетел. Хотя… есть ли ей смысл бояться такой напасти, если делит ложе с лесной бесовкою?
– Тебе виднее, подруга.
Между тем невдалеке от них шум продолжался. Дважды брякнул засов. В дверь к подругам по-прежнему никто не стучал.
– Они спать укладываются, – уверенно заявила шинкарка. – В лучшей горнице, без дыма. Там двое поляков, немца с ними нет.
– Твоего этого немца, Георгия, я все равно порешу вот этими руками, – Зелёнка выпростала из-под одеяла и неизвестно для чего осмотрела свои бледно-зеленые ручки. – Мерзавцу не жить. Отольются кошке мышкины слезки!
– Тогда Георг расплатится за сотню, а то и за тысячу других таких солдат. Ты бы видела, с какой гордостью он рассказывал о своих, вместе с этим его другом, гнусностях… Правило войны, слышь ты! Будто даже закон войны… Кому нужен такой закон, чтобы сильным и с оружием измываться над слабыми и беззащитными!
– Так бы их всех, наглых усачей, и разорвала!
– Тихо ты!
Шинкарка прислушалась. В горнице вроде успокоились, только в проходе перед ними слышалась слабая возня и ругань шепотом.
– Угомонились, оглоеды, – шинкарка снова прижалась к подруге и вдруг замурлыкала. – Ты напряжена, словно лук… Расслабься, отдохни со мною, коли уж выдался часок… Нет, уж лучше бы я тебе о немецком хвастовстве вовсе не рассказывала! Мне показалось было… да нет, это уж точно… В общем, ты, как я тебе кое-что из того показывала, что обыкновенно меж мужиком и бабой происходит, повела себя так… Ну, вроде тебе любопытно стало.
– Еще бы не любопытно было бы мне, невинной девице! Кое-что и до сих пор в голове не укладывается.
– И ты вроде и ко мне, подружка, стала нежнее, добрее…
– Да, наверное. Я даже подумала, что, если была бы у меня матушка, а еще лучше сестрица, я бы точно так же приходила бы к ней и забиралась бы под одеяло поболтать. А ты еще такая мягкая, сдобная, душистая…
– Только-то и всего? – вздохнула полупритворно шинкарка. – Нет чтобы сказать: «Ты, Анфисушка, – красавица, умница… Давай с тобою еще поцелуемся».
– Отчего ж не поцеловаться? – И Зелёнка, повернувшись к подруге лицом, натолкнулась на ее горячие мягкие груди и живот. Ей стало жарко и вдруг захотелось на свежий воздух, поэтому она не подоткнула за спиной одеяло. – Я же видела, как целовались сельские девки на Семике. Как-то раз нарочно очень далеко ходила, до ближней деревни, до Зиново почти лесом пробиралась, чтобы из чащи с дерева подсмотреть, как они там празднуют. Очень красиво целовались – через кольца, из березовых веток вывязанные. Поцелуются и, значит, становятся кумами на целый год, до следующего девичьего праздника… Эй, так мы с тобою теперь кумы?
– Ну, если хочешь, будем кумами…
– А что до твоих рассказов, Анфисушка, то я тебе честно скажу, что кое-чем они меня обидели. Выходит, что и люди так же сочетаются, как медведь с медведицею, – велика честь, ничего не скажешь!
– А ведь я тебе и другие способы любиться показывала…
– Все одно ведь грязные дела какие-то… И стыдные, ты уж меня извини. Может быть, с непривычки? – Она помолчала. – Послушай, а где у тебя стоят румяна и белила? Показала бы, пока лучина не догорела.
– Да вон в тех горшочках, видишь? На самой верхней полочке. А что тебе лучина? Станет догорать, другую вставим.
– Не нужно, Анфисушка! Мне нужно не пропустить, как светать станет. Петуха, ты ведь говорила, вы со Спирькой съели?
Лучина догорела-таки, затрещав и вспыхнув напоследок, и в каморке стало совсем темно.
– Послушай, – спросила шепотом шинкарка. – Неужели тебе, когда мы с тобою играли в мужика и бабу, так-таки ничего и не захотелось?
– Захотелось мне, – Зелёнка потупилась, чего в темноте ее подруга увидеть не могла, однако должна была почувствовать. – Вестимо, захотелось…
– А чего тебе захотелось, родная? – прильнула к ней еще ближе Анфиска, хоть еще ближе прижаться, казалось, было уже нельзя. – Признайся мне, своей подружке, мне-то можно…
– Да вот не скажу тебе, Анфисушка. Понеже стыдно мне, красной девице.
Глава 22
«Мы с тобой разной крови, сынок»
И снова Безсонко проснулся первым в берлоге. Паренек начал рано просыпаться, раньше всех, после того как понял, что он вовсе не настоящий сын могучего великана Лесного хозяина, а только приемный. А вчера постигло его уж настоящее горе. Ведь одно дело подозревать, а другое – знать наверно. К тому же оказалось, что он даже и не медвежье дитя, как с некоторых пор подозревал, а всего лишь слабое человеческое.
Что он на самом деле сын дяди Медведя, закадычного приятеля отца, Безсонко начал догадываться, когда понял, что ведет себя на зимовке совсем не так, как подобает настоящему сыну лешего. Сам Лесной хозяин, его три жены и дюжина настоящих его детей укладывались спать в середине осени (это сейчас дела отца, объявившего войну злодеям-иноземцам, не давали возможности залечь на зимовку всему его семейству) и спокойно пробуждались весной. Для этого им не надо было набивать до отказа брюхо, как поступал дядя Медведь, чтобы безобразно разжиреть осенью, да и просыпались они вовсе не такие злые и тощие, как он. Как будто и не нужно было им на всю долгую холодную зиму никаких питательных соков! Для самого же Безсонко семейное зимнее спанье оказалось настоящей бедой, и он так и не смог понять, как ему удалось выжить в первые годы жизни, когда не мог еще сам позаботиться о своем пропитании.
Конечно же, он готовился к зимней спячке вместе со всем семейством: помогал матери и прочим женам отца подметать берлогу, выбегал наружу вынести мусор, приносил свежий лапник на постели и вытряхивал на поляне свою подушку из мягкой оленьей шкуры. Потом вход в пещеру закрывали дверью, на внешней стороне которой хитроумно прикреплен был хворост, переплетенный живыми многолетними стеблями вьюнка. К вечеру матери отмывали лешачат от летней грязи и расчесывали им волосы, а на ночь отец своим громовым голосом рассказывал сказку о глупом Волке, добром Медведе и хитрой Лисе, одну и ту же сказку каждую осень, однако не только дети слушали его с удовольствием, но и жены. Впрочем, лешачихи вообще глуповаты – об этом Безсонко, любивший свою маму, оказавшуюся теперь названой, раньше не позволял себе думать, а теперь позволяет.
Дети под сказку засыпали один за другим, а с ними и Безсонко, перед сном всегда молившийся Велесу, чтобы проснуться ему уже весной, вместе со всеми. Увы, его поднимал с лапника голод, а того пуще, настоятельная телесная потребность, которую можно было справить только снаружи. Разочарованный, он крался по берлоге, стараясь ступать бесшумно, хоть и знал прекрасно, что родичей теперь и рев дяди Медведя не разбудил бы до самой весны. Потом находил оставленные заботливо для него запасы сушеных грибов и ягод, которые предстояло растянуть на все зимние месяцы.
Вот и сейчас, в первый миг после пробуждения, показалось было ему, что он снова остался один среди спящих сородичей. Однако, поскольку отец еще не вернулся со своей войны, семейство его, хоть и зевало да потягивалось целыми днями, на зимовку еще не укладывалось – боялись, конечно, гнева своего хозяина и повелителя. Да и то сказать: засни семейство сейчас, об окончательной победе могучего Лесного хозяина над супостатами узнало бы оно только через несколько месяцев – это если обиженный батька пожелает поведать!
Темно было в берлоге, выкопанной в незапамятные времена под корнями трехсотлетнего дуба. Летом подземные палаты, как ее гордо называл отец, худо-бедно освещалась россыпями светлячков, зимой же только гнилушки уютно мерцали, обозначая направление к двери. Поэтому не видел сейчас Безсонко своих названых родичей, слышал только их сопение и храп; вовсе не мешали они ему, эти звуки, напротив, под них легче думалось. Сейчас он пытался понять, почему, уснув вчера, жены и детишки Лесного хозяина не смогут проспать теперь всю зиму? Неужели только потому, что сказку на сей раз не услышали?
И еще один вопрос Безсонко мучил. Если считает теперь своих названых матерей глупыми, означает ли это, что он сам, человеческий детеныш, выросший в этой берлоге, умнее их? Кроме того, подозревал Безсонко, что и матери его на самом деле не так глупы, а просто прикидываются недотепами перед отцом, чтобы тому приятнее было ими повелевать.
Впрочем, третья отцовская жена, Вишенка, самая молодая из всех, – вот та уж точно непритворная, непроходимая дура. Когда провожало семейство своего могучего богатыря на войну с иноземцами, подняли матери вой и принялись по очереди оплакивать Лесного хозяина, будто уже убитого, – а отец так и пыжился от невинной гордости, да еще и сам себя, силача лесного, крепко пожалевши, даже разрыдался. Вот только третья жена по глупости своей принялась оплакивать не мужа, а Медведя. Зверь безъязыкий – и тот от стыда прикрыл морду лапами, а дурище хоть бы хны. Отец сразу изменился в лице и давай сквозь слезы присматриваться к малым детям от Вишенки, тут же стоящим. Потом успокоился, мокрое лицо его просветлело, он смахнул слезы с глаз и дружески шлепнул мохнатого приятеля по плечу – аж пыль над шубой поднялась!
Надо сказать, Безсонко вполне понимал отца, когда тот время от времени под плач и робкие укоры жен втискивался в златотканый праздничный кафтан, обшитый дукатами да речным жемчугом, и ходил свататься к тете Зелёнке, – где же еще найдешь другую такую бойкую, такую умницу, такую красавицу! Отличная была бы Лесному хозяину четвертая жена! И правильно говорил отец, что с Зелёнкой он бы не раскисал, не разлеживался бы в берлоге и даже сам рядом с нею помолодел бы. Однако про себя малый весьма доволен и тем, что русалка всякий раз отцу отказывает, потому доволен, что сам надеется жениться на тете Зелёнке, когда подрастет. То есть надеялся, теперь эту мечту придется похерить… А ведь не раз уже подсчитывал, сколько голодных зимовок придется еще пережить, чтобы получить право к тете Зелёнке посвататься. Эх, и как это его угораздило оказаться недолговечным и слабым человеком?
Уже почувствовал паренек нарастающее неудобство внизу живота, однако потянулся еще раз и решил потерпеть: здесь, в привычной темноте, в добром тепле подземных палат, мысли свободно снуются, а если выскочишь сейчас на холод, сразу же отвлечешься. Ведь там, в глухом лесу, уже зачиналось диво рассвета, всегда поражавшее Безсонко своей загадочностью. Почему птицы иногда поют перед рассветом, а чаще нет? Почему в самую жестокую бурю, в самый густой ливень рассвет обязательно наступает? Кто заставляет солнце в ясную погоду подниматься над лесом? А если оно уже на небе, почему не остается там навечно? Безсонко обращался с этими вопросами к отцу и, если попадал на добрую минуту, получал от него и ответы. Однако, поскольку сам он никогда не видел богов Хорса, Ярилу и Велеса, а объяснения отца сильно смахивали на его сказку о Волке, Медведе и Лисе, в душе не очень-то Безсонко им верил.
Отец! Теперь, впрочем, уже названый… Безсонко окончательно убедился, что не его сын, когда вчера Лесной хозяин забежал домой на перевязку. Покряхтывая и кривясь, сел он на пенек. А пока бабы, плача и ойкая, разматывали на нем кушак и приспосабливали на рану почти чистую тряпицу, отец рассказывал о своем сражении с дюжиной иноземцев, о том, как одних кряжистыми дубами забросал, других затоптал вместе с их конями, а сразу троих убил одним махом, бросив в них ту самую пулю, что попала ему в бок.
– А с кем же тогда тебе дальше воевать? – удивился Безсонко.
– Остался там один, весь в железе, рыцарь называется. И еще двое немцев с вот такими, – он расставил руки, – пищалями, настоящими пушками. И раскаленными ядрами пуляют… Хорошо, что это не они в меня попали. А я им еще задам! Ты чего это вытаращился? За отца своего испугался? Или крови никогда не видел? Вот чудак!
Вот как раз и видел свою кровь Безсонко, когда нечаянно кремневым ножом порезался, – и была она красной. А у батьки – синяя… Да разве такое возможно? Он и спросил, не постеснялся.
Помялся Лесной хозяин, помялся, да как закричит, взор свой от Безсонко отводя:
– Верно, ты не мой сын, Безсон! Ты человеческий ребенок! Я тебя младенцем подменил на хуторе, тут недалеко! Ты не мой сын, а Сопуна и Марфы! Только мать твоя Марфа ночью убита со всем семейством Сопуна разом, да и Сопун, отец твой настоящий, на земле, как я смекаю, уже не жилец! И хутор их сожжен… Я тебя через полгода собирался к родичам твоим отпустить, а что теперь с тобой прикажешь делать?
Для Безсонко тогда имена «Сопун» и «Марфа» были еще звуки пустые, потому и худые вести о них и о настоящей малой родине своей пропустил он мимо ушей. Одно его заботило, что оказался по рождению чужим всей той жизни, в которой воспитан. Тогда заплакал он и спросил:
– Так, значит, я теперь никогда не смогу становиться, как ты, выше дерева стоячего, ниже облака летящего? Не смогу кидаться выдернутыми с корнем дубами?
– Пожалуй, что не сможешь, сынок, – взглянул на него прямо своими безбровыми глазками названый отец. – Люди такого не умеют.
– И кто же я теперь? Как ты мог так поступить со мною, отец? – еще пуще зарыдал паренек, потому что понял тогда, что и мечту о красавице Зелёнке ему придется оставить.
– Да уж такой я! Уж такой уродился, хотел бы иначе что-нибудь сделать, да не могу! Изнутри так и подзуживает! Уж такой я! – Лесной хозяин всплеснул по-бабьи руками и скривился от боли. – И разве я, Безсонушка, не люблю тебя таким, каков ты есть, не люблю такое уродливое человеческое дитятко! У тебя же уши круглые! У тебя же вон из глаз и над глазами волосы растут! И не смей меня больше расстраивать – мне же еще на войну возвращаться!
– А сушеных грибов сколько на мальца каждую зиму уходит, а яблочек-сушек, и засцал ведь все вокруг! – попробовала всунуться в разговор глупая Вишенка, но Лесной хозяин ее шуганул.
– Спасибо, отец мой названый, за то, что кормил-поил, – поклонился Безсонко, глотая слезы. – Однако ты возвращаешь меня людям, но ничему человеческому не научил. Вот ты про какие-то «пищали» говорил, а я так ничего и не уразумел. Как же я теперь среди людей проживу, спрашивается? Если даже про такой пустяк не знаю?
А Лесной хозяин вдруг успокоился. Тыльной стороной ладони вытер слезы, тщательно высморкался: сначала с помощью большого пальца правой руки, потом задействовал большой палец левой. Подозвал к себе Безсонко, утер ему слезы, помог почистить нос. Поставил перед собою и закричал было, потом понизил голос. Безсонко понял, что отец не желает, чтобы бабы его услышали, и поневоле возгордился: никогда еще могучий Лесной хозяин не разговаривал с ним как со взрослым. Потом он только слушал и пытался мотать на ус сказанное отцом.
– Напрасно ты ревел, сынок. Мужчины так не поступают. Ты на меня посмотри – ужели я плачу когда? Да разве от смеха только. И еще не по душе мне, что ты горюешь, когда беда еще не пришла. Будто мы с тобою прямо сейчас расстаемся! Настанет пора идти тебе к людям – вот тогда и реви. А того лучше сядем мы с тобою, да и подумаем, как горю пособить. Ты дай мне только с супостатами разделаться! А что ты не знаешь каких-нибудь людских обычаев или не видел никогда огненного оружия, так это вовсе не страшно. Человеческая наука проста, всем человеческим знаниям может каждый ребенок научиться, если достанет у него времени и усердия. А если люди-учителя будут еще палкой бить, так вдвое быстрее выучишься.
– Палкой бить? – горестно изумился Безсонко и носом шмыгнул.
– Уж такой у людей обычай, сынок. Однако же и человеческие премудрости простые. Во всех их придумках никакой особой хитрости нет. Взять ту же пищаль, оружие огненного боя. Ты ее утром в первый раз увидишь, а к вечеру научишься уже и палить из нее.
– И узнаю, откуда в ней огонь берется?
– А вот это совсем необязательно! – ухмыльнулся Лесной хозяин. – Уж таковы люди. Для них главное, что пищаль стреляет и далеко бросает пулю. Твои сородичи пользуются вещами, вовсе не задумываясь о них. Разве мужику любопытно, откуда речка, хоть бы та же Клевень, течет? Он поставит на ней запруду и устроит себе мельницу. Говорю тебе, что всему, что умеют люди, можно научиться.
Безсонко исподлобья присмотрелся: отец улыбается загадочно. К чему бы это он клонит?
– Ты растерялся, сын мой Безсон, и забыл, что перенял от меня многие премудрости, для людей недоступные. Ты понимаешь язык каждой птицы, каждого зверя. Одно только вспомни: тебе сразу становится известно, о чем оповещает лес сорока, и нет нужды залазить на дерево, чтобы самому увидеть. Ты сумеешь подчинить себе волю зверей и домашних животных. Медведь по знаку твоему задерет твоего врага, а лошадь никогда от тебя не убежит. Ты знаешь полезные и вредные свойства каждой травы, каждого кустарника, каждого дерева. Ты слышишь запах воды за много верст, и ты чувствуешь, где текут подземные реки и где лучше выкопать колодец. Да мало ли! Вот я вернусь с войны, найду свободную минутку и научу тебя узнавать, что думают люди, когда с тобою разговаривают. Если ты, сынок, будешь умницей, то будешь владеть двойным знанием – человеческим и нашим, лесным. Подумай об этом, и ты поймешь, что тебе грех жаловаться.
– Спасибо тебе, дорогой мой отец, – снова поклонился Безсонко. – Спасибо тебе большущее за науку.
– Вот и славненько, – заявил Лесной хозяин, подмигнул сыну и закричал по-прежнему: – Эй, бабы! Застегивайте на мне полушубок, наматывайте на меня кушак! Пришла пора вашему муженьку на войну возвращаться! Боюсь, как бы не застрелили иноземцы там без меня нашего бурого недотепу! А с тобою, Вишенка так называемая, я еще по-свойски разберусь!
И вот сейчас, лежа в приятной темноте пещеры, как некоего материнского чрева, напрягся внутренне Безсонко и ощутил, что в лесу прибавилось человеческих трупов, что Лесной хозяин и Медведь живы-здоровы и в безопасности. Горькие запахи горелого пороха, сожженной человеческой плоти и свернувшейся крови ударили ему в ноздри и сорвали с постели. Бесшумно обулся он, тихо откинул в сторону крышку-дверь. Пронзительный холод царил снаружи, и подумалось Безсонко, что вот так же покинет он когда-нибудь и родной лес.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.