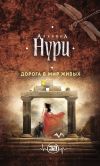Читать книгу "Молчание сфинкса"
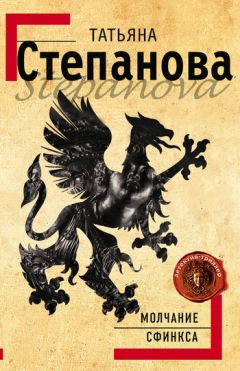
Автор книги: Татьяна Степанова
Жанр: Криминальные боевики, Боевики
сообщить о неприемлемом содержимом
– Мы ее не задержали. Я хочу спросить вас: где вы находились этой ночью и сегодня утром?
– Это допрос?
– Это допрос, – Никита подошел к Малявину вплотную. – Я допрашиваю вас, официально предупреждая об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, в связи с сегодняшним убийством вашей сожительницы Марины Ткач.
Лицо Малявина побагровело и тут же через мгновение покрылось мертвенной бледностью.
– Марина… мертва?! Она мертва?
– Убита сегодня утром.
– Я… У меня с глазами что-то… не вижу, темно… Можно я сяду?
Малявин рухнул на диван. Никита ждал. Ему показалось – прошло бесконечно много времени.
– Как ее убили? – тихо спросил Малявин, его грубый голос срывался.
– Ударили по голове.
Он согнулся, словно это его самого ударили, обхватил голову руками. Начал раскачиваться из стороны в сторону. Никита терпеливо ждал, когда он справится с собой.
– Это уже третье убийство здесь за неполные десять дней, – сказал он после долгой паузы. – Я пока ни в чем вас не обвиняю, Денис Григорьевич, но если бы в прошлый раз вы были с нами более откровенны, возможно, она… она бы осталась жива.
– Что вы хотите знать? Что?
– Вы не ночевали дома. Я хочу знать, где вы были ночью и утром.
– В Москве.
– Где именно в Москве?
– Мы вчера повздорили с Мариной. Глупая ссора… Если бы я только знал! Но я и в страшном сне не мог себе этого представить… Мы поссорились, я был зол, я уехал, – Малявин резко вскинул голову. – Вы ведь хотите знать, где я был. Вам ведь всюду надо сунуть свой нос… Я был в пивном баре на Арбате. Потом…
– Вы были один?
– Нет, я был расстроен ссорой, мне надо было встряхнуться, обрести форму. Короче, я провел ночь с женщиной.
– Имя и фамилия.
– Я снял ее на Арбате. Она сказала, что зовут ее Альбина. Я заплатил ей. Мы поехали к ней в Люблино на квартиру. Я провел с ней ночь.
– Во сколько вы расстались?
– Я уехал в девять утра. Проспал. Мы крепко выпили. Похмелье. Прочие прелести… В общем, я так и не обрел форму. Вынужден даже был позвонить Салтыкову, сказать, что задерживаюсь.
– Адрес квартиры? – спросил Никита жестко.
– Адрес… Люблинская улица… Дом такой пятиэтажный, хрущевка… Она сама показывала, куда ехать. Двор… Квартира на третьем этаже, номера я не помню.
Никита смотрел на него: если это и было ложное алиби, то выдумано оно было умно. Чтобы опровергнуть его, надо было для начала заняться поисками в Люблино девицы Альбины. А это то же самое, что искать спутника жизни через газету «Из рук в руки» – могло повезти, а могло и нет.
– Из-за чего вы поссорились с Мариной Ткач?
– Мне больно сейчас в этом признаваться – из-за денег.
– Из-за денег?
– Она… она всегда неумеренно расходовала деньги. В этот раз я сказал ей, что думаю по этому поводу. Лучше бы не говорил! Она… у нее был взрывной характер, она не стерпела… Короче, мы наговорили друг другу много всего, я… у меня нет сил сейчас это вспоминать. Я был виноват, я не должен был…
– Вам известно, чем занималась Марина Ткач до того, как познакомилась с вами?
– Конечно. Она была актрисой. Точнее… Она работала в областном театре, в Иванове. Когда мы впервые встретились, она пыталась перебраться в какой-нибудь театр в Москве. У нее были предложения – кажется, в Театр Гоголя, что ли… Но потом мы сблизились, решили жить вместе. У меня тогда был собственный бизнес, я только что построил этот дом. И Марина оставила театральную карьеру, потому что… Короче, я так хотел. Я хотел, чтобы она жила здесь со мной.
– У нее есть родные?
– У нее есть тетка в Иванове, насколько я знаю.
– У нее был мобильный телефон?
– Конечно, а как же? «Моторола», я сам ей подарил недавно новую модель.
– С определителем номера?
– Да, она всегда пользовалась этой услугой. Это же удобно.
– В ее сумке, найденной на месте убийства, мы обнаружили старинную тетрадь с дневниковыми записями. Вы знаете, как она попала к ней?
Малявин медленно начал массировать грудь ладонью с левой стороны, где сердце.
– Душно как… Снова в глазах темнеет. Никогда со мной такого не было, я ведь и не болел ничем ни разу серьезно… Из-за этой проклятой тетрадки мы с Мариной и поссорились. Она просила у меня денег, чтобы купить ее. Я бы дал без разговоров, но не пятьсот же долларов за такую муру?!
– Пятьсот долларов? – удивленно переспросил Никита.
– Ну да. Это Волков заломил такую цену. Есть тут у нас такой…
– Я в курсе. Значит, тетрадь принадлежала психиатру Волкову?
– Да, это что-то вроде дневника то ли прабабки, то ли тетки, то ли еще какой-то родственницы Романа Валерьяновича. А Волков наш, когда был заведующим сумасшедшим домом, – вы ведь знаете, что в Лесном раньше больница для психических была?
– Да, и насчет этого я в курсе. Продолжайте.
– Волков нашел этот дневник, как он сам Марине признался, а она рассказала мне, в подвале больницы среди старого хлама. Там какая-то авария у них случилась с трубами отопления, ну, начали делать ремонт и нашли старый архив и эту тетрадку. Но это давно было, лет двенадцать назад. Уж больницы сколько в Лесном не существует…
– А Марина Аркадьевна хорошо знала Волкова, да?
– Я их познакомил, я лично в прошлом году. Я сам Волкова давно знаю, сколько лет он тут работал, потом дача у него в Тутышах, рядом совсем. Человек он в нашей округе известный. Когда заведовал больницей, даже бывшая администрация с ним считалась. Все бы ничего, вот только характер у него паршивый, сквалыжный. Другой бы на его месте, если и попала к нему случайно фамильная вещь – дневник, фотография, взял бы и преподнес бы ее в дар потомкам, и дело с концом. Так ведь все порядочные люди делают? А Волков Салтыкову дневник решил загнать. Знал отлично, что он у нас тут по крохам собирает все, что относится к истории его рода.
– Но все-таки как тетрадь оказалась у вашей Марины? – спросил Никита.
– Это я виноват. Снова я. Волков про этот дневник сперва мне сказал – намекни, мол, Роману Валерьянычу – у меня кое-что есть, что для него может представить сугубый интерес. Не купит ли? Он тогда о пятистах долларах и не заикался даже. А я, дурак, Маринке сказал. Ну, она сразу и загорелась. Решила купить дневник и подарок Салтыкову сделать от себя и от меня. Ну, я и не возражал. Но когда она мне о пятистах долларах сказала, я… я просто обалдел. Всему есть предел, знаете ли. Я не олигарх какой-нибудь, чтобы так на пустяки деньги швырять. А потом сунулся, оказалось, что она эти деньги у меня взяла, тайком, значит, и на это дерьмо уже потратила. А меня перед фактом поставила: мол, денег нет, дневник я купила. Ну, тут я, конечно, не сдержался. Зло меня взяло, досада, накричал на нее, а она… В общем, мы поругались. Если бы я только знал, поверьте, я бы… никогда, ни за что!
– Но почему она согласилась заплатить за дневник такую большую сумму? Она это как-то вам объяснила?
– Марина деньги никогда не считала. Особенно мои. Вот и все объяснение, – Малявин потупился. – Я сам ее приучил: хочешь – получишь. Я не жмот. И потом, я ее очень любил, люблю… Раньше возможностей у меня было больше, покупал ей все, что она хотела, тратил, может быть, слишком даже много на нее. Сейчас уже ресурсы не те, а она словно понять не могла, что я не могу позволить себе вот так бросать деньги на ветер.
– И все-таки почему, по-вашему, она согласилась заплатить за этот дневник так дорого? – не отставал Никита.
– Она очень хотела купить его, чтобы потом подарить Салтыкову. Там много сведений, связанных с его семьей, с Лесным.
– Но разве все это стоит таких денег? Или, может, она рассчитывала на то, что Салтыков возместит все расходы?
– Я не знаю. Когда дарят от души, о возмещении расходов как-то не думают, – буркнул Малявин.
– А как ваша подруга относилась к Салтыкову?
Малявин снова резко вскинул голову.
– Вы это… вы что имеете в виду?
– Ну, хотя бы то, что она почти регулярно бывала в Лесном, как я выяснил. Без вас, одна.
– Но ей же было скучно дома сидеть! Она терпеть этого не могла – скуку, одиночество. Она человек общительный и раньше любила потусоваться, где только можно. А у нас тут – сами видите – места отличные, воздух чистейший, но глушь, деревня, развлекаться особо негде. В Москву не наездишься. Я целыми днями на стройке пропадаю. Ну, она и ездила туда, в Лесное, по-соседски. Там люди интересные, интеллигентные, нашего круга, всегда есть о чем потрепаться.
Малявин говорил все это быстро, захлебываясь. Ощущение было такое, словно он убеждал себя в этом, убеждал уже давно, не один день и месяц. Хотя что проку было теперь убеждать, отрицая очевидное?
– А где вы сами были вчера днем? – спросил Никита, когда он умолк, тяжело дыша. – Я вас что-то вчера на стройке не видел.
– А вы были вчера в Лесном?
– Был.
– А какого хрена вы там были? – Лицо Малявина снова налилось темной гневной кровью. – Вчера были, а сегодня Марину, Маринку, девочку мою ненаглядную… – его голос осекся. – А я с ней в последние минуты жизни ее из-за денег ругался, паршивых денег ей пожалел… Скотина… Бросил ее, уехал. Бросил волкам на растерзание…
– Ответьте на мой вопрос, пожалуйста.
– Ну, в Коломне я был, в Коломну ездил, трубы заказывал сливные и радиаторы – езжайте, проверяйте, если не верите! Был на оптовой фирме. Потом машину доставал – оборудование надо было перевозить. Роман Валерьянович меня послал…
– Вы не кричите. Я все отлично слышу. Вы были днем в Коломне, ночью в Москве с проституткой, а утром сегодня… Все же, где вы были сегодня утром, я что-то так и не понял. Примерно в половине девятого?
Малявин судорожно хватал воздух раскрытым ртом. Лицо его еще гуще побагровело, а затем стало синюшным и потом белым.
– Что это… – просипел он. – Дышать нечем… Что это со мной? – Он обессиленно откинулся на спинку дивана. И по его виду Никита понял: он не притворяется, не симулирует – ему плохо.
«Скорая» для деревни приехала довольно быстро – через полчаса. А быстрее в глубинке не бывает.
– Ну что с ним? – встревоженно спросил Никита, когда врачи закончили свою работу и собирали чемоданы.
– Сердечный спазм. У него очень высокое артериальное давление. Мы сделали укол, ему надо несколько дней полежать.
Малявин раскинулся на низком диване, покрытом ковром. В пепельнице на столике из закаленного стекла валялись окровавленные ватные тампоны, одноразовый шприц, иголки и пустая ампула.
У Никиты имелось еще много вопросов к этому человеку, фигуранту по делу о трех убийствах. Но в этой ситуации продолжать допрашивать его было просто бесчеловечно. И Никита, проклиная в душе все на свете, смирился с неизбежным.
Глава 26
ДНЕВНИК
Катя получила дневник, найденный у Марины Ткач, вечером того же дня. Никита Колосов приехал в главк из экспертно-криминалистического центра и вручил ей потрепанную тетрадку: «Поработай с этим, пожалуйста, никаких иных отпечатков, кроме отпечатков убитой, на обложке не обнаружено, так что можно смело листать-перелистывать. Потом все обсудим. Я бегло проглядел. Мне кажется, это очень важно».
– Никита, подожди, мне надо с тобой поговорить, – Катя попыталась его удержать.
– Я в морг на вскрытие. Меня следователь ждет.
Вот так – буднично, даже чересчур буднично, по-милицейски, Катя и узнала о новом убийстве в Лесном.
И никаких там вам дурных предчувствий, убийственных примет, тревожных предзнаменований…
Ничего.
Позже она не раз и не два вспоминала этот вечер и этот старый дневник. Она нетерпеливо листала его уже в троллейбусе по дороге домой. Блекло-сиреневый атлас обложки, тусклые чернила, мелкий женский почерк и эти смешные, непривычные буквы «ять».
Дома ее встретила – в который уж раз – тишина, пустота и темнота. Видимо, возвращения «драгоценного В.А.» пока что не предвиделось. И она в этот вечер, честно говоря, даже не знала, так ли уж это плохо, что его нет рядом. Что не надо снова мучительно выяснять отношения, ссориться, мириться, спорить, что-то доказывая. Она была одна, она была предоставлена самой себе в этот осенний вечер. Она жадно вчитывалась в дневник, фактически еще не зная никаких подробностей убийства Марины Аркадьевны Ткач. Никита Колосов в запарке так и не успел ей ничего сообщить. Он буквально разрывался на части между Воздвиженским, главком, экспертным центром и моргом. Катя никогда не понимала этой его фанатической одержимости сделать сто дел в одни сутки: допросить, доложить, задержать, исследовать, проверить, снова перепроверить, прокрутить по банкам данных, по АДИСу, по ЦАБу, по Интернету, вскрыть…
Она включила в квартире все лампы, все светильники – да сгинет проклятая тьма! Села в кресло у окна, свернулась калачиком, подложив под спину шелковую подушку. Положила дневник на колени, открыла титульный лист: «Милой Милочке от…»
Как раз в это самое время Никита Колосов шел по длинному, сумрачному, пахнущему формалином и карболкой коридору морга. Впереди были стеклянные двери анатомического зала. Он остановился перед ними – ну вот, значит, снова-здорово. Поколебавшись одно мгновение, толчком распахнул их и вошел в зал, встреченный усталым возгласом знакомого патологоанатома: «А вот и вы наконец. Что ж, можем начинать».
Фамилия Милочки оказалась «графиня Салтыкова» – Катя узнала это из текста дневника. Юная Милочка ранней весной 1913 года приехала вместе с родителями, старшим братом и сестрами Соней и Лялей в Лесное из Москвы. До этого, судя по некоторым фразам в тексте, она училась в гимназии, но из-за внезапно ухудшившегося здоровья по настоянию врачей должна была оставить курс и провести в подмосковном имении весну, лето и осень. Дневник начинался датой 6 мая 1913 года, заканчивался 1 декабря. С Романом Валерьяновичем Салтыковым юная Милочка явно состояла в родстве – Катя решила, что она, скорее всего, была его прабабкой.
«Мне шестнадцать лет. Если я буду так бездарно и пошло терять время, что же из меня выйдет? Кровь моя кипит. Я не могу спокойно сидеть на месте. Слезы душат меня. В двадцать лет придут другие мысли, а теперь-то и время учиться. Ах, зачем только мы уехали из Москвы!»
«2 июня. Ничто не пропадает в этом мире. Когда перестают любить и заниматься одним, привязанности немедленно переносятся на другое. Если даже и не любишь человека – любишь собаку, мебель, вот этот старый дом. Дедушкин дом… Когда мы только приехали сюда с мамой , тут еще были сугробы и снег. А потом солнце начало пригревать все сильнее, и лужи начали подсыхать, и проталины. На дорожках нашего двора постелили новые чистые рогожи, поставили скамейки и вынесли из оранжереи цветочные горшки со старой землей. Все не как дома, в Москве…
Здесь как раз напротив окон детской – службы: каретный сарай, конюшня, сеновал. Наблюдать за этой частью двора из окна так интересно, особенно когда готовится выезд мам€€€а€ €€. Конюх Троша выводит под уздцы гнедую Ласточку – эта лошадь настоящее чудо. Мама ее просто обожает. Ее привязывают за повод к сараю и начинают чистить. Расчесывают гриву, смоченную квасом, заводят в оглобли, запрягая в новенькую «эгоистку». У этого экипажа такие высокие, мягкие рессоры».
Катя перевернула несколько страниц:
«20 июня. Волосы мои высоко подняты и завязаны узлом на манер прически Психеи. Они стали светлее, чем когда-либо. Платье белое, вышитое спереди гладью. Жакета я не ношу. Я похожа на один из портретов первой империи. Для полного сходства нужна только книга в руках. Но вся наша обширная библиотека сослана еще дедушкой в павильон «Зима». Надо будет наведаться туда на досуге».
«23 июня. Попросила Николая Фомича открыть павильон «Зима». Долго искали ключи. Вошли туда вместе с Соней. Сколько же пыли! Тяжелые малиновые портьеры на шелковой подкладке. Кретоновая мягкая мебель, столики, книжные шкафы. В углу – мраморный камин. На нем часы совсем необычные: у них двигается циферблат, а стрелки всегда неподвижны. Каждые полчаса часы звонят: динь-дон… Странно, но именно этот звон я очень хорошо помню, и этот камин, и красный ковер перед ним. Когда мне было шесть лет, мы приезжали в Лесное. Дедушка был жив, и дядя Викентий тоже. Я его помню, я его так любила. Он был такой красивый, молодой, веселый. Я помню, у него были часы – карманные золотые, брегет с боем. Он подносил их к моему уху – динь-дон… Помню его «сигару на дорожку». Он вставлял сигару в дырку гильотины на письменном столе в кабинете Кости, а я или Соня нажимали пружинку, и кончик сигары отскакивал. «А теперь бегите, мама зовет», – он наклонялся, я вставала на цыпочки, целовала его и убегала, не оглядываясь…
Соня говорит, что тоже его хорошо помнит – он часто гулял по берегу пруда с Ниной Мещерской, приезжавшей к нам в гости. Соня говорит – все думали тогда, что он попросит ее руки. Бедный, бедный дядя Викентий…»
Катя оторвалась от чтения. Это имя Викентий, точнее Викентий Федорович, – она уже слышала. Оно было связано с павильоном «Зима». Ах да, это Иван Лыков рассказывал о своем предке – гвардейском офицере, застрелившемся из-за несчастной любви. Надо уточнить у Мещерского. Она потянула к себе с дивана телефон. Нет, нет, потом, сначала надо дочитать…
Она и не подозревала, что не застанет в этот поздний час Сергея Мещерского дома. Преследуемый тревожными мыслями, он покинул Лесное далеко не так скоро, как ему советовал Никита Колосов. Причем поехал не домой, а на Автозаводскую. Он жаждал найти Лыковых – брата и сестру. Домашний их телефон по-прежнему не отвечал. Но Мещерский решил все же нагрянуть к ним на квартиру. Ехал через Окружную, по Варшавскому шоссе, свернул на «третье кольцо», миновал Автозаводский мост, зиловские корпуса, и тут память сыграла с ним злую шутку – он заблудился. В гостях у Ивана Лыкова он не был давным-давно. Из туманных обрывков воспоминаний выплывал какой-то двор, старый дом с железными балконами, пожарная лестница, воняющий кошками подъезд.
Мещерский кружил по улицам и возвращался к метро «Автозаводская». Наконец он оставил машину на стоянке и решил побродить пешком. Ему все казалось, он узнает тот старый дом, непременно узнает, как только увидит. Это ведь было так важно! Но в темноте все кошки серы, а все дома похожи один на другой. Во дворах – теснота от машин, дождевые лужи и лампочки над подъездами, словно бельма.
Катя перевернула еще несколько страниц:
«11 июля. Опять вспоминали с Соней дядю Викентия. Соня помнит, как он стрелял в парке ворон из ружья. Она сказала, что видела ночью дурной сон. О чем – не говорит. Но я и так знаю. Эти воспоминания… Она, как и я, очень любила дядю Викентия. Когда он покончил с собой, ей было десять лет, а мне семь. Поэтому она помнит больше моего. Она по секрету призналась, тут у нас в людской о смерти дяди Викентия до сих пор говорят самое разное: и горничная Варя, и няня, и особенно прежний управляющий Николай Фомич. Лесное полно легенд, я знала это с самого детства».
«15 июля. Как я люблю, уединившись перед зеркалом, любоваться своими руками. Такими тонкими, розовыми, почти прозрачными. Спросите всех, кто меня знает, – вам скажут, я самая веселая, самая беззаботная, самая счастливая в доме… О, если бы не эта болезнь! Но доктор Лейсснер уверяет, что сердце мое выправится, надо только потерпеть год-два, пить капли, не уставать, не кататься верхом, не бегать, не подниматься в гору…»
«17 июля. Сегодня, выходя из столовой, я суеверно испугалась. Я увидела что-то в зеркале, мне показалось. Конечно же, мне показалось… Но мне как-то не по себе. Я боюсь, что последует какое-то ухудшение здоровья или еще что-то случится. Вчера Николай Фомич рассказывал при маме Ляле историю бестужевского клада. Тут ее каждый по-своему перевирает. Ляля предложила маме нанять землекопов. Но парк и так давно уже весь перерыт. Клад Бестужевой, по словам Николая Фомича, искали здесь, в усадьбе, еще в дни его молодости, лет тридцать назад. Любопытная история с этим заговором. Какие странные условия поставлены…»
Катя перевернула страницу. Текст был отчеркнут красным фломастером. На полях были поставлены восклицательные знаки, а между страницами лежала закладка – смятая пачка сигарет «Мальборо». Такие сигареты, помнится, курила Марина Аркадьевна Ткач. Да и пометки фломастером явно были сделаны не в 1913-м. Катя закрыла глаза. Эта женщина мертва, как и священник, как и Филологова. Она мертва, ее вскрывают в морге, возможно, даже сейчас. А вот тут, в вашей памяти, она жива, сидит на диване, откинувшись на подушки. Тонкий прекрасный профиль, тень от ресниц на загорелой щеке. В опущенной руке тлеет сигарета. А рядом паренек как маленький голодный львенок, глядит исподлобья на ее золотистые волосы…
Катя видела Марину Аркадьевну такой, как там, в Лесном, в ее последний, самый последний в жизни вечер. И Валю Журавлева с ней рядом.
А Никита Колосов тоже видел Марину Аркадьевну. Он стоял в морге у оцинкованного стола, на котором лежало ее тело. Патологоанатом только что закончил вскрывать грудную клетку.
Катя очнулась и начала читать то, что было отчеркнуто красным фломастером: «Николай Фомич больше всех нас жалеет бедного дядю Викентия. Но, право, он рассказывает про него странные вещи. Мама даже упрекнула его – он, мол, распускает вздорные слухи, а князь Викентий Федорович не был ни безумцем, ни сумасшедшим. Во всем виновата его страстная любовь к Нине и ее категорический отказ выйти за него замуж. Так говорит мама. Но Николай Фомич уверен, что любовь тут совершенно ни при чем. Какие все-таки причудливые суеверия гнездятся в умах серьезных, пожилых людей!
Соня говорит: Николай Фомич знал дядю Викентия лучше всех нас. Он служил у него, был поверенным во всех его делах. Он уверяет: у дяди Викентия были большие долги. Очень большие. И для того, чтобы расплатиться с ними, он решил… во что бы то ни стало отыскать бестужевский клад. А как всем в Лесном давно известно… – Катя оторвалась от дневника. Эта фраза была подчеркнута красным фломастером дважды… как всем в Лесном давно известно, клад по легенде легко и сразу отдаст себя в руки только тому, кто, не колеблясь и не сожалея, выполнит наложенные старой графиней Бестужевой условия заклятья. Как только будут накрепко запечатаны церковные врата, как только кровь священника, петуха, красавицы и мастера обагрит землю, клад явит знак о своем местоположении. А после того как умрет тот, кто первый его увидит, клад позволит собой завладеть тому, кто приносил жертвы. Мы с Соней обсуждали эти страшные условия графини Бестужевой. Ее история вот уже два века будоражит Лесное. Все это, конечно, совершеннейший вздор. Но Соня очень оригинально трактует выбор Бестужевой тех, кто должен умереть по условиям заговора. Красавица – это, по ее мнению, скорее всего, несчастная опальная Лопухина, а может, и сама императрица Елизавета, которую Бестужева ненавидела. Мастер – это первый архитектор Лесного итальянец Баттистини. Во времена самой Бестужевой уже эти два условия были просто невыполнимы.
Мне кажется, Соня здесь не права – старая графиня не имела в виду кого-то конкретного. Ей надо было просто сделать так, чтобы клад стал недоступен для воров, чтобы ее собственные мужики, дворовые боялись заниматься поисками спрятанного золота. Отсюда и вся эта легенда о заговоре на кровь, о смертях и убийствах.
Однако как же все-таки легенды живучи! Не могу не думать о том, что рассказал Николай Фомич о дяде Викентии. Он якобы был просто одержим идеей отыскать клад, готов был выполнить все условия. И в тот роковой вечер он пришел в павильон «Зима», якобы имея твердое намерение первой убить Нину Мещерскую – она была очень красива. Она была самой красивой из всех… Но он не смог. И пустил себе пулю в лоб. Так говорит Николай Фомич. Мне даже думать об этом больно, не то что слышать это от чужого, постороннего человека. Он лжет, он просто старый, больной, он не верит в любовь, в страсть. Готов поверить во что угодно – в дикое суеверие, в сплетни прислуги, в корысть, алчность, только не в любовь… Я так разочарована. Мне хочется плакать…»
Катя поднесла раскрытый дневник к лицу. Казалось, его страницы все еще хранили горький аромат лета 1913 года, когда шестнадцатилетняя Милочка Салтыкова разочаровалась во всем, в том числе и в любви.