Текст книги "Куросиво"
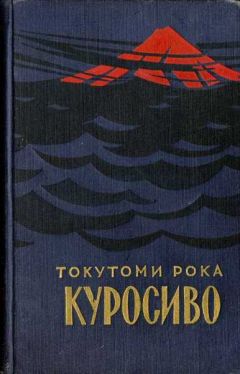
Автор книги: Токутоми Рока
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
8
Госпожа Китагава слушала молча. Все безмолвно терпевшая, все безропотно переносившая, она невольно пробовала теперь представить, каков был бы результат, попытайся она вести себя так, как советовала госпожа Сасакура.
– И вот поэтому… – продолжала гостья. – Простите меня за смелость, но Китагава-сан тоже позволяет себе слишком много… А если уж говорить начистоту, так скажу прямо, что, имея такую жену, как вы, Садако-сан… Нет, не прерывайте меня… имея такую прекрасную жену… Да нет же, вовсе я не пристрастна, все это говорят… имея такую жену, поступать так… Нет, как хотите, это возмутительно!
– Всему виной я сама… Я одна…
– Нет, это неверно. Вы слишком терпеливы, вот в чем беда.
Госпожа Китагава глубоко вздохнула.
– Но, Томико-сан, вспомните всех знаменитых женщин прошлого – все они терпели много тяжелого, разве не так? Всему виной моя собственная глупость… Он не гонит меня, не приказывает мне умереть… – госпожа Китагава на мгновенье прикусила нижнюю губу – он хочет, чтобы я жила здесь… Каждый месяц мне присылают достаточно денег, чтобы ни в чем не нуждаться. Если я буду жить себе потихоньку здесь в Асабу, то все наши домашние неурядицы удастся скрыть от людской молвы. Мне нужно приучиться считать себя все равно что мертвой…
– Но это, право же, слишком! Простите, но я не могу поверить, чтобы он был в здравом уме… Отправить законную жену куда-то прочь, а неизвестную женщину низкого происхождения… Нет, это уж слишком!
– Будь Митико мальчиком, возможно он поступил бы иначе, но единственный мой ребенок – девочка, к тому же такая несовершенная, а наследника, мальчика, родила та, другая… Жива ли я, умру ли – это больше не имеет никакого значения… Я и сама предпочла бы умереть, но хочется дождаться, пока Митико подрастет хоть немного, да быть мне спокойной за свой род, знать, что род Умэдзу не угаснет, будет продолжаться – пусть даже не выделяясь среди других… Тогда мне и самой не хотелось бы больше жить на свете, зачем служить всем только помехой… Но сейчас, Томико-сан, сейчас я еще никак не в силах отрешиться от жизни… – госпожа Китагава опустила голову, и из глаз у нее закапали слезы.
Госпожа Сасакура тоже казалась взволнованной.
– Подумать только, как нелепо устроен свет!
– Хорошо, пусть я больше никому не нужна – снова заговорила графиня Китагава – но подумайте, Томико-сан, разве Митико ему не родная дочь? Конечно, она еще дитя, но ведь ей уже двенадцать лет, она все понимает… Разве не следует ему немного подумать об этом? Иногда мне хочется сказать Митико: зачем только ты родилась женщиной? – она утерла слезы и пыталась улыбнуться, но нижняя губа у нее дрожала.
– И отчего это жизнь стала такая отвратительная? Знаете, Садако-сан, такого не бывало даже в старые времена. Все оттого, что эти господа из новых женятся на женщинах с сомнительным прошлым… Как хотите, с тем, что творится вокруг, невозможно примириться!
– Нет, Томико-сан, иногда мне думается, что просто такая уж у меня судьба. И матери и отцу пришлось пережить много тяжелого. Сколько они мучились, чтобы вырастить, воспитать меня… А я одна из всей семьи была счастлива… Значит, теперь наступил мой черед страдать, так мне кажется. Но только я никак не могу смириться с тем, чтобы страдала Митико – ведь она совсем еще малый ребенок… Это меня терзает… Родной отец не любит ее, и Митико тоже привязана только ко мне одной…
– Не удивительно!
– Если со мной что-нибудь случится, что ее ждет? У нее такой упрямый характер… Вот единственное, что не дает мне покоя…
– Ах, полно, довольно уже об этом! Что это мы сегодня – все время только и знаем что каркать! И при таком вашем смирении вам приходится столько терпеть! Наверное, Китагава-сан скоро сам опомнится от наваждения… Не может быть, чтобы человек в здравом уме долго продолжал такую жизнь… Наберитесь еще выдержки и ждите…
Обе женщины замолчали.
Солнце уже склонилось к западу, повеял прохладный ветерок; с новой силой зашелестел, пролился дождь осыпающихся цветов, шурша по крыше беседки.
Горничная с высокой прической торопливыми шагами приблизилась к сидевшим.
– Госпожа… господин граф изволил пожаловать.
Дамы переглянулись.
Глава V

1
Барышня, ведь граф ждет вас, идите же скорее! – к Митико, задыхаясь, подбежала старая служанка.
Прошло уже полчаса, как уехала госпожа Сасакура с детьми. Но Митико все еще стояла на берегу пруда и, обрывая лепестки камелий, бросала их в воду. Тиё, окончательно растерянная, и пес Нэд молча смотрели на эту картину.
– Тиё-сан, ты-то что же? Ведь тебя же послали за барышней?
– Да я ее уговаривала, а она не идет!
– Ах, беда, беда, да и только! Надо было постараться уговорить… Барышня! Нехорошо капризничать… Извольте тотчас же вернуться в дом вместе с няней…
Митико продолжала стоять неподвижно, непрерывно отрывая и бросая в воду лепестки цветов.
Между отцом и Митико давно уже установилась молчаливая вражда. Эта вражда началась чуть ли не с той самой поры, когда Митико стала входить в разум и разбираться в окружающем. Часто бывает, что девочки особенно льнут к отцу, а матери питают особую привязанность к сыновьям, но Митико с первых же дней любила одну только мать, к отцу же всегда была равнодушна. Граф давно уже испытывал к жене нечто вроде ревности из-за Митико.
В бытность отца послом в латино-американской стране к Митико была приглашена гувернантка, на чьей обязанности лежало заниматься воспитанием девочки. Ото была некая госпожа Мариани, молодая женщина, обладавшая внешностью, достойной служить моделью художнику, и при этом пламенная патриотка, горевшая любовью к родной стране и разделявшая идеи Мадзини. Единственная дочь в дворянской семье, она преодолела огромные трудности, чтобы добиться самостоятельности, скиталась по России, Германии, Франции, общалась с женщинами-социалистками, анархистками и придерживалась передовых взглядов не только в политике, но и в женском вопросе. Услышав, что в доме японского посла ищут гувернантку к дочери, она сама предложила свои услуги, загоревшись желанием распространить в Японии – этой далекой восточной стране, знаменитой со времен Марко Поло, – самую новую, самую радикальную европейскую идеологию. Она стала заниматься с Митико, но воспитание, которое она давала девочке, не ограничивалось иностранными языками и правилами хорошего тона. Разумеется, впоследствии, по предложению местных властей, была приглашена другая гувернантка, так что госпожа Мариани пробыла у Китагава всего полтора года, не успев посеять многого в головке Митико, которой было к тому же в ту пору всего шесть-семь лет, но все же и то, что было посеяно, не пропало даром. Непонятны были слова госпожи Мариани, недоступны ее речи, но огонь души не нуждается в таких докучных посредниках. Не принимать безоговорочно никакого авторитета, не подвергая его сомнению, всей силой души ненавидеть всякую несправедливость и вероломство, презирать малодушие и слабость, жить своим трудом, своим умом выносить суждение обо всем окружающем – таковы были убеждения госпожи Мариани, и этот дух – по крайней мере какую-то его частицу – ей удалось заронить в сердце Митико. Солома быстро обращается в пепел, ко раскаленный камень остывает нескоро. Митико обладала воспламеняемостью соломы и твердостью камня.
Шли годы, Митико росла. Бесстрашная от природы, она ко всему прислушивалась, все замечала, все оценивала по-своему, размышляла. Поступки отца вызывали в ней возмущение, и она не могла не почувствовать к нему презрение и гнев. Мать, быстро уловившая неприязнь Митико к отцу, без устали твердила ей о долге детей перед родителями, толковала о разном положении мужчины и женщины в обществе, пытаясь подавить и загасить в девочке этот дух протеста, но и сама графиня подчас задавала себе вопрос: так ли уж не права ее дочь? Уговоры матери не помогали. Отец чувствовал скрытую враждебность Митико и бесился в душе. А с позапрошлого года, с тех пор как любовница родила ему сына, он и вовсе охладел к дочери.
– Ну, барышня, полно, полно… Нельзя, нехорошо так капризничать… – уговаривала Митико старая служанка. – Если батюшка разгневается, подумайте, как неприятно это будет мамаше… Ну, пойдемте же вместе с няней…
Последний довод, как видно, возымел действие – бросив ветку, Митико быстрым шагом направилась к дому.
– Постойте, барышня, постойте, подождите минутку! – старая служанка догнала Митико, потуже затянула ей пояс, поправила кимоно. – А ты, Тиё, отведи Нэда да поди посмотри, не вернулся ли отец! – приказала она горничной и вместе с Митико заторопилась к пристройке в европейском стиле, возведенной в недавнее время.
Они поднимались по лестнице, когда до слуха их донесся разгневанный мужской голос: «Негодяйка!» Старая служанка схватила Митико за плечо.
– Барышня, господин сегодня не в духе. Что бы вам ни сказали, перечить нельзя, слышите? – прошептала она.
Яркая краска залила щеки Митико. Сбросив с плеча руку старухи, она распахнула дверь.
2
Навстречу ей вскинул глаза мужчина, одетый в щегольской весенний костюм в светлую клетку; на вид ему можно было дать лет сорок пять, сорок шесть – лоб его уже начал слегка лысеть. Это и был граф Китагава. Он сидел посреди просторной комнаты, застланной красным ковром с черным узором, глубоко погрузившись в мягкое кресло, с сигарой в правой руке, заложив ногу на ногу. Комнатная туфля покачивалась на носке. Глаза у графа карие, сонные, губы тонкие, капризные, как у балованого ребенка, брови густые, – у Митико совсем такие же, – но в очертаниях рта, полускрытого рыжеватыми усами, заметно что-то слабовольное; когда он говорит, видны зубы, покрытые желтоватым налетом – наверное, от курения. Лицо у графа красное – как видно, он уже успел хватить где-то лишнего.
По другую сторону круглого столика сидела, потупившись, госпожа Китагава. При звуке открывшейся двери она подняла голову – лицо у нее слегка раскраснелось, глаза были влажны.
– Мити! Поди сюда! – голос графа звучал хрипло.
Прикрыв за собой дверь, Митико сделала несколько шагов и, остановившись, поклонилась отцу.
– Скверная девчонка!
– Митико, отчего ты не идешь сразу, когда тебя зовут? Когда папа приезжает, нужно все бросить и тотчас же идти поздороваться. Где ты была?
Митико покраснела, но ничего не ответила, в упор глядя на отца. Взгляды их встретились, и граф отвел глаза. Так бывало всегда, когда глаза отца встречались с глазами дочери.
– Все это плоды твоего негодного воспитания, Садако! Мити, за кого ты меня принимаешь, собственно говоря? Я твой отец, понимаешь ты это или нет? Смотри, смотри, опять строит эту злобную мину! Упрямая тварь! – граф ударил кулаком по столу. Лежавшее на столе пенсне подскочило и упало на пол. Дрожащий от гнева голос графа не предвещал ничего хорошего, но Митико, уловившая комизм момента, не могла сдержать улыбки. На ее беду граф заметил это.
– А, вот ты как! Смеешься?! Дрянь! Издеваешься над отцом?! – он в ярости вскочил. Графиня заслонила дочь.
– Господин! Она еще ребенок!
– По-твоему, ребенок может выставлять отца на посмешище?
– Нет, о нет, я вовсе не думала этого… Но ведь ей всего только двенадцать лет… Простите ее, прошу вас… Митико, проси прощения у папы, слышишь? Проси прощения!
Митико, залившись краской до самых ушей, стояла неподвижно с поднятой головой. Ее напряженно-серьезное личико, со сдвинутыми густыми бровями, из-под которых, как черная яшма, ярко сверкали глаза, выглядело не только красивым – в нем было что-то строго-величавое, и граф, против воли пораженный этой непоколебимой твердостью, не зная куда девать внезапно ставшие лишними кулаки, сунул руки в карманы брюк и раздраженно зашагал взад и вперед по комнате.
– Отлично, отлично, можешь не извиняться. Такая упрямая девчонка мне не нужна, так и знай. Чудесные результаты материнского воспитания… Что это – заносчивость или упорство? Да, превосходно, великолепно… – он сердито фыркнул. – Но запомни хорошенько, Мити, теперь не прежние времена, слышишь? Задирать нос, воображать себя благородной, аристократкой – в этом теперь мало прока. Вы обе с матерью начисто просчитались. Вы отстали от эпохи, вот что!
В обществе считалось, что граф Китагава – демократ душою, что он прост и приветлив в обращении с людьми, и граф немало гордился таким о себе мнением. Действительно, он охотно вступал в беседу и с плотником и с садовником, с бывшими своими вассалами разговаривал на «ты» и в этом пункте решительно расходился с графиней, которая в общении с людьми всегда соблюдала строгое различие между высшими и низшими. Правда, некоторые утверждали, что демократизм графа носит несколько односторонний характер, а именно – проявляется только с его стороны, если же собеседник пытался обратиться к нему как к равному, то граф весьма этим оскорблялся. Другие намекали, что мать графа не была законной супругой его отца, а наложницей из мещанок, и вкусы графа демократичны, так сказать, по наследству. Но как бы то ни было, в своем кругу, то есть среди аристократии, граф Китагава славился как человек, склонный к демократизму, и слова «старомодная, высокомерная, отсталая» были у него в постоянном употреблении, когда он бранил жену. Весеннее солнце клонилось к западу, за окном с громким карканьем пролетела стая ворон.
3
– Но как же все-таки прикажете понимать? Такая высокая особа – и вдруг ездила с просьбами… И к кому? К кому! Подумать только – к Фудзисава…
– Я решилась на это потому, что, как я вам уже говорила… Митико, выйди!
Митико не двинулась с места, переводя глаза с матери на отца.
– Отвечай, кто разрешил тебе ездить к Фудзисава?
– Митико, тебе говорят, выйди!
Уловив умоляющий взгляд матери, Митико в конце концов отворила дверь и вышла из комнаты.
– Сопливая девчонка – и туда же… Уже за отца меня не считает… Жена тоже находит лишним хотя бы
спросить у меня совета… – он засмеялся. – Выходит, Китагава уже ни во что не ставят… – он опять засмеялся.
Графиня хорошо знала этот смех. Это был предвестник бури – страшная опасность таилась в нем.
– Но ведь я уже просила вас простить меня… Я действительно совершила большое упущение, не посоветовавшись с вами…
– Слышал я эти речи! Я ушам своим не поверил, когда сегодня мне рассказали об этом… Приезжаю, спрашиваю – и что же? Оказывается, все правда! Чистая правда! Давно известно, что ты добродетельная, святая женщина… Но где же эта твоя святость? В чем твоя хваленая добродетель? Какая наглость, какое бесстыдство – отважиться на такой поступок! Я не ничтожный червяк, имей в виду. Я не идиот! Какая невероятная дерзость! Поставить меня в такое дурацкое положение!.. Знаешь ли, всему надо знать меру! – шагая по комнате, тяжело дыша, со вздувшимися на лбу венами, граф искоса взглянул на жену. Она сидела опустив глаза.
– Брат – аферист, сестра – любовница Фудзисава… – он громко фыркнул. – Добродетельная женщина, имеющая чудесного родственничка! Хороша, хороша, ничего не скажешь! – он разразился насмешливым хохотом, широко раскрывая сверкающий золотыми зубами рот, так что видны стали даже красные десны.
Голос графини дрожал, но черты лица и осанка не изменились, когда она проговорила:
– Господин! Осмелюсь сказать, ваши упреки слишком несправедливы. Ведь я только что так подробно вам все объяснила… Я решилась обратиться к Фудзисава, не спросясь у вас, – в этом, признаю, моя большая, тяжкая вина… Да, я виновата, но… называть меня грязным словом… будто я… будто Фудзисава… Я прожила рядом с вами двенадцать лет, так неужели вы не знаете, что я не способна на такие бесчестные поступки? Вы зашли далеко! Говорю вам, вы зашли слишком далеко! Пусть я не разумна, пусть глупа, но оскорблять мою женскую честь… Это низко! – графиня опустила голову, заглушив черным шелковым рукавом рыдания, рвущиеся сквозь крепко стиснутые зубы.
На лице графа, злобно глядевшего на белоснежный затылок и склоненную шею жены, которая, отвернувшись, стояла у задрапированного белыми занавесками окна, появилось смешанное выражение любопытства, беспокойства и удовольствия, какое бывает у озорника-мальчишки, наблюдающего за страданиями пойманного животного.
– Плачь, плачь… Может быть, какой-нибудь дурак попадется на эту удочку… Подумать только, я поселил ее в отдельном доме, а ей, оказывается, это на руку… Ни словечком не обмолвившись законному мужу, сама, по собственному своему усмотрению, отправляется к такому субъекту, как Фудзисава… Или за двенадцать лет, что ты прожила со мной, ты никогда не слыхала, что все они – Фудзисава, Киносита – самые ненавистные мне люди? К этому негодяю, к этому выскочке… И кто? Кто?!. Подумать только – графиня Китагава смиренно является с прошением… И хотя бы поехала вдвоем с кем-нибудь – нет, одна! Да разве этому можно найти оправдание?!
Гнев нарастал с каждой минутой, усиливался с каждым шагом. Граф, словно ткацкий челнок, сновал взад и вперед по комнате, сплетая вокруг жены непроницаемую ткань обвинений.
– Твой брат марает мою честь, теперь ты позоришь меня. О каком бы важном вопросе ни шло дело – разве слыхано такое?! И к кому?! К кому?.. К Фудзисава! Ты нанесла мне самое тяжкое оскорбление, какое только можно представить! Ты, верно, принимаешь меня за дурака. Не мудрено, что даже Мити насмехается надо мной. Все это твоих рук дело!
4
– Значит, сколько бы я ни просила у вас прощения, вы не хотите выслушать и понять меня?
– По-твоему, можно позволять себе что угодно, лишь бы потом просить прощения?
– О нет, поверьте я далека от подобных мыслей… Я молю вас, снова и снова молю простить меня за то, в чем я действительно виновата… Но ваши обвинения слишком несправедливы… Кто скажите, представил вам все это в таком свете?
– От кого бы я ни услышал, тебя это не должно интересовать… Хочешь знать, кто? Изволь, скажу. Слышал сегодня в одном доме ст Китадзима.
– От Китадзима? От этой… Киёко?
– Ну да, разумеется. Что тут удивительного?
– Слова такой женщины…
– Замолчи! Может быть, ты воображаешь, что оправдаешь себя, если станешь чернить других? Да, Китадзима не такая старомодная женщина, как ты. О ней говорят? В обществе всегда о чем-нибудь говорят… Обо мне тоже злословят, будто я неподобающе веду себя… Знаю, все знаю… Люди – глупцы, они глухи и слепы. Безмозглые невежды! Да, у Китадзима есть кое-какие недостатки, но она умная женщина, с ней можно поговорить, такие женщины нужны в нынешние времена. И уж во всяком случае ты ей не чета… Разве ты женщина? Ходячая святоша, вот ты кто такая!
Графиня молчала опустив голову.
– Да, ты старомодна! Ты старомодна так, что дальше некуда! Вечно мрачная, глядеть противно, воображаешь о себе невесть что, строишь из себя ходячую святость… А я терпеть не могу таких святых женщин! Вот потому-то… Потому-то я и заявляю тебе напрямик, что предпочитаю О-Суми. Конечно, она не получила образования и не родилась в семье нищего аристократа, зато душа у нее открытая, честная, не то что у некоторых – с двойным дном. Да, она не из той породы, что строят из себя воплощенную добродетель, а за спиной исподтишка позорят мужа!
Госпожа Китагава продолжала молчать, она стояла с опущенной головой, только мочки ушей у нее пылали, словно огонь.
Граф достал сигару, попытался прикурить ее от настольного хибати, но только разворошил золу и, так и не прикурив, в конце концов с досадой смял сигару и швырнул за окно. Он опять принялся ходить взад и вперед по комнате, потом остановился возле окна, за которым угасал бледный вечерний свет, широко зевнул и прошептал, словно ни к кому не обращаясь:
– Да, нелепо, нелепо… Кажется, я сделал все, что мог, начиная с приданого… Устроил достойные похороны матери… Определил в училище брата… А теперь со мной не находят нужным даже посоветоваться… И после всего этого с добродетельной миной распространяют слухи о том, что муж – распутник, бегают с жалобами к такому типу, как Фудзисава, жалуются ему, что муж – ничтожество… И это называется добродетельная женщина? Да что же это на самом деле! Какой абсурд!.. Несчастный я человек, честное слово!..
– Значит, вы не хотите принять во внимание мои извинения?
– А если не хочу, что тогда?
– Тогда, прошу вас, отпустите меня! – госпожа Китагава подняла голову и решительно взглянула на мужа. Глаза у нее были заплаканы, но голос звучал твердо.
В первый момент граф не поверил своим ушам. Но в следующее мгновенье жилы на его лбу вздулись, губы и подбородок затряслись, и он с ненавистью уставился на все еще прекрасное лицо жены, на пряди волос, выбившиеся из прически и упавшие ей на щеки.
– Дать тебе свободу? Прекрасно, с удовольствием! А получив свободу, пойдешь, наверное, куда-нибудь в хорошее место содержанкой, да? – он захихикал.
– Что вы говорите! – глаза госпожи Китагава метнули молнии сквозь застилавшие их слезы. Губы у нее пересохли, щеки вспыхнули ярким румянцем.
– Я говорю – тебе нужна свобода, потому что есть уже, наверное, подходящее местечко на примете?
– Да, есть.
– И где же это, позвольте узнать?
– В могиле.
Граф расхохотался.
– Вот уж это ваша полная воля!.. Негодяйка! Что ж, топись в речке, туда тебе и дорога!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































