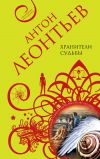Текст книги "Домой возврата нет"

Автор книги: Томас Вулф
Жанр: Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 47 страниц)
24. Человек-творец и просто живой человек
Теперь должно быть уже совершенно ясно, что все это нисколько не огорчило Джорджа Уэббера. А из-за чего, собственно, ему было огорчаться? Сбежав от охотников за знаменитостями, он всегда мог вернуться к одиночеству в своей мрачной двухкомнатной квартирке на Двенадцатой улице, и именно так он и поступил. Притом все еще приходили письма от друзей из Либия-хилла. Там его не забыли. Миновало больше четырех месяцев после выхода книги, а ему продолжали писать, и все, ее жалея труда, дотошно объясняли ему, какие чувства он у них вызывает.
В эту пору Джордж часто получал письма от Рэнди Шеппертона. С ним одним Джордж только и мог теперь говорить и в ответ изливал душу, рассказывал все, что думал и чувствовал. Только об одном не говорилось ни слова: об озлоблении земляков против писателя, который выставил их нагишом перед всем светом. Ни тот, ни другой никогда об этом не упоминали. Рэнди с первого же письма предпочитал избегать этой темы, не касаться мерзких сплетен, надеясь, что рано или поздно они иссякнут и забудутся. А Джордж – тот поначалу был слишком ошеломлен, слишком угнетен, подавлен этим шквалом злобы и просто не мог об этом заговорить. Так что они рассуждали главным образом о самой книге, обменивались мыслями о ней, обсуждали, что сказал и чего не сказал о ней тот или иной критик.
Но к началу марта следующего года поток ругательных писем пошел на убыль, превратился в тоненькую струйку, и однажды Рэнди получил от Джорджа то самое письмо, которое, как он понимал со страхом, тот не мог не написать.
«Почти всю последнюю неделю я читал и перечитывал письма, которые получил после выхода книги от моих прежних друзей и соседей. И теперь, когда голосование уже подошло к концу и большая часть бюллетеней опущена, итог оказался поразительным и привел меня в некоторое смущение. Меня ставили наравне с Иудой Искариотом, с Бенедиктом Арнольдом, с Брутом. Уподобляли птице, которая пачкает собственное гнездо, и змее, которую простодушные горожане пригрели на своей груди, и ворону, который пожирает плоть и кровь своих родных и друзей, и упырю, для которого нет ничего святого, он оскверняет могилы самых достойных мертвецов. Меня обзывали стервятником, вонючкой, свиньей, которая со вкусом, похотливо валяется в грязи, растлителем женской чистоты, гремучей змеей, ослом, уличным котом и павианом. Как ни стараюсь, не могу вообразить тварь, в которой соединились бы все эти черты, – а ведь любому писателю стоило бы познакомиться с таким малым! – и все же в иные минуты мне казалось, что мои обвинители правы…»
Читая эти словно бы шутливые строки, Рэнди понимал, что Джордж в отчаянии, – а ведь он такой мастер себя изводить, конечно же, он сейчас терзается безмерно. И Джордж почти сразу в этом признался:
«Господи! Да что же я натворил? В иные часы меня гнетет чувство ужасающей, непоправимой вины! Никогда еще до последней недели я не представлял, как безмерно, чудовищно далеки друг от друга Художник и Человек.
Как художник я могу рассматривать свою книгу с чистой совестью. Подобно всякому иному писателю, я о. чем-то сожалею, чем-то недоволен: книге надо бы быть лучше, она не достигла того уровня, какого бы мне хотелось. Я ее не стыжусь. Я чувствую, что написал ее именно так но внутренней необходимости, я должен был ее написать и, написав, остался верен тому единственному во мне, что хоть чего-то стоит.
Так говорит Человек-Творец. И вдруг все меняется, я уже не Творец, а просто Живой Человек – член общества, друг и сосед, сын и брат рода людского. И когда я смотрю на то, что сделал, с точки зрения этого человека, я сразу чувствую себя последним псом. Я вижу, сколько боли и страданий причинил людям, которых знаю, и не пойму, как же это я мог и какие тут возможны оправдания – даже если бы мой роман был велик, как «Король Лир», и убедителен, как «Гамлет».
Как ни дико это звучит, поверь: читая письма, которые просто-напросто оскорбляли, проклинали и угрожали, я даже получал своего рода нелепое, чудовищное удовольствие. Оказывается, есть горькое утешение в том, что меня обзывают самыми непотребными словами, какие только можно вспомнить или придумать, или грозят, если я посмею сунуться в Либия-хилл, тут же прострелить мне башку. Что ж, во всяком случае, написав такое письмо, бедняга хоть немного отвел душу.
Но есть письма, которые вонзаются мне в сердце, как нож острый, – эти не проклинают и не угрожают, их написали люди, которые ошеломлены и ушиблены, которые никогда не причиняли мне зла, были расположены ко мне, доверяли мне, эти люди не знают, каков я на самом деле, и теперь пишут, не тая боли, содрогаясь душой, обнаженной, исхлестанной жгучим стыдом, и, ничего не понимая, снова и снова задают мне все тот же страшный, неотступный вопрос: почему ты это сделал? Почему? Почему?
Я читаю их письма – и сам перестаю понимать почему. Я не могу им ответить. Как Человек-Творец я думал, что знаю, и думал, что ответ мой вполне исчерпывающий. Я писал о них с грубой прямотой, старался не упустить ни единой мелочи и подробности, потому что думал, что писать иначе, что-то утаивать или смягчать было бы трусостью и фальшью. Я думал, что Книга моя – сама себе оправдание.
Но теперь, когда дело сделано, я уже ни в чем не уверен. Меня терзают и сводят с ума сомнения и горькие сожаления. В иные минуты я, кажется, готов жизнь отдать, лишь бы вернуть мой роман в небытие, чтоб не было ни рукописи, ни книги. Ведь чего я этой книгой достиг? Только опозорил своих родных, друзей и всех тех в нашем городе, чья жизнь хоть как-то связана с моей? А что я спасаю среди обломков этого крушения?
«Честность художника», – скажешь ты.
О да… если б только подобное утешение могло успокоить мою совесть! Что уж говорить о честности – в ней тоже есть червоточинка. Если б я мог сказать себе, что каждое слово, каждая фраза, каждая сценка написаны мной в полную силу, непредвзято и беспристрастно! Так нет же. В памяти всплывает столько слов, столько беспощадных фраз, написанных в запальчивости, которая не имеет ничего общего ни с искусством, ни с моей честностью. Все мы люди, а не ангелы, и уж что нам не дано, то не дано! Так что же, значит, художник не может творить с чистым сердцем?
Во всей этой скверной истории есть еще и мрачная насмешка. Это же до безумия смешно: в письмах почти все проклинают меня за то, чего я не делал и чего не говорил. И еще того смехотворней – меня хвалят, хоть и неохотно, как раз за то единственное, чего у меня нет. В большинстве писем, даже в тех, где меня грозятся повесить и отказывают мне в малейших крохах таланта (кроме разве гения непристойности), меня неизменно превозносят за мою так называемую «память». Кое-кто обвиняет меня в том, что восьмилетним мальчишкой я рыскал повсюду, напихав в карманы записные книжки, – и, навострив уши и вылупив глаза, подслушивал, подглядывал, запоминал каждое слово, каждую фразу, каждый поступок моих добродетельных, ничего не подозревающих земляков.
«В жизни не читал такой похабной стряпни, но не могу не отдать тебе должное – память у тебя на диво», – весьма убедительно пишет один из моих сограждан.
А памяти-то у меня и нет. Я должен видеть что-то тысячу раз прежде, чем и вправду увижу. То, что они называют моей памятью, то, что, как им кажется, они и сами помнят, они на самом деле никогда не видели. Им чудится, будто они помнят, а на самом деле это я наконец увидел, когда поглядел в тысячный раз».
Рэнди приостановился – а ведь верно! С тех пор как вышла книга, он и сам не раз и не два своими глазами в этом убеждался.
Да, в книге Джорджа едва ли хоть одна подробность в точности такова, как оно было на самом деле, едва ли найдется хоть одна страница, где все не преобразовано, не изменено претворяющей силой его воображения; и, однако, у читателей мгновенно возникает ощущение подлинности, и многие тотчас готовы поклясться, да, это не просто «совсем как в жизни», но прямо из жизни взято, именно так было на самом деле. Оттого-то и поднялся такой крик, оттого-то на Джорджа так свирепо нападали.
Но мало того. Забавно было слушать, как люди толковали и яростно спорили друг с другом, убежденные, что тот или иной случай, то или иное событие – подлинные, просто потому, что в их памяти сохранилось нечто похожее. И уж вовсе смехотворно было, когда они торжественно заявляли (а это приходилось слышать не раз), что они сами свидетели событий, которые – Рэнди точно это знал – были лишь плодом авторского воображения.
– Ну как же! – восклицали они, когда от них требовались доказательства. – Да у него все так и написано! Он все в точности записал, как было! Ничегошеньки не изменил! Да вы поглядите на Площадь!
Они всегда возвращались к Площади, ибо в романе Площади отведено весьма почетное место. Джордж изобразил ее так живо и ярко, что в уме читателя отпечатались чуть ли не каждый кирпич, каждое оконное стекло и каждый булыжник. Но что же это была за площадь? Главная площадь Либия-хилла? Все уверяли, что это она и есть. Разве в городской газете не было напечатано черным по белому, что «наш местный летописец с фотографической точностью описал нашу площадь»? Потом люди сами прочли роман Джорджа и согласились с газетой.
Итак, спорить с ними было бесполезно – бесполезно указывать, чем площадь Уэббера непохожа на либия-хиллскую, бесполезно перечислять сотни подробностей, которые их отличают. Когда эти люди впервые обнаружили, что искусство повторило жизнь, они пришли в ярость, но были только жалки, а теперь они никак не поймут, что и жизнь повторяет искусство, – и в своем невежестве они смешны.
Рэнди с улыбкой покачал головой и снова принялся за письмо.
«Боже милостивый, что же я все-таки сделал? – писал в заключение Джордж. – Двигала мною неодолимая внутренняя потребность выразить правду как она есть или моя несчастная мать зачала и родила чудовище, изверга, который осквернил могилы и предал свою семью, родных, соседей и весь род людской? Что мне следовало сделать? Что следует делать теперь? Если ты можешь хоть как-то мне помочь, хоть что-то ответить, бога ради, напиши. Я сейчас точно сухой лист в бурю. Не знаю, куда податься. Только ты один можешь мне помочь. Не оставляй меня… Напиши мне… что ты посоветуешь?
Всегда твой, Джордж».
Каждую фразу этого письма пронизывало такое страдание, что Рэнди содрогнулся. Неприкрытую боль этой кровоточащей душевной раны он ощущал, как свою. По знал, что ни он сам, ни кто-либо еще не в силах тут помочь, дать ответ, которого ищет друг, Джордж должен найти его сам, в себе. Только так он сумеет чему-то научиться.
Поэтому когда Рэнди набрасывал ответ, он старался писать как можно небрежней, словно бы не всерьез. Незачем Джорджу думать, будто он придает такое уж большое значение отклику города. Он писал, что не знает, как бы себя повел на месте Джорджа, ведь он не писатель, но ему всегда казалось – писатель должен писать о той жизни, которая ему известна. И, желая немного развеселить Джорджа, прибавил: жители Либия-хилла – словно детишки, которых еще не посвятили в тайну рождения человека. Они, видно, все еще верят в аиста. Только те, кто понятия не имеет о мировой литературе, могли поразиться или возмутиться, узнав, откуда берется всякая хорошая книга.
И, так сказать, для разрядки, рассказал еще, что Тим Уогнер, знаменитый в городе пропойца, славящийся своим остроумием в редкие часы трезвости, с самого начала стал горячим сторонником книги Джорджа, с одной только оговоркой: «Черт возьми! Если Джорджу угодно писать о конокраде, пожалуйста. Только, надеюсь, в следующий раз он не станет указывать конокрадов адрес. И сообщать номер телефона тоже незачем».
Рэнди знал, что это позабавит Джорджа, и не ошибся. Потом Джордж даже сказал ему, что никогда ни от одного критика не слыхал ничего столь разумного и дельного.
Под конец Рэнди заверил Джорджа, что все равно считает его человеком, хоть он и писатель. И, надеясь утешить друга, прибавил в постскриптуме, что в Либия-хилле есть и еще причины для недовольства. Ходят слухи, – один из самых видных деловых людей в городе шепнул это под величайшим секретом, только-ради-бога-никому-ни-слова, – что мистер Джарвис Рига, президент крупнейшего либия-хиллского банка, в прошлом олицетворение непогрешимости, того гляди, вылетит в трубу.
«Так что сам видишь, – закончил Рэнди, – уж если сия особа оказалась с изъяном, можно, пожалуй, надеяться, что и такому негодяю, как ты, тоже простят все грехи».
25. Катастрофа
Дня два спустя после того, как Джордж получил ответ от Рэнди, он читал утром «Нью-Йорк таймс», и вдруг его внимание привлекла небольшая заметка. Она была напечатана в самом низу колонки и занимала всего каких-нибудь два дюйма, но ему бросилось в глаза название родного города.
НА ЮГЕ БАНК ТЕРПИТ КРАХ
«Либия-хилл, С.К. 12 марта – Городской коммерческий банк сегодня утром не открыл дверей – все платежи прекращены. По мере того как новость о закрытии банка распространялась, в городе и во всем округе нарастала паника. Вышеназванный банк, крупнейший в Старой Кэтоубе, с давних пор считался образцом надежности и финансовой устойчивости. Причина его краха пока неизвестна. Есть основания опасаться, что потери вкладчиков весьма значительны.
Тревога, вызванная закрытием банка, усилилась, когда среди дня стало известно о внезапной и довольно загадочной смерти мэра города Бакстера Кеннеди. Тело его найдено с простреленной головой, и все обстоятельства указывают, по-видимому, на самоубийство. Мэр Кеннеди был человек на редкость веселый и жизнерадостный и, как говорят, не имел врагов.
Есть ли какая-либо связь между двумя вышеназванными событиями, которые так резко нарушили привычный покой этого горного края, неизвестно, хотя их одновременность вызвала взволнованные толки и догадки».
«Вот оно и случилось!.. – ошеломленно подумал Джордж и медленно отложил газету. – Как тогда сказал Судья Рамфорд Бленд?»
В памяти всплыла вся сцена в уборной пульмановского вагона. Застывшие лица онемевших от ужаса заправил и отцов города, когда перед ними вдруг вырос хрупкий, но грозный слепой Судья, пронзил их невидящим взглядом и напрямик обвинил в том, что они губят Либия-хилл. Джордж вспомнил все это – и, думая о только что прочитанных новостях, уже не сомневался, что между крахом банка и самоубийством мэра существует прямая связь.
Так оно и было. Все давно уже шло к этой двойной развязке.
Джарвис Ригз, банкир, происходил из бедной, но очень уважаемой в городе семьи. Когда ему исполнилось пятнадцать, отец его умер, и Джарвису пришлось бросить школу и пойти работать, чтобы прокормить себя и мать. Он перепробовал немало всякой работы и наконец в восемнадцать лет занял скромное, но прочное положение в Коммерческом банке.
Он был способный юноша, из тех, у кого все спорится, и, шаг за шагом продвигаясь вверх по служебной лестнице, стал кассиром. У Марка Джойнера был вклад в Коммерческом банке, и дома он часто рассказывал о Джарвисе Ригзе. В ту пору Джарвис еще не возомнил о себе и не держался так напыщенно, как позднее, когда вошел в силу. Его рыжие волосы, которые потом стали безжизненно-тусклыми, тогда еще отливали золотом, круглое румяное лицо всегда освещала веселая улыбка, и он неизменно встречал клиентов бодрым и приветливым «Доброе утро, мистер Джойнер!» или «Доброе утро, мистер Шеппертон!». Он был дружелюбен, услужлив, обходителен, да к тому же малый дельный и толковый, всегда скромно и аккуратно одет и, как было всем известно, кормилец матери-вдовы. Все это снискало ему любовь и уважение. И все желали ему успеха. Ибо Джарвис Ригз был живым подтверждением американской легенды о бедняке, которому пошла на пользу юность, полная лишений, – и он «преуспел». Люди понимающе кивали друг другу и говорили:
– Этот молодой человек не витает в облаках.
– Да, он своего добьется, – говаривали они.
Так что, когда к началу тысяча девятьсот двенадцатого года пошли слухи, что небольшая группа солидных дельцов собирается основать новый банк и что кассиром там будет Ригз, эта новость всем пришлась по душе. Те, кто субсидировал новый банк, объяснили, что он вовсе не собирается конкурировать с уже существующими банками. Но отчего бы в таком растущем городе, как Либия-хилл, где неуклонно увеличивается население и ширится деловая активность, не существовать еще одному банку? Предполагалось, что деятельность нового банка будет строиться на издавна проверенных и надежных принципах. Но при всем том это будет передовой бани, дальновидный, думающий о будущем, о замечательном, золотом, великолепном будущем, уготованном Либия-хиллу, и да не посмеет никто в оном будущем усомниться. В этом смысле новый банк будет банком молодых. Вот тут-то и выступает на сцену Джарвис Ригз.
Смело можно сказать, что тому одобрению, с каким город с самого начала отнесся к новому начинанию, банк был обязан главным образом Джарвису Ригзу. Он никогда не ошибался. Ни разу никого не обидел, ни в ком не нажил врага, всегда был скромен, дружелюбен и притом безлик, словно не хотел навязываться людям состоятельным и власть имущим. По общему мнению, он всегда знал, что делает. Он обучался в самом лучшем, самом уважаемом университете – в суровой школе жизни, а работать и разбираться в банковских операциях обучился в «суровой школе опыта», и каждый понимал так: если Джарвис Ригз идет в кассиры нового банка, значит, уж наверняка банк будет надежный.
Джарвис сам ходил по городу и продавал акции нового банка. Их покупали охотно. Он давал понять, что вовсе не думает, будто на этих акциях можно разбогатеть, просто это верное и надежное помещение капитала, так это понимали и покупатели. Основной капитал банка был достаточно скромный – двадцать пять тысяч фунтов, выпущено было двести пятьдесят акций по сто фунтов каждая. Сто акций учредители, включая Джарвиса, разделили между собой, а остальные полтораста распределили в избранном кругу крупнейших коммерсантов. Как говорил Джарвис, банк – детище Либия-хилла, его первая и единственная цель – служить обществу, и потому все должны получать примерно одинаковый доход.
На таких основаниях был создан Городской коммерческий банк. И кажется, никто и оглянуться не успел, как Джарвис Ригз возвысился до вице-председателя, а потом и председателя правления банка. Бедный юноша добился своего.
В первые годы этот коммерческий банк в меру процветал, ограничиваясь скромными надежными операциями. Доходы росли неуклонно, хотя и не бросались в глаза. Когда Соединенные Штаты вступили в войну, общее процветание отразилось и на нем. Но после войны, в 1921 году, в делах настало некое временное затишье, пора «переустройства», «отлаживания». А потом двадцатые годы начались всерьез.
«Что-то носилось в воздухе» – только этим и можно объяснить то, что тогда произошло. Каждый словно чуял возможность быстро и легко разбогатеть. Все волнующе, стремительно росло и ширилось, и казалось, за что ни возьмись, тебя ждут богатство, роскошь, деньги и власть, о каких ты прежде и мечтать не смел; лишь бы хватило храбрости – подходи и бери.
Джарвис Ригз, как и все прочие, не остался равнодушен к столь заманчивым возможностям. Настало время показать, на что он способен, решил он. Коммерческий банк провозгласил себя «самым процветающим в штате». Но на чем он процветает, об этом реклама умалчивала.
То было время, когда политическая и деловая верхушка, которая заправляла судьбами города и которая в качестве «вывески» посадила мэром симпатягу Бакстера Кеннеди, начала сосредоточивать свою деятельность вокруг банка. Город рос не по дням, а по часам, жители твердо верили, что их ждут золотые горы, и никто не задумывался над тем, как безрассудно они увеличивают общественный долг. Банк выпускал все новые займы на умопомрачительные суммы, так что под конец кредитная система города обратилась в какую-то шаткую перевернутую вверх дном пирамиду, и даже улицы, по которым спокон веку ходили жители Либия-хилла, больше им не принадлежали. Доходы от этих чудовищных займов помещались в банк. Банк же отдавал эти вклады для частных и личных спекуляций политикам или их сторонникам, пособникам и приверженцам, их друзьям-коммерсантам в виде колоссальных ссуд, выдаваемых под весьма недостоверное и незначительное обеспечение. Таким образом «Обойма», как называли узкий кружок честолюбивых воротил, со временем превратилась в хитроумную широкую сеть, которая оплела все общественное здание города и опутала жизнь тысяч людей. И средоточием всего этого стал банк.
Но такую сложнейшую сеть безумных финансовых операций, спекуляций и всяческих льгот, какими пользовалась «Обойма», нельзя плести вечно, хоть многие полагали, что конца этому не будет. Должно было наступить время, когда скрытые натяжения и напряжения станут слишком велики, чтобы и дальше выдерживать весь этот груз, время, когда начнутся зловещие сотрясения – признаки надвигающегося краха. Предсказать точно, когда наступит этот час, было нелегко. Когда смотришь на солдата в бою – вот он бежит вперед, вот закружился на месте и рухнул, – можно понять, в какой миг он был сражен. Но невозможно уловить в точности миг, когда человека сразила сама жизнь.
Так было и с банком и с Джарвисом Ригзом. В одном только не оставалось сомнений: их час настал. И настал задолго до того, как по всей Америке прокатилось эхо чудовищного грохота, с каким падали акции на Уолл-стрит. Событие это, которое отразилось на Либия-хилле, как и на всей стране, вовсе не было первопричиной случившегося. Взрыв, раздавшийся на Уолл-стрит, оказался лишь начальным в череде менее мощных взрывов, которым на протяжении нескольких лет предстояло прогреметь по всей Америке, – взрывов, которые, не оставляя больше места сомнениям и отрицаниям, наконец-то показали, открыли всем взорам потаенные скопления смертоносных газов, что образовались в недрах американской жизни по милости ложного, порочного и прогнившего порядка вещей.
Задолго до взрыва, которому суждено было погубить его самого, а с ним и весь город, Джарвис Рига ощутил подземные толчки, сотрясающие его детище, и понял, что он обречен и разорен. Скоро это поняли и другие, и еще они поняли, что разорены вместе с Джарвисом. Но не позволили себе в это поверить. Не осмелились. Напротив, они пытались отвести беду, притворяясь, будто ничего худого и нет. И только пустились спекулировать еще безумней, еще неистовей.
А потом беспечный бодрячок мэр каким-то образом обнаружил то, что кое-кто из его окружения знал уже многие месяцы. Было это весной 1928 года, за два года до того, как банк прекратил платежи. Он тут же отправился к Джарвису Ригзу, сказал ему о своем открытии и заявил, что хочет изъять городские капиталовложения, Банкир смело посмотрел в глаза испуганному мэру и рассмеялся.
– Чего боитесь, Бакстер? – сказал он. – Это что же, как чуть прижало, так вы в кусты? Хотите изъять городские вклады? Ладно, изымайте. Но предупреждаю: тогда банку конец. Он завтра же закроется. А если он закроется, что станет с вашим городом? Вашему драгоценному городу тоже крышка.
Мэр побелел и в ужасе посмотрел на банкира. Джарвис Рига наклонился к нему и уже не грозил, но убеждал!
– Что ж, забирайте свои деньги, если хотите, и губите свой город. Но почему бы не остаться с нами, Бакстер? Мы уж позаботимся, чтобы все обошлось благополучно. – Теперь он улыбался, он пустил в ход все свое обаяние. – У нас временные затруднения, это верно. Но уже через полгода мы опять будем на коне. Ручаюсь. И станем сильнее, чем прежде. Либия-хилл голыми руками не возьмешь (это присловье тогда было очень в ходу). У нас еще все впереди. Но спасение и будущее города сейчас в ваших руках. Так что решайте. Что будете делать?
И мэр решил. Бедняга.
Все шло своим чередом. Время тоже не стояло на месте. Близилась развязка.
К осени 1929 года поползли неясные слухи, будто в Коммерческом банке не все ладно. Когда в сентябре Джордж ездил домой, он и сам это слышал. Но все сводилось к туманным намекам, и обычно тот, кто шепотом, пугливо их повторял, сам себя обрывал на полуслове!
– Тьфу! Пустая болтовня. Не может этого быть!. Сами знаете, людям лишь бы языки чесать.
Но слух продержался всю зиму и к началу марта, как зловещее поветрие, распространился по всему городу. Никто не знал, откуда он исходит. Казалось, его, точно яд, по капле выделяют разум, сердце, душа самого Либия-хилла.
Никаких видимых причин для паники как будто не было. Коммерческий банк по-прежнему выглядел солидно, деловито и притом торжественно. Через широкие зеркальные окна, выходящие на ту самую Площадь, в залы вливались потоки света, внутри царили чистота и прозрачность. Сама ширина этих окон, казалось, возвещала миру о полнейшей открытости и честности сего учреждения. Казалось, эти окна говорили:
– Вот он, банк, и вот они, его служащие, и они работают у всех на виду. Смотрите, люди добрые, можете сами убедиться. Мы ничего не скрываем. Банк – это и есть Либия-хилл, а Либия-хилл – это и есть банк.
Все было нараспашку, и чтобы узнать, что там делается, вовсе не требовалось заходить в помещение. Стой на тротуаре, смотри в окно – и все у тебя как на ладони. Справа окошечки кассиров, а слева, отгороженные невысоким барьером, за роскошными столами красного дерева сидели банковские служащие. За самым большим столом, прямо у барьера, восседал Джарвис Ригз собственной персоной. Восседал – и важно, самонадеянно, тоном, не допускающим возражений, разговаривал с кем-нибудь из клиентов. Восседал – и молниеносно просматривал бумаги, аккуратной кипой возвышающиеся у него на столе. Восседал – и порой отрывался от работы и в глубокой задумчивости уставлялся в потолок или откидывался на спинку вертящегося кресла и слегка покачивался, о чем-то размышляя.
Все в точности, как всегда.
А потом грянул гром.
Двенадцатое марта 1930 года стало днем, который надолго сохранится в анналах Либия-хилла. Двойная трагедия отлично подготовила сцену для чудовищных недель, которые за ней последовали.
Если бы в тот день в девять утра все городские колокола ударили в набат, и то весть о закрытии Коммерческого банка не могла бы разнестись быстрей. Она передавалась из уст в уста. И почти тотчас на Площадь со всех сторон хлынули мужчины и женщины с побелевшими от ужаса лицами. Сюда сбегались хозяйки в фартуках, с еще не высохшими от мытья посуды руками; рабочие и механики с еще не остывшими инструментами; коммерсанты и конторские служащие, позабывшие надеть шляпу; молодые матери с младенцами на руках. Казалось, едва услыхав новость, все до единого побросали свои дела и кинулись на улицу.
Скоро на Площади уже бурлила толпа обезумевших горожан. В отчаянии они снова и снова спрашивали друг друга все о том же – неужели правда? Как же это случилось? Далеко ли зашло?
Перед самым банком толпа, уже вовсе оглушенная, немного притихла. Рано или поздно каждого притягивала к этим дверям безрассудная надежда: вдруг еще можно убедиться собственными глазами, что все это неправда. Словно медлительное течение среди бурлящей толпы, люди чередой тянулись мимо и, увидев запертые, неосвещенные двери, понимали, что надежды тщетны. Иные просто ошеломленно глядели в одну точку, некоторые женщины стонали и плакали, из глаз сильных мужчин текли слезы, а другие гневно роптали.
Ибо катастрофа все-таки разразилась, они разорены. Многие потеряли все, что скопили за целую жизнь. Но разорены были не только вкладчики банка. Остальные теперь тоже понимали, что процветание кончилось. Они поняли: крах банка заморозил все их спекуляции, и теперь им уже не выпутаться. Только вчера они исчисляли свои бумажные богатства тысячами и миллионами; а сегодня у них ни гроша, богатства как не бывало, и на каждом бремя долгов, с которыми вовек не расплатиться.
И они еще не знали, что городское управление тоже обанкротилось, что за этими закрытыми безмолвными дверями навсегда пропали шесть миллионов долларов, принадлежащих городу.
Незадолго до полудня этого зловещего дня мэр Кеннеди был найден мертвым. И, словно в насмешку над случившимся, труп мэра обнаружил слепец.
На следствии Судья Рамфорд Бленд показал, что он вышел из кабинета в своем ветхом доме на Площади и направлялся по коридору в уборную, дабы справить нужду. Было темно, сказал он с обычной своей неуловимой улыбкой, половицы скрипели, но это пустяки – он ведь знает дорогу. И захотел бы заблудиться, так не сумел бы. Слышно, как в конце коридора капает вода – неторопливо, непрестанно, однообразно; и притом тянет вонью от жестяного писсуара, так что просто надо идти на запах.
Он в темноте дошел до двери, толчком ее отворил и вдруг задел за что-то ногой. Наклонился, пошарил белыми тонкими пальцами, и вдруг они погрузились в мокрое, теплое, липкое, дурно пахнущее – в кашу, которая еще пять минут назад была лицом и мозгом живого человека.
Нет, выстрела он не слышал… На Площади как раз была эта адская суматоха.
Нет, он понятия не имеет, как тот здесь очутился… просто вошел, наверно, ведь муниципалитет всего в тридцати шагах.
Нет, он не знает, почему его честь выбрал именно уборную, чтобы пустить себе пулю в лоб… у каждого свой вкус… но уж если захотел стреляться, это место не хуже других.
Вот так он был найден, этот беспечный, добродушный любитель медлить да откладывать Бакстер Кеннеди, мэр Либия-хилла, – вернее, то, что от него осталось, – найден во тьме, злым слепым стариком.
Дни и недели после закрытия банка Либия-хилл являл собой трагическую картину, – ничего похожего в Америке, пожалуй, прежде не видывали. Но в последующие несколько лет все это повторялось снова и снова во множестве городов и городишек, в каждом чуть на свой лад.
Крах города был пострашней, чем крах банка и развал всей городской экономики и финансов. Правда, когда банк прекратил платежи, вся обширная и сложная система, которая на нем покоилась и ответвления которой проникли во все области городской жизни, рухнула и развалилась. Но, прекратив платежи, банк словно пробил первую брешь, – все обрушилось, обнажив разрушения более глубокие и гибельные, самую суть катастрофы – крах человеческой совести.
Вот перед вами город, в нем пятьдесят тысяч жителей – и все они так прочно забыли обо всякой честности в делах личных и общественных, не говоря уже о здравом смысле и порядочности, что, когда разразилась катастрофа, им неоткуда было черпать душевные силы, чтобы ей противостоять. Город, можно сказать, пустил себе пулю в лоб. В первые десять дней застрелилось сорок человек, а потом их примеру последовали и другие. И, как водится, многие из тех, кто покончил с собой, были виноваты куда меньше прочих. Остальные – и это было ужасней всего – вдруг столь глубоко осознали свою чудовищную вину, что не в силах были достойно встретить последствия и, точно свора остервенелых псов, вцепились друг другу в глотку. Они взывали о мести, жаждали крови Джарвиса Ригза. Но в них кричала не попранная справедливость, не обманутая невинность, а нечто прямо противоположное. Именно сознание высшей, насмеявшейся над ними бесповоротной справедливости поразившего их удара и сознание, что во всем виноваты они сами, и приводило их в бешенство. Потому-то они разъярились, потому-то и взывали о мщении.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.