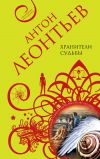Текст книги "Домой возврата нет"

Автор книги: Томас Вулф
Жанр: Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 42 (всего у книги 47 страниц)
– Дома ко мне относятся куда прохладней, Франц.
– Знаю. Но я заметил, в Америке каждого любят один год… а потом плюют на него. Здесь же многие считают, что вы великий писатель, – серьезно сказал Хейлиг. – И будет просто ушасно, будет очень жаль, если вы все испортите. Вы ведь этого не сделаете? – спросил он и снова серьезно, с тревогой посмотрел на Джорджа.
Джордж молчал, глядя в одну точку, и ответил не сразу:
– Писать надо то, что должен писать. И делать надо то, что должен делать.
– Значит, если вы почувствуете, что должны что-то сказать… о политике… об этих тупоумных ослах… обо всем…
– А о жизни? – перебил Джордж. – О людях?
– Значит, скажете?
– Да, скажу.
– Даже если это вам повредит? Даже если все вам здесь испортит? И мы уже не сможем больше читать ваши книги? – Обращенное к Джорджу сморщенное личико стало очень серьезно, Хейлиг с тревогой ждал ответа.
– Да, Франц, все равно я скажу то, что думаю.
Хейлиг помолчал, явно колеблясь, потом спросил:
– Даже если вы что-нибудь такое напишете, и… и они вас больше сюда не впустят?
Теперь молчал Джордж. Тут было о чем подумать. И наконец все-таки сказал:
– Да, я и на это пойду.
Хейлиг резко выпрямился, задохнулся от гнева, сказал сурово:
– Знаете, кто вы такой? Вы есть большой дурак. – Он встал, отшвырнул сигарету и взволнованно заходил по комнате. – Зачем себе вредить? – кричал он. – Зачем писать такое, после чего вы больше не сможете сюда приехать? Вы же любите Германию! – Он круто обернулся, с тревогой спросил: – Ведь правда любите?
– Да, конечно. Кажется, как никакую другую страну.
– И мы вас любим! – воскликнул Хейлиг, меряя комнату шагами. – Мы ведь тоже так вас любим. Вы для нас не чужой, Шорш. Я вижу, как на вас смотрят на улице: вам все улыбаются. Что-то в вас людям по душе. Помните, когда мы ходили в белошвейную мастерскую, вам понадобилась рубашка… так там все девушки спрашивали: «Кто он такой?» Все хотели про вас знать. Они в тот день работали на два часа дольше, до девяти часов, кончали вашу рубашку. Уж как вы плохо говорите по-немецки – и то всем нравится. Официанты в ресторанах кидаются обслуживать вас прежде всех, и не ради чаевых. Вы здесь как дома. Вас все здесь понимают. Вы знаменитость, для нас вы большой писатель. И ради несчастной политики, из-за этих тупоумных ослов, – сказал он с горечью, – вы теперь возьмете и все испортите.
Джордж не отозвался. И Хейлиг, по-прежнему лихорадочно меряя комнату шагами, продолжал:
– Зачем вам это? Вы не политик. Не занимаетесь партийной пропагандой. Вы не из этих жалких нью-йоркских салонных коммунистиков. – Последние слова прозвучали зло, светлые глаза сузились. – Можно, я вам что-то скажу? – Он на мгновенье умолк, поглядел на Джорджа. – Ненавижу этих людишек… проклятых эстетов… литераторов-пропагандистов. – Он весь сморщился, скорчил жеманную пренебрежительную гримаску, выставил перед собой два сжатых пальца, поглядел на них, томно прикрыв глаза, притворно покашлял и, нарочито жеманясь, карикатурно процитировал вычитанное в какой-то статье: «Да будет мне позволено сказать, прозрачность Darstellung[30]30
изображения (нем.)
[Закрыть] в романе Уэббера…» – он снова покашлял. – Этот болван, который написал про вас в «Ди даме», этот шалкий эстетишка с его рассуждениями о прозрачности Darstellung… Можно, я вам что-то скажу? – яростно выкрикнул он. – Не выношу этих типов! Они повсюду одинаковы. Такие и в Лондоне есть, и в Париже, и в Вене. Они и в Европе-то хороши, а уж в Америке! – выкрикнул он, и в лице его опять вспыхнула веселая отчаянность. – О, Gott! Разрешите вам сказать, от них просто с ума сойти можно! Откуда они у вас такие берутся? Европейские эстеты и те говорят: «Бог мой, эти проклятущие, эти чертовы американские эстеты… от них с ума сойти можно!»
– Это вы все про коммунистов? Вы ведь с них начали?
– Ну, ладно, – холодно отрезал Хейлиг с надменным вызовом, который все чаще выражало его лицо, – это не важно. Не все ли равно, как они себя называют. Все они одинаковы. Все эти экспрессионистики, сюрреалистики, коммунистики… пускай называют себя как угодно, на самом-то деле они – ничто. И уш поверьте, я их терпеть не могу. Надоели мне все эти людишки вчерашнего дня, – сказал он и брезгливо отвернулся. – Все это не важно. Что бы они там ни говорили, все не важно. Потому что ни черта они не понимают.
– Так вот как вы думаете о коммунизме, Франц? Что же, по-вашему, все коммунисты – просто салонные болтуны?
– Ох, die Kommunisten, – устало произнес Хейлиг. – Нет, я не думаю, что все они болтуны. А коммунизм… что ж, – он пожал плечами, – коммунизм – это прекрасно. Наверно, когда-нибудь он настанет во всем мире. Только едва ли мы с вами до этого доживем. Это слишком далекая мечта. А все это сегодняшнее не для вас. Вы не из числа литераторов-пропагандистов… вы – писатель. Ваше дело смотреть вокруг и писать о мире и о людях, какими вы их видите. Писать пропагандистские речи и называть их книгами – это не ваше дело. Это не для вас. Для вас такое невозможно.
– Но, предположим, я пишу о мире и о людях так, как я их вижу, и получается совсем не так, как считает партия, как тогда быть?
– Значит, вы есть большой дурак, – в сердцах произнес Хейлиг. – Вы можете писать о чем вздумается и при этом не восстанавливать нацистов против себя. Вам незачем их поминать. А если уж вы их помянете, но ничего хорошего о них не скажете, значит, нам больше не дадут возможности вас читать, а вас больше сюда не пустят. Зачем вам это? Будь вы из числа нью-йоркских пропагандистов, вы бы могли говорить такое сколько душе угодно, и это было бы совершенно неважно. Они-то могут говорить все, что им вздумается, но ведь они совсем нас не знают и ничего им это не стоит. А вы… вы потеряете так много…
И опять он молча, лихорадочно мерил комнату шагами, сильно затягивался сигаретой, потом вдруг повернулся и требовательно, грубо спросил:
– По-вашему, у нас здесь совсем скверно… с этой нашей партией и с этими тупицами? По-вашему, было бы лучше, будь у нас две партии, как в Америке? – И, не дожидаясь ответа, продолжал: – Если так, я думаю, вы ошибаетесь. Здесь, конечно, скверно, но, я думаю, скоро и у вас будет не лучше. Эти проклятые ослы… их всюду хватает. У вас они ничуть не лучше, просто выглядит это иначе. – Он вдруг серьезно, испытующе взглянул на Джорджа. – Думаете, вы у себя в Америке свободны, да? – Он покачал головой. – Сильно сомневаюсь. Свободны только эти гнусные тупицы. Здесь они свободны указывать, что нам читать и во что верить, и, по-моему, в Америке то же самое. Изволь думать и чувствовать, как они, и говорить то, что они желают от тебя услышать… а иначе тебя убьют. Разница только в том, что здесь у них в руках еще и власть. А в Америке они пока не у власти, но подождите, они своего добьются. Мы, немцы, показали, как это делается. И тогда здесь вы будете свободнее, чем в Нью-Йорке, ведь здесь вас ценят больше, чем в Америке, так я думаю. Здесь вами восхищаются. Здесь вы американец, и вам даже позволено говорить и писать такое, чего не позволено ни одному немцу – пока вы ничего не сказали против партии. Думаете, в Нью-Йорке вам тоже дадут такую волю?
Долгие минуты он молча шагал по комнате, останавливался, испытующе взглядывал на Джорджа. И, наконец, сам ответил на свой вопрос:
– Нет, не дадут. Эти, наши… они сами называют себя нацистами. По-моему, они честней американцев. В Нью-Йорке они придумывают себе какое-нибудь красивое имя. Они, видите ли, Дочери революции. Или Американский легион. Или Деловые люди, Торговая палата. Названий много, а суть одна, и, по-моему, все они тоже нацисты. Эти гнусные тупицы есть повсюду. Они не про вас. Вы не пропагандист, не политик.
Опять наступило молчание. Хейлиг все ходил из угла в угол, ждал, что Джордж как-то отзовется на его слова. Не дождался и снова заговорил. И дальнейшие его слова раскрыли Джорджу, как глубоко циничен и равнодушен его друг, – такого он не подозревал, даже представить себе не мог, что Хейлиг, с его чуткой душой, на это способен.
– Если вы напишете что-нибудь против наци, вы доставите удовольствие евреям, – говорил Хейлиг, – но приехать в Германию больше не сможете, а для всех нас это будет ушасно. И можно, я вам что-то скажу? – жестко, отрывисто произнес он и свирепо глянул на Джорджа. – Не люблю я этих чертовых евреев, все равно как тех остолопов. Хрен редьки не слаще. Когда у них все хорошо, они говорят: «Мы такие замечательные, плевать нам на вас и на вашу паршивую страну». А когда дела их плохи, они сразу превращаются в несчастных еврейчиков, и рыдают, и ломают руки, и говорят: «Мы всего-навсего несчастные, повергнутые в прах евреи, вы только посмотрите, что с памп делают». Так вот, меня это не трогает, – жестко сказал он. – Это не столь важно. То, что эти чертовы остолопы делают с евреями, преглупо, но меня это не волнует. Это не важно. Я видел евреев, когда они обладали силой и властью, и они были просто ушасны. Они думали только о себе. А на нас всех плевали. Так что это не важно, – жестко повторил он. – Эти толстопузые евреи ничуть не лучше наших остолопов. Будь у меня пулемет, я и их бы расстрелял. Меня еще волнует только одно – что эти остолопы сделают с Германией, с немцами. – Он с тревогой посмотрел на Джорджа и сказал: – Вы ведь любите немцев, правда, Шорш?
– Очень, – чуть не шепотом ответил Джордж, и так ему стало невыносимо горько за Германию, за немцев, за друга, что больше он не в силах был вымолвить ни слова. Хейлиг прекрасно понял, что означает этот до шепота упавший голос. Пронзительно посмотрел на Джорджа. Потом глубоко вздохнул, и ожесточение его как рукой сняло.
– Да, конечно, любите, – сказал он негромко. И мягко прибавил: – В сущности, они хороший народ. Большие дураки, конечно, но не такие уж плохие.
Он помолчал. Вдавил сигарету в пепельницу, снова вздохнул и сказал не без грусти:
– Что ж, вы будете делать то, что должны. Но вы есть большой дурак. – Он посмотрел на часы, положил руку Джорджу на плечо. – Пошли, дружище. Теперь пора.
Джордж поднялся. Долгую минуту они стояли молча, глядя друг на друга, потом обменялись крепким рукопожатием.
– До свидания, Франц, – сказал Джордж.
– До свидания, Шорш, дорогой, – негромко сказал Хейлиг. – Нам будет очень вас не хватать.
– А мне вас, – сказал Джордж.
И они вышли.
40. Последнее прости
Когда они сошли вниз, счет был уже готов, и Джордж расплатился. Проверять было незачем: здесь никогда не обсчитывали и никогда не ошибались. Джордж щедро отблагодарил старшего портье – седого, коренастого, строго деловитого пруссака, и старшего официанта. Дал целую марку улыбающемуся мальчику-лифтеру, тот в ответ щелкнул каблуками и поклонился. Джордж бросил последний взгляд на выцветшую, уродливую, но странно приятную обстановку маленького вестибюля, еще раз попрощался и быстро спустился по ступенькам на улицу.
Портье был уже там. Багаж лежал подле него на краю тротуара. В эту минуту подъехало такси, и он все погрузил. Джордж дал ему на чай, пожал руку. Дал на чай и швейцару – этот огромный детина, улыбчивый, простодушный и дружелюбный, всякий раз, как Джордж входил в гостиницу или выходил, похлопывал его по спине. Наконец влез в такси, сел подле Хейлига и велел шоферу ехать на вокзал Цоо.
Машина развернулась, покатила по противоположной стороне Курфюрстендамм, потом по Йоахимталенштрассе и через три минуты остановилась у вокзала. До прихода поезда – он шел от Фридрихштрассе – еще оставалось несколько минут. Багаж отдали носильщику, и он сказал, что будет ждать их на перроне. Хейлиг бросил монету в автомат, взял перронный билет. Они прошли контроль, поднялись по ступеням.
На перроне уже толпились пассажиры. Как раз подошел поезд с запада, со стороны Ганновера и Бремена. Сошло довольно много народу. По другим путям прибывали и отбывали сверкающие местные поезда; их яркие вагоны – красновато-коричневые, красные, золотисто-желтые – идущие с востока на запад, с запада на восток, по всем направлениям, во все районы города, были переполнены рабочими утренней смены. Джордж смотрел на пути, убегающие на восток, откуда вот-вот покажется его поезд, и видел семафоры, тонко прочерченные рельсы, верхние этажи домов, густую зелень Зоологического сада. Стремительно, почти бесшумно прибывали и отбывали местные поезда. Выплескивали потоки спешащих людей, вбирали новых. Все так знакомо, так славно, так по-утреннему. Казалось, он знал это всегда, и чувство было то же, что всегда, когда расстаешься с каким-нибудь городом: нахлынули грусть, сожаленье, мучительное ощущение незавершенности – ведь здесь остаются люди, которых он не успел узнать, есть и такие, что могли бы стать его друзьями, но неумолимый миг отъезда приближается и все теряется, исчезает, ускользает из рук.
В другом конце перрона с лязгом отворились двери грузового лифта и носильщики выкатили на перрон доверху нагруженные тележки. Джордж увидел и своего носильщика, и среди чемоданов и саквояжей на его тележке – свой чемодан. Носильщик кивнул ему, показал, где стать.
В эту минуту Джордж обернулся и увидел, что по перрону к нему идет Эльза. Она шла медленно, как всегда, широким, ритмичным шагом. Она шла, и ее провожали глазами. На ней был светлый жакет грубой плотной ткани и такая же юбка. И весь ее облик был отмечен особым, только ей присущим стилем. Она и в отрепьях выглядела бы так же. Великолепная высокая фигура поражала таинственным, волнующим сочетанием изящества и силы. Эльза несла книгу и, подойдя, отдала ее Джорджу. Он сжал ее руки – для такой крупной женщины они были на удивленье красивые, кисть чуткая, длинная, белая и нежная, как у ребенка, – и почувствовал, что они холодны и пальцы дрожат.
– Эльза, ты ведь знакома с герром Хейлигом? Франц, вы помните фрау фон Колер?
Эльза повернулась, посмотрела на Хейлига холодно и сурово. Хейлиг ответил ей столь же враждебным безжалостным взглядом. Они смотрели друг на друга с устрашающей подозрительностью. Джордж не раз замечал такое при встрече немцев, которые либо совсем не были знакомы, либо мало знали друг друга. Они сразу настораживались, словно вид другого не вызывал доверия, и прежде, чем проявить дружелюбие и отнестись доброжелательно, им требовалось удостоверение личности, какие-то гарантии. Джордж к этому уже привык. Другого ждать не приходилось. И все-таки всякий раз в нем поднималась тревога. Он не мог примириться с этим, принять неизбежность, как, видимо, примирились и приняли многие немцы, ведь он никогда не видел ничего подобного ни у себя в Америке, ни где-либо еще.
А между этими двумя обычная подозрительность была вдобавок подогрета глубокой, безотчетной неприязнью. Пока они вот так рассматривали друг друга, что-то сверкнуло между ними, холодное и жесткое, как сталь, мгновенное и обнаженное, как рапира. Недоверие и вражда возникли у обоих, хотя они не произнесли ни слова; потом Эльза чуть склонила голову и холодно произнесла на своем безукоризненном английском языке:
– По-моему, мы виделись на приеме у Граушмидта в честь Джорджа. – Выговор едва ли выдавал, что английский язык ей не родной, это ощущалось лишь изредка в случайной фразе или излишней отчетливости произношения.
– По-моему, тоже, – сказал Хейлиг. И, все еще глядя на нее с откровенной враждебностью, холодно продолжал: – А рисунок Граушмидта в «Тагеблатт»… вам он, конечно, не понравился… да?
– Портрет Джорджа? – с насмешливым недоумением переспросила Эльза. И ее суровое лицо вдруг осветилось ослепительной улыбкой. Она с презрением рассмеялась: – Тот рисунок вашего друга Граушмидта, где Джордж получился таким милым и прелестным душкой-тенором?
– Значит, не нравится? – холодно произнес Хейлиг.
– Да нет же! – воскликнула она. – Как портрет душки-тенора, как рисунок герра Граушмидта, который сам такой, так видит и чувствует, – это превосходно! Но при чем тут Джордж? Этот портрет так же мало похож на Джорджа; как и вы!
– Тогда позвольте вам что-то сказать, – холодно, ядовито произнес Хейлиг. – По-моему, вы ровно ничего не смыслите. Рисунок отличный, все так считают. Сам Граушмидт говорит, это одна из его лучших работ. Он ее очень любит.
– Ну, naturlich![31]31
естественно, конечно (нем.)
[Закрыть] – съязвила Эльза и снова презрительно засмеялась. – Герр Граушмидт много чего любит. Прежде всего он любит себя. Любит все, что выходит из его рук. Любит музыку Пуччини, – стремительно продолжала она. – Он поет «Ave Maria». Он любит слезливые песенки Хильбаха. Любит, чтоб в комнатах был полумрак, красные абажуры и мягкие подушки. Он романтик и любит говорить о своих чувствах. Он думает: «Мы, люди искусства!»
Хейлиг пришел в ярость.
– Позвольте вам сказать… – начал он.
Но Эльзу было уже не сдержать. Она сердито отошла на шаг и снова повернулась, на щеках у нее горели два гневных пятна.
– Ваш друг, герр Граушмидт, любит разглагольствовать об искусстве. Он говорит: «Этот оркестр изумителен!»… а музыку не слушает. Он идет на шекспировский спектакль, а сам говорит: «Мэйер изумительный актер». Он…
– Позвольте вам сказать… – Хейлиг захлебнулся от злости.
– Он любит девочек на высоких каблуках, – задыхаясь, продолжала Эльза. – Он состоит в СА. Когда он бреется, он надевает на голову сетку. Он, разумеется, покрывает ногти лаком. Он собирает фотографии – свои и других великих людей. – И, задыхаясь, но торжествуя, она повернулась и сделала несколько шагов в сторону, чтобы успокоиться.
– Ну и публика! – проскрежетал Хейлиг. – О, Gott! От них с ума можно сойти! – Обернулся к Джорджу, произнес ядовито: – Позвольте вам сказать… Эта… эта особа… эта ваша Эльза фон Колер… она просто дура!
– Одну минуту, Франц. Я не согласен. Вы ведь знаете, какого я о ней мнения.
– Так вот, вы ошибаетесь, – сказал Хейлиг. – Вы не правы. Позвольте вам сказать, опять вы есть большой дурак. Ну, ладно, это не важно, – резко оборвал он себя. – Пойду куплю сигарет, а вы попробуйте поговорите с этой глупой бабой. – И, все еще задыхаясь от ярости, он круто повернулся и зашагал прочь.
Джордж подошел к Эльзе. Она все еще не успокоилась, быстро и тяжело дышала. Он взял ее за руки – они дрожали.
– Этот злобный человечек, – сказала она. – Его имя означает «святой», а сам он такой озлобленный… и он меня терпеть не может. Он тебя так ревнует. Он хочет, чтоб ты принадлежал ему одному. Он врал тебе. Пытался на меня наговаривать. А я все знаю! – горячо продолжала она. – Мне все рассказывают! Только я не слушаю! – сердито воскликнула она. – Ох, Джордж, Джордж! – Она вдруг взяла его за плечи. – Не слушай этого злобного человечка. Сегодня ночью (она понизила голос до шепота) мне приснился странный сон. Такой странный сон и такой хороший, чудесный… про тебя. Не слушай ты этого злобного человечка! – с жаром воскликнула она и тряхнула Джорджа за плечи. – Ты человек верующий. Ты художник. А художник всегда – верующий.
Тут на перроне показался Левальд и направился к ним. Розовое лицо его, как всегда, казалось здоровым и свежим. Неизменная жизнерадостность наводила на мысль, что он постоянно подбадривает себя спиртным. Даже в этот ранний час его, казалось, переполняло хмельное ликованье. Он медленно, неуклюже двигался по перрону, покачивая широкими плечами и выпяченным животом, и все вокруг заражались его веселостью и невольно улыбались ему, улыбались весело, но и с оттенком уважительности. Ни круглая розовая физиономия, ни огромный живот не делали Левальда смешным. Впервые увидев его, люди поражались – до чего красив! Он не казался толстяком, скорее великаном. Он вперевалку шел по перрону, и все вокруг ощущали в нем непринужденную, но властную значительность. Его едва ли можно было принять за дельца, да притом дельца расчетливого и ловкого. Весь его облик скорее наводил на мысль о прирожденной, безотчетной склонности к богеме. Напрашивалась догадка, что он из военных – не из породы прусских офицеров, а из тех гуляк, кто уже отслужил свое, но еще недавно служил с удовольствием, радовался шумливому буйному товариществу, обжорству, выпивкам, похождениям с женщинами – да так оно и было.
Во всем его облике ясно читался огромный вкус к жизни. При встрече с ним каждый угадывал это в первую же минуту, оттого ему и улыбались. Казалось, в нем играет хмель, широкая натура, чуждая условностей. Вся повадка выдавала стихийную силу, что вырвалась за пределы привычного, заведенного порядка вещей. Он был из тех, кого распознаешь мгновенно, кто ярко и светло выделяется на фоне житейской серости, из тех, в ком ощущаешь неодолимое притягательное тепло, красочность и страсть. Его тотчас заметишь в любой толпе – совсем особенный, отдельный, он властно приковывает все взгляды, на него смотрят с волнением, с жадным интересом и долго будут помнить, хоть и видели-то краткий миг, как помнят единственную в пустом доме комнату, в которой была мебель и пылал камин.
И вот сейчас, еще издали, он стал шутливо грозить Джорджу пальцем и укоризненно качать большой головой. Подойдя, он хмельным гортанным голосом затянул начало непристойной песенки, которой он обучал Джорджа и которую они часто вместе певали в бесшабашные вечера, что проводили в доме Левальда.
– Lecke du, lecke du, lecke du die Katze am Arsch…[32]32
Полижи, полижи, полижи-ка киску… (нем.)
[Закрыть]
Эльза вспыхнула, но Левальд в последнюю минуту оборвал себя на полуслове и, снова погрозив Джорджу пальцем, воскликнул:
– Ach du![33]33
Ах ты! (нем.)
[Закрыть] – И потом, жуликовато помаргивая маленькими глазками и все время грозя пальцем, лукаво и ликующе протянул: – Плути-ишка! Плути-ишка! – И вдруг весело воскликнул: – Джордж, дружище! Где тебя, плута, носило? Я вчера тебя весь вечер искал, а ты как сквозь землю провалился!
Джордж не успел ответить – подошел Хейлиг с сигаретой в зубах. Джордж вспомнил, что эти двое уже встречались, но сейчас ни Хейлиг, ни Левальд ничем не обнаружили, что знают друг друга. Напротив, при виде маленького Хейлига веселое добродушие Левальда как ветром сдуло, на лице его застыло выражение ледяной сдержанности и подозрительности. Джордж так растерялся, что забыл о приличиях, и вместо того, чтобы познакомить Левальда с Эльзой, запинаясь, представил ему Хейлига. Тогда Левальд соизволил его заметить – чопорно, сухо поклонился. Хейлиг еле кивнул и ответил таким же холодным взглядом. Джордж совсем смутился и не знал, как быть, но тут Левальд вновь показал себя хозяином положения. Он повернулся к Хейлигу спиной и с прежней шумной, бьющей через край веселостью, схватив Джорджа за плечо мясистой ручищей и любовно похлопывая его другой рукой, закричал:
– Джордж! Где ж тебя носило, плутишка ты этакий? Почему в последние дни ко мне не заглядывал? Я ж тебя ждал!
– Да я… я… – начал Джордж, – право, я собирался зайти, Карл. Но я ведь знал, что ты придешь меня проводить, и как-то так получалось, что я не попадал в твои края. Понимаешь, столько дел оказалось…
– И у меня тоже! – воскликнул Левальд, дурашливо подчеркивая последнее слово. – У меня тоже, – повторил он. – Но я-то… я для друзей всегда нахожу время, – с упреком сказал он, и все похлопывал Джорджа по плечу, из чего явствовало, что не так уж он обижен.
– Карл, – сказал наконец Джордж, – ты, конечно, помнишь фрау фон Колер?
– Aber naturlich![34]34
Ну разумеется! (нем.)
[Закрыть] – воскликнул тот с преувеличенной любезностью, с которой всегда обращался к женщинам. – Как поживаете, Gnadige Frau?[35]35
сударыня (нем.)
[Закрыть] – сказал он и продолжал по-немецки: – Могу ли я забыть удовольствие, которое вы доставили мне, посетив один из моих приемов! Но с тех пор я ни разу не видел вас и все реже и реже видел старину Джорджа. – Тут он обернулся к Джорджу и, грозя ему пальцем, снова перешел на английский: – Ах ты плут! – сказал он.
Его игривая любезность не произвела на Эльзу ни малейшего впечатления. Лицо ее оставалось все таким же суровым. Она не давала себе труда скрыть пренебрежение к Левальду и лишь окинула его равнодушным взглядом. Однако Левальд словно бы ничего не заметил и опять шумно и цветисто обратился к ней по-немецки:
– Gnadige Frau, я вполне могу понять, почему вышеупомянутый Джордж меня покинул. Он нашел нечто куда более увлекательное, чем все, что мог ему предложить бедняга Левальд. – Тут он снова обернулся к Джорджу и, хитро помаргивая крохотными глазками и грозя пальцем перед самым носом Джорджа, лукаво и нелепо промурлыкал: – Плу-ут! Плути-ишка! – словно говоря: «Ага, негодник, попался!»
Эту речь Левальд произнес единым духом в своей особой манере, – в манере, что вот уже тридцать лет известна всей Европе. Он грозил Джорджу пальцем с этакой детски наивной шаловливостью, и к Эльзе обращался грубовато, весело, дружелюбно и добродушно. И казалось – вот простая душа, сколько обаяния, сколько радостной доброжелательности ко всем на свете. Джордж не раз видел ату его повадку, когда тот при нем знакомился с новым автором, принимал кого-нибудь у себя в издательстве, когда разговаривал по телефону или приглашал друзей на прием.
И вот сейчас Джордж снова наблюдал глубокую разницу между манерой поведения и человеческой сутью. Грубоватая, дружелюбная откровенность была лишь маской, в которой Левальд представал перед миром – так прикрывается изысканной грацией умелый матадор, готовясь нанести решительный удар нападающему быку. За этой маской скрывалась его истинная душа – хитрая, ловкая, изворотливая, коварная. Джордж снова заметил, какие у Левальда мелкие, острые черты. Большая светловолосая голова, широкие плечи и пухлые, отвислые, багрово-румяные щеки любителя выпить – все это было крупно, даже величественно, однако все прочее не подтверждало этого впечатления. Рот был на редкость крохотный и чувственный, и всегда на губах играла бесстыдная усмешечка, было в ней что-то хитрое, пронырливое, словно он втайне облизывался и у него постоянно слюнки текли в предвкушении всяческих непристойных пикантностей. И носик тоже маленький, востренький, ко всему принюхивающийся. И маленькие, голубые глазки поблескивали коварной веселостью. Чувствовалось, что они все подмечают, им открыта вся человеческая комедия и они втихомолку наслаждаются ею, да притом еще в хитро забавляются ролью грубоватого простака, которую играет их обладатель.
– Постойте-ка! – вдруг воскликнул Левальд и распрямил плечи, словно стараясь мгновенно стать серьезным. – Я вам кое-что принес от моя муж… Что такое? – прибавил он, когда Джордж ухмыльнулся, и с простодушным видом растерянно, вопросительно поглядел на всех троих.
То была обычная для его ломаного английского ошибка. Он всегда называл жену «моя муж» и нередко говорил Джорджу, что когда-нибудь он тоже найдет себе «хорошая муж». Но произносил он это слово с таким забавным простодушием, голубые его глазки на розовом пухлом лице поблескивали так ангельски невинно, что Джордж не сомневался: он ошибается нарочно, чтобы посмешить. Увидев, что Джордж смеется, Левальд озадаченно повернулся к Эльзе, потом к Хейлигу и, понизив голос, быстро спросил:
– Was, denn? Was meint Chorge? Wie sagt man das? Ist das nicht richtig englisch?[36]36
Что такое? Почему Джордж смеется? Что я такое сказал? Как это надо сказать по-английски? (нем.)
[Закрыть]
Эльза демонстративно отвернулась, словно не слышала его вопроса и больше не желала с ним разговаривать. Хейлиг тоже не ответил, лишь смотрел на Левальда все так же отчужденно и подозрительно. Однако холодность слушателей нисколько не смутила Левальда. Он комически пожал плечами, словно все это было выше его понимания, опять обернулся к Джорджу и сунул ему в карман небольшую фляжку немецкого коньяку, пояснив, что это «прислала» его «муж». Потом достал прелестно переплетенную тоненькую книжку, которую написал и проиллюстрировал один из его авторов. Он держал ее в руках и любовно перелистывал.
То было комическое жизнеописание – Левальд от колыбели до зрелости, – написанное в духе грубого гротеска, и, однако, эта безжалостная пародия, этот жестокий юмор обладает особой силой, и тут немцы не знают себе равных. На одном рисунке младенец Левальд, он же младенец Геркулес, душит двух грозных змей с головами его главных конкурентов-издателей. На другом юноша Левальд – подобно Гаргантюа – заставил жителей своего родного Кольберга в Померании покинуть тонущий город. Еще на одном Левальд – молодой издатель – сидит за столиком в кафе Энны Маенц и ловко отгрызает от края бокала куски стекла; он и в самом деле проделывал такое, чтобы, как сам он объяснял, «разрекламировать себя и свое дело».
Левальд заранее надписал Джорджу этот любопытный томик и подписался, а ниже поставил строки все той же непристойной песенки: «Lecke du, lecke du, lecke du die Katze am Arsch». Сейчас он захлопнул книжку и сунул ее Джорджу в карман.
И в эту минуту толпа всколыхнулась. Блеснул свет, носильщики двинулись по перрону. Джордж посмотрел вдоль путей. Подходил поезд. Он быстро приближался, огибая Зоологический сад. Огромная локомотивья морда с буферами, обведенными ярко-красной каймой, тупо надвинулась, миновала их, жарко дыша паром, и замерла. Скучный ряд вагонов посредине прерывался сверкающим красным пятном вагона-ресторана.
Все пришло в движение. Носильщик поднял тяжелый багаж Джорджа, быстро взобрался по ступенькам и нашел ему купе. В воздухе стоял слитный гул голосов, взволнованный шум расставаний.
Левальд схватил Джорджа за руку и, то ли похлопывая его по плечу другой рукой, то ли обнимая, сказал:
– Auf Wiedersehen[37]37
до свиданья (нем.)
[Закрыть], старина Джордж!
Хейлиг быстро и крепко пожал ему руку, горькое лицо его исказилось, словно от слез, и дрожащим, глубоким и трагическим голосом он произнес:
– Прощайте, прощайте, дорогой.
Потом Левальд и Хейлиг отвернулись, и Джорджа обняла Эльза. Плечи ее вздрагивали. Она плакала.
– Будь добрым, – говорила она сквозь слезы, – будь благородным, таким, каким я тебя знаю. Будь верующим. – Она обняла его крепче и, задыхаясь, прошептала: – Обещай.
Он кивнул. И они слились: бедра ее разомкнулись и стиснули его ногу, пышное тело податливо прильнуло к нему, их губы неистово впились друг в друга – в последний раз они соединились в любовном объятии.
А потом он поднялся в вагон. Проводник захлопнул дверь. Поезд тронулся еще до того, как Джордж дошел до своего купе. И все эти люди, их лица, их жизнь стали медленно отступать.
Хейлиг все шел по перрону и махал шляпой, лицо его по-прежнему искажала скорбная гримаса. За ним, совсем рядом с поездом, шла Эльза – лицо суровое, отрешенное, рука прощально поднята. Левальд сорвал с себя шляпу и махал ею, светлые волосы в беспорядке вздымались над раскрасневшимся, хмельным лицом.
– Auf Wiedersehen, старина Джордж! – жизнерадостно крикнул на прощанье Левальд. Потом сложил руки рупором и завопил – Lecke du! – И Джордж увидел, как его плечи затряслись от смеха.
Потом поезд круто повернул. И все они исчезли.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.