Текст книги "Эвакуация. 1941—1942 гг."
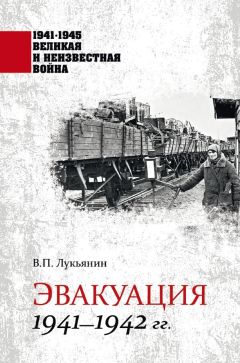
Автор книги: Валентин Лукьянин
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Сосредоточение военно-промышленного потенциала на территории, протянувшейся с севера на юг сравнительно узкой полосой в небольшом отдалении от западной границы, не было следствием ошибочной народно-хозяйственной политики советского или дореволюционного еще руководства страны: так исторически сложилось в силу ряда объективных причин. Но все – и на этой, и на той стороне – понимали, что такая военно-промышленная география была для России потенциально опасна. Германское руководство было осведомлено о том прекрасно – тут и разведчиков засылать не было нужды. Можно с полным основанием утверждать, что именно этой уязвимой географией и соблазнились разработчики плана «Барбаросса»: при ином рассредоточении «жизненной силы России» по территории огромной страны рассчитывать на успех молниеносной войны было бы безумием.
Советское руководство тоже прекрасно знало об этой проблеме. Тем, в первую очередь, и объясняется его стремление в предвоенные годы правдами и неправдами отодвинуть западную границу таким образом, чтобы обезопасить стратегически важные объекты в случае прорыва танковых соединений противника и атак с воздуха. В 1939–1940 годах цель была достигнута: под благовидными предлогами, с помощью дипломатического давления и, в основном, без применения насилия (только с Финляндией повоевали) границу отодвинули на 200–600 километров. Руководители советских вооруженных сил, успешные командармы и комиссары «далекой Гражданской», сочли «подушку безопасности» достаточной, поскольку были уверены, что даже при самом неблагоприятном для нас развитии событий на начальном этапе войны продвинуться дальше в глубь страны, чем на 200–300 километров, противник не сможет. Увы, их представления устарели. Ибо немцы после разрыва версальских соглашений сделали в военно-стратегическом плане большой рывок вперед – создали и обкатали на европейском театре войны современную моторизованную армию, которая, без труда проломив оборонный щит на новой советской границе, за летне-осенний период 1941 года продвинулась на 700 и 1000 километров в глубь советской территории. Чтобы полностью реализовать план «Барбаросса», этого вполне хватило бы, и «мат в три хода» был бы обеспечен… Если б обороняющаяся сторона не сделала непредвиденный «ход конем» – я имею в виду эвакуацию, то есть увод из-под носа противника «жизненной силы России», которая к тому же при этом была модернизирована и вследствие того значительно приумножена.
Так что наши огромные репутационные потери, связанные с передвижением границы, отнюдь не компенсировались сомнительными стратегическими результатами. Правда, репутацией тогда никто особо не дорожил, европейские лидеры гораздо откровеннее советских вождей демонстрировали образцы дипломатического бесстыдства. Европа уже вовсю полыхала, и меры, предпринимаемые руководством СССР, были, по сути, «пожарными».
Однако рачительный хозяин заботится о безопасности своего владения не только тогда, когда возникает прямая угроза. Наученное опытом интервенции времен Гражданской войны, постоянно ощущая не просто враждебность, но и военную угрозу со стороны Запада, советское руководство с первых послереволюционных лет считало укрепление обороноспособности страны более важной задачей, нежели повышение благосостояния народа: дескать, станем настолько сильными, чтобы никто не посмел помешать нам обустраивать жизнь, как мы хотим, – тогда и займемся потребностями желудка и быта. Добиться поддержки такой морально-политической установки разнородным населением огромной страны было непросто, но задача облегчалась тем, что в общественной памяти еще был достаточно свеж образ дореволюционной России, и был он отнюдь не благостным.
Конечно, руководство страны ясно сознавало уязвимость нашего военно-промышленного пояса и с самого начала 1930‑х годов усердно перекраивало, если можно так выразиться, военно-промышленную географию СССР. Интенсивно развивалась вторая топливно-сырьевая («угольно-металлургическая») база страны («Урало-Кузбасс», «второе Баку»), строились крупные металлургические предприятия на востоке (Кузнецк, Магнитка, Нижний Тагил), в большом удалении от границ возводились заводы-дублеры (филиалы) важнейших оборонных предприятий, расположенных в западных областях, наращивалась (хотя и не так интенсивно, как требовала обстановка) дорожно-транспортная сеть, геологоразведочные партии осваивали нехоженые пространства востока и севера страны, наращивая ресурсную базу. Причем делалось это, как верно подметил Сульцбергер, «после консультаций представителей армии со специалистами научно-исследовательских институтов, которые тщательно изучили энергетические, сырьевые и транспортные ресурсы района Урала», то есть на серьезной научной основе.
«Мы начали подготовку к обороне с той минуты, когда заложили первую угольную шахту в Кузбассе, когда ударили первым заступом по звенящей горе Магнитной, когда положили первые камни в фундамент Уралмаша, Челябинского тракторного и сотен других заводов не только на востоке, но и в центре и на юге страны»[107]107
Аристов А.Б. Незабываемое // Урал. 1981. № 5. С. 6.
[Закрыть], – пафосно, но точно сказал в своих воспоминаниях А.Б. Аристов (о котором речь пойдет чуть позже).
Надо особо подчеркнуть, что эти военно-географические трансформации имели целью не только налаживание производства в удалении от границ. Тут еще важно было, что источники сырья, топлива, металлургические и машиностроительные предприятия сближались территориально, соединялись в мощные кластеры, растопыренные пальцы (этот образ можно было применить к размещению оборонных предприятий в западном военно-промышленном поясе) сжимались в грозный кулак. При этом резко сокращались транспортные операции: скажем, катать в Магнитогорске броневую сталь, выплавленную здесь же из магнитогорской руды, и отвезти бронелисты за 460 километров в челябинский Танкоград – совсем не то же самое, что обеспечивать бронепрокатный стан Кировского завода в Ленинграде стальными слитками, выплавленными на юге страны. Это не только приносило ощутимые экономические выгоды, но и облегчало маневр ресурсами, давало значительный выигрыш времени и, как результат, увеличивало объем производства.
Работы велись не так быстро, как того требовала сгущающаяся предгрозовая обстановка, потому что объем их был громаден, не хватало сил, средств, времени. Да и организация работ оставляла желать лучшего.
Примите во внимание «большевистскую» стратегию советской индустриализации: принимались пятилетние планы, но в них не были сбалансированы возможности и результаты, а цели устанавливались по потребности. Не в том смысле, что до полного удовлетворения, а в том, что каждое ведомство стремилось отразить в плане свои нужды, план из них и верстался. Удовлетворить их все не было никакой возможности, между тем все они были обоснованными. Надо бы их как-то ранжировать, увязать на почве единой государственной стратегии, но тогда темпы получились бы не очень «большевистскими», не было бы стахановцев, не совершилось бы превращение труда «из зазорного и тяжелого бремени, каким он считался раньше, в дело чести, дело славы, дело доблести и геройства»[108]108
Сталин И.В. Соч. Т. 12. С. 315. (Выделено в оригинале.)
[Закрыть]. Более того: «Люди, болтающие о необходимости снижения темпа развития нашей промышленности, являются врагами социализма, агентами наших классовых врагов»[109]109
Там же. С. 274. (Выделено в оригинале.)
[Закрыть]. Никому не хотелось оказаться в списке врагов, поэтому планы устанавливали по максимуму, а потом их еще и пересматривали (бывало – в сторону увеличения, но чаще – уменьшения); что же касается возможности их выполнения – еще с начала «великой эпохи» у нас нещадно эксплуатировался морально-политический ресурс: «Нет таких крепостей, которых не смогли бы взять большевики».
В результате такого планирования в стране запускалось великое множество проектов (и все, как правило, нужные и важные!), но редкие из них завершались в срок, а многие не завершались и вовсе. Тогда-то вошли в обычай штурмовщина, административные рычаги, партийные проработки, приписки, сдача объектов с недоделками, брошенные недострои, специалисты-«толкачи». (Кстати, никуда не делись эти особенности нашего экономического уклада и в годы войны, и в послевоенные десятилетия.) Нынче эту разбалансированность народного хозяйства принято выводить из самой природы социализма, но думаю, что причина в другом: энтузиазм не конвертируется в научно-технические знания и производственный опыт, а их катастрофически не хватало. Вы скажете: большевики сами разогнали специалистов; реальная ситуация, однако, намного сложней. Углубляться здесь в эту драматическую коллизию не стану, хочу лишь обратить внимание читателя на то, как много внимания уделялось «большевиками» в довоенные и даже военные годы развитию системы высшего инженерного образования. Да, в этом плане было много издержек, но были и бесспорные достижения, о которых напоминать излишне. А главное: без резкого увеличения интеллектуального потенциала мы победить точно не смогли бы.
Однако я сейчас о другом: советская промышленность (и прежде всего ее приоритетное направление – производство сложных видов вооружения) в межвоенные годы развивалась бурно, но дисгармонично; военно-промышленная база на востоке, которую страна создавала с начала 1930‑х годов, к началу войны была далека от завершения и несла на себе зримую печать той беспорядочной промышленно-хозяйственной стратегии, о которой я сейчас говорил.
И все же в далекой от завершения «картине» просматривались контуры того военно-промышленного комплекса, в котором нуждалась страна в предвидении большой войны. И когда неизбежная и давно ожидаемая война «внезапно» началась, причем началась она с явно продемонстрированным намерением противника немедленно захватить «жизненную силу России», единственным спасительным решением было – в авральном порядке «дорисовать картину», то есть завершить создание восточной военно-промышленной базы. Такое решение и было принято; вот вам и объяснение «планомерности» эвакуации при отсутствии заранее разработанного плана.
Поэтому эвакуация (как передислокация) началась буквально с первого дня войны и, вот в этом прав Н.Н. Мельников, еще до того, как был учрежден Совет по эвакуации. По крайней мере, до того, как были изданы директивы, регулирующие этот процесс. То есть до официального начала эвакуации.
Эвакуация до эвакуацииВ цитированных выше воспоминаниях А.Б. Аристова есть очень значимый для нашей темы эпизод – рассказ о том, как их автор участвовал в совещании, которое в самом начале войны провел в своем спецвагоне, «припаркованном» у перрона Свердловского вокзала, «танковый нарком» В.А. Малышев.
Допускаю, что нынешний читатель может не знать этих имен, ибо они сейчас не на слуху, но мне в этой книге придется вспомнить обоих еще не раз, поэтому – будьте знакомы.
Аверкий Борисович Аристов (1903–1973) – не просто свидетель, но и ответственный участник тех событий, о которых я сейчас рассказываю. Он яркий представитель той генерации партийных работников, которые в конце 1930‑х годов стали приходить на смену героическим, но, увы, малообразованным победителям в Гражданской войне, занявшим в мирное время командные должности в разных сферах советской жизни. Герои же начинали индустриализацию, имея за плечами порой всего-навсего два класса начальной школы. В их «кавалерийской» стратегии, а не в социализме как общественно-экономическом укладе нужно искать корни издержек развития народного хозяйства страны в советские годы.
Насколько драматично происходила тогда смена «элит», нет нужды напоминать; но я сейчас о другом.
А.Б. Аристов происходил из поволжских казаков, активно участвовал в становлении советской власти, служил в армии, побывал на комсомольской и партийной работе, но проявил волю к учебе. Окончил рабфак, потом Ленинградский политехнический институт, очень успешно работал как инженер на металлургическом заводе и по совместительству преподавал в институте – квалифицированных кадров остро не хватало. От напряженной работы на два фронта пошатнулось здоровье, и Аверкий Борисович решил сосредоточиться на научно-педагогической работе. Сначала учил студентов в alma mater, потом, в 1936 году, его пригласили на кафедру литейного дела в Уральский индустриальный институт (будущий УПИ). Здесь он преподавал, одновременно возглавлял Уральский дом техники и занимался научными исследованиями. В апреле 1939‑го защитил кандидатскую диссертацию, в мае был утвержден в звании доцента, но на том его научная карьера прервалась, ибо в декабре того же года первый секретарь обкома В.М. Андрианов настоял на его переходе на партийную работу.
Андрианов возглавил обком незадолго перед тем. В основу своей работы во главе областной парторганизации он положил набиравший популярность сталинский лозунг: «Кадры решают всё» (по сути, начинал вводиться в оборот уже поднакопленный интеллектуальный капитал). Формируя свою команду, новый партийный лидер области стремился окружить себя не столько «пламенными борцами», сколько высококвалифицированными специалистами, не боясь, что они окажутся в чем-то умнее и опытнее его самого. Аристов, с его высокой квалификацией, организаторским талантом, богатым и разнообразным житейским опытом, в том числе опытом партийной работы, был для Андрианова настоящей находкой. И сам Аверкий Борисович нашел себя на партийном поприще: поработав до 1943 года отраслевым (по металлургии)[110]110
Аверкий Борисович пишет, что в годы войны число отраслевых секретарей в Свердловском обкоме доходило до двадцати четырех, но все работали с перегрузкой.
[Закрыть], третьим, вторым секретарем в Свердловском обкоме, он был Центральным Комитетом переведен вторым секретарем в Кемерово, затем первым в Красноярск. В 1950–1952 годах он возвратился на Урал – в Челябинск, потом его избрали секретарем и членом Президиума ЦК (так в пятидесятые годы называлось Политбюро); мои ровесники помнят, как его портреты носили на демонстрациях, вывешивали на площадях. Но Аристов рассорился с Хрущевым, и его портреты убрали… Мемуарами Аверкий Борисович занялся в почетной ссылке – будучи советским послом в Польше. Помогал ему по поручению журнала «Урал» З.А. Янтовский, работавший тогда в редакции ответственным секретарем.
Вячеслав Александрович Малышев (1902–1957) занимает почетное место в ряду главных фигур оборонной промышленности СССР военных и первых послевоенных лет. В тот момент, о котором вспоминает Аристов, он был одним из заместителей председателя Совнаркома (то есть Сталина)[111]111
Википедия приводит список пятнадцати заместителей предсовнаркома в годы войны (где значится и В.А. Малышев), предупреждая, что он неполный.
[Закрыть] и одновременно наркомом среднего машиностроения и главным куратором танковой промышленности. А с сентября, оставаясь замом предсовнаркома, Малышев был назначен главой только что образованного Наркомата танковой промышленности, то есть принял на себя прямую ответственность за производство танков в стране. В памяти Аристова он утвердился как главный танкостроитель; очевидно, потому, вспоминая о встрече с ним в первые дни войны, Аверкий Борисович и говорит о нем как о танковом наркоме.
Так вот, о совещании. В какой конкретно день оно происходило? Дату Аристов не называет, но несколькими страницами позже упоминает другое событие того же дня: «Двадцать четвертого июня 1941 года В.А. Малышев прибыл на завод выяснить, сможет ли Уралмаш участвовать в выпуске танков»[112]112
Аристов А.Б. Незабываемое. С. 12.
[Закрыть]. Увы, мемуарист явно ошибается: судя по записям в журнале регистрации посетителей кабинета Сталина, в тот день Малышев с 16.20 до 17.00, а также 25 июня с 20.05 до 21.10 был в Кремле. Так что в Свердловск он приезжал позже, скорее даже в первых числах июля, поскольку сам же Аристов говорит: «В.А. Малышев приехал с решением Государственного Комитета Обороны…» А ГКО был образован 30 июня 1941 года. Но не так важна точная дата, как важно решение, которое довел до сведения местных руководителей член правительства с самыми высокими полномочиями: «…разместить на Урале прокатный стан для производства танковой брони. На Кировском заводе уже спешно вели его демонтаж и грузили в вагоны. Срок нам устанавливался кратчайший – показалось, я ослышался: два месяца».
Можно себе представить, какое впечатление это сообщение произвело на местных руководителей, особенно на Аристова: во-первых, он как металлург хорошо представлял себе масштаб и сложность этого агрегата, а во-вторых, понимал, что главная ответственность за выполнение этого, казалось бы, невыполнимого в такие сроки задания ложится на него как секретаря обкома, отвечающего за металлургию.
О том, как справлялся Аверкий Борисович с экстраординарным правительственным заданием, я расскажу позже, а сейчас должен объяснить, почему было решено переместить бронепрокатный стан из Ленинграда именно в Нижний Тагил.
Мне придется начать несколько издалека. На заре советской индустриализации большое значение придавалось кооперативным связям, которые соединяли бы разнообразные – по масштабу, производственному профилю, географическому положению – хозяйственные единицы в единое общегосударственное народное хозяйство. Развитие таких связей обеспечило бы максимальное использование ресурсов и производственной специфики каждого региона, создавало условия для разработки и реализации народно-хозяйственных планов, предусматривающих развитие экономики страны на основе сотрудничества, а не конкуренции. В общем, это была социалистическая альтернатива капитализму, с его рыночной стихийностью, «социальным дарвинизмом», кризисами, расточительностью.
Читатель скажет, что эти благие намерения были утопичны, но я не соглашусь: у них были надежные исторические корни. Порицаемые нынче «большевики» на первых порах были восприимчивы и к плодотворным идеям, унаследованным от дореволюционной научно-общественной и экономической мысли (золотой червонец, план ГОЭЛРО, комиссия КЕПС и др.), и к актуальным мировым тенденциям организации труда (конвейер, крупные производственные комплексы); при этом их козырем была общенародная собственность, освобождавшая хозяйственный процесс от барьеров частной выгоды и раскрывавшая широкий простор для масштабных социально-экономических проектов.
Но социализм не получился: благие намерения оказались неосуществимыми в атмосфере тотального дефицита (не столько даже материальных, сколько интеллектуальных и моральных) ресурсов, международной напряженности, общественного разлада и политических интриг. Поэтому, например, зародившаяся на грани XIX–XX веков плодотворная идея соединения в едином технологическом цикле сырьевых и топливных ресурсов Урала и Сибири, более детально разработанная в 1918 году комиссией по Урало-Кузбассу под руководством томского профессора-металлурга Н.В. Гутовского, но по понятным причинам отложенная до лучших времен «в долгий ящик», была вдруг реанимирована в политическом докладе Сталина на XVI съезде партии (июнь – июль 1930 года) в обличье «Урало-Кузнецкого комбината», – но не потому, что наступили лучшие времена. Времена для строителей «нового мира» как раз наступили тревожные: первая пятилетка, которая должна была продемонстрировать всему миру преимущества социализма, оказалась на грани провала, и вот тогда для спасения несработавшей идеи нерешенные проблемы более частного порядка загнали «в нутро» социально-производственной конструкции планетарного масштаба, где они стали казаться мелочами, не стоящими внимания, и «генеральная линия» осталась прежней[113]113
Этот пропагандистский кульбит я подробно описал в книге: Лукьянин В.П. Вершины уральской науки. Екатеринбург, 2013. С. 17–20.
[Закрыть].
Между прочим, главным объектом Урало-Кузбасса был объявлен Магнитогорский металлургический комбинат, который значился в планах первой пятилетки вне связи с Кузнецким угольным бассейном; вне той планетарной конструкции задумывался и Кузнецкстрой, воспетый Маяковским. Но резолюцией XVI съезда в дополнение к двум металлургическим гигантам на востоке страны было предписано добавить третий – на Среднем Урале. Назвали его Новотагильским; к Урало-Кузбасскому проекту он был привязан только на уровне пропаганды, ибо рудой его должно было обеспечить Высокогорское месторождение (гора Высокая на окраине Тагила), а углем – Кизеловский каменноугольный бассейн в Пермской области. Но уже тогда в СССР сложился обычай (он сохраняется и в постсоветской России): если попадаешь «в струю», легче исхлопотать финансирование; на то, очевидно, и рассчитывали.
Однако нужда в таком предприятии на Среднем Урале действительно была: в Свердловске уже с 1928 года строился «завод заводов» Уралмаш, в самом Тагиле приступали к строительству Уралвагонзавода; вступив в строй, эти машиностроительные колоссы должны были стать крупнейшими потребителями чугуна и стали. Но решение о строительстве Новотагильского завода принималось поспешно: торопились не упустить момент. Просчеты обнаружились, когда уже начали рыть котлованы и завозить строительные материалы: оказалось, что местных топливно-сырьевых ресурсов, на которые рассчитывали авторы директивы, будет недостаточно, к тому же еще одна крупная новостройка была просто не по силам перенапряженной экономике страны[114]114
См.: Сушков А.В., Михалев Н.А., Пьянков С.А. Средний Урал в системе Урало-Кузнецкого комбината: проблемы строительства Новотагильского металлургического завода в 1930-е годы; https://cyberleninka.ru/article/n/sredniy-ural-v-sisteme-uralo-kuznetskogo-kombinata-problemy-stroitelstva-novotagilskogo-metallurgicheskogo-zavoda-v-1930-e-gody
[Закрыть]. За отсутствием ясной перспективы стройка продвигалась вяло. Ускорить процесс пытались, как могли: издавали грозные циркуляры, даже искали врагов народа, – но это мало помогало. И когда А.Б. Аристов, вступив в должность секретаря Свердловского обкома ВКП(б) по металлургии, впервые туда приехал, он увидел «печальное зрелище заброшенности и запустения. По всей немалой территории зияли котлованы и канавы, частью осыпавшиеся, частью залитые водой. Уныло торчали остовы коксохимического завода, доменной печи, мартеновского цеха. Вольготно себя чувствовали в недостройках лишь свившие здесь гнезда грачи».
Но в воздухе все более явственно «пахло грозой», подключился обком, назначили более компетентного директора, энергичнее занялись поисками резервов – и за короткое время, остававшееся до начала войны, стройку удалось существенно продвинуть вперед. В июне 1940 года задули первую домну, в сентябре первые плавки выдал мартеновский цех, в декабре запустили вторую доменную печь. Положение дел на расправляющем плечи гиганте было главной заботой партийного куратора металлургической отрасли, Аверкий Борисович наезжал туда часто и проводил там немало времени – и вот наступил роковой день. «22 июня 1941 года ранним утром, – вспоминает Аристов, – я возвращался в Свердловск из Нижнего Тагила. Несколько дней прошли там в тщательном изучении и обстоятельных подсчетах – как быстро завершить металлургический цикл на новом заводе? Он плавил чугун, начал давать сталь, но не выпускал еще проката»[115]115
Аристов А.Б. Незабываемое. С. 7.
[Закрыть].
Если б дальнейшее развитие предприятия проходило в мирной обстановке, то дело дошло бы и до прокатного цеха: стан закупили бы где-нибудь за границей, может в той же Германии, а то построили бы на Уралмаше – он уже осваивал и такую продукцию; но с началом войны обе возможности были исключены. Перевезти стан из Ленинграда – это было неожиданное, невероятное, но, пожалуй, единственно спасительное решение в той обстановке.
Конечно, при этом вставал вопрос: а как в Ленинграде обойдутся без этого агрегата? Решение было найдено столь же радикальное: вывезти и танковое производство на Урал. Но не туда же, куда прокатный стан, а в более для него пригодное место.
В этой связи приобретает особое значение другой факт, упомянутый в воспоминаниях Аристова: в тот же день, когда «танковый нарком» В.А. Малышев провел совещание с партийными руководителями и строительными начальниками области о бронепрокатном стане для Новотагильского завода, он побывал еще и на Уралмаше, где обсудил с Б.Г. Музруковым и другими руководителями завода возможность изготовления на этом предприятии бронекорпусов для тяжелых танков КВ, производство которых уже в предвоенные месяцы налаживалось в Челябинске, а начало войны послужило толчком к резкому ускорению этого процесса.
Вот так в самые первые дни войны решались вопросы эвакуации, которая еще не мыслилась как бегство от военной опасности и с деятельностью Совета по эвакуации не была связана. Но это была не самодеятельность руководства одного ведомства, а часть изначально общегосударственной стратегии, имеющей целью форсировать реализацию замысла второго военно-промышленного комплекса на востоке страны. Наличие такой стратегии косвенно, однако достаточно определенно подтверждается тем фактом, что на упомянутых выше приемах у Сталина Малышев был не один: 24 июня вместе с И.М. Зальцманом, который тогда был директором ленинградского Кировского завода, а 25‑го – вместе с Берией, который в тот же день был введен в состав Совета по эвакуации. И в обоих случаях при активном участии Н.А. Возесенского, о роли которого в эвакуации скажу чуть позже.
Есть еще одна любопытная «зацепка»: в биографической книге Виктора Чалмаева о Малышеве рассказывается, будто бы на совещании с членами Политбюро 24 июня Сталин воскликнул: «А где у нас броневые станы? Эвакуируйте их с южного завода немедленно на восток!» Южный – это, надо полагать, мариупольский; я о нем упоминал вскользь, а впереди – более подробный рассказ. Но раз о станах во множественном числе – вряд ли в тот раз не вспомнили и о ленинградском. Полубеллетристическая книга – конечно, не документ; вполне вероятно, что писатель ту реплику вождя «художественно домыслил». Но проблема прокатывания броневых листов для танковых корпусов тогда наверняка обсуждалась, так что такая по смыслу реплика вполне могла быть произнесена.
И когда Сталин в обращении к «братьям и сестрам» по радио 3 июля 1941 года уверенно утверждал, что победа будет за нами, он не блефовал: операция по созданию ударного кулака, которым враг будет разгромлен, к тому времени уже не только обсуждалась в ГКО, но и начала претворяться в жизнь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































