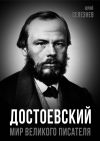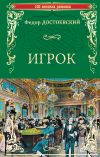Текст книги "Страсть. Книга о Ф. М. Достоевском"

Автор книги: Валерий Есенков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
Иван Александрович зашептал:
– Один он, главный на всех, остальные у него под началом. Сидит и ждет, когда я что-нибудь напишу, подпускает подручных ко мне, подслушивают, бумаги крадут. Зажился в палестинах-то этих… Что знал когда-то, переписано всё… А писать зудит, неодолимо, страшно зудит… Вот и пользуется всем от меня… который уж год…
Ему стало чего-то неловко и стыдно, он словно бы был виноват. И заговорил он, точно хотел оправдаться, пряча глаза:
– Видите ли, Иван Александрович, всё может быть, но вот я представить себе не могу, как это можно писать по чужому, тем более красть. Я не умею выдумывать ни фабулы, ни интриг. У меня идея своя, из идеи создается поэма, поэма забирает в себя всё то, что дает ей сама жизнь. Это уж так получилось…
Иван Александрович сердито удлинил нос начертанной роже и, торопясь и волнуясь, набросал ей на лоб прядь волос:
– Так это у вас, а он оторвался, забыл, как же теперь не черкес?
По аллее кто-то прошел, один или двое. Нестерпимо больно стало ему. Он чуть не заплакал и невольно сказал, что подумал:
– Тяжко жить у нас честному человеку…
Иван Александрович, поворотившись к нему, беспомощно глядя больными глазами, брызжа слюной, доверительно, быстро шептал:
– А я все-таки был у него! В “Дыме” только пробежал первые главки и дошел до любви, мне стало беспокойно, противно. У меня-то, у меня-то ведь тоже любовь! Дальше читать не достало сил, я ему об этом прямо сказал! Эти сцены возмутили меня даже не тем, что русское перо враждебно относится к русским людям, их пустоту беспощадно казня. Я ему прямо сказал, что перо изменило тут автору, изменило искусству. Оно грешит, грешит злостью тупой и холодной, грешит неверностью, то есть отсутствием дарования. Фигуры бледны, выдуманы, сочинены. Ни одного живого штриха, никакой меткой особенности, ничего, напоминающего физиономию, просто кучка нигилистов, по трафарету написанная. Это я ему и сказал. А он: живых лиц жду от вас, говорит. Я так и отрезал: ничего не пишу, не дождетесь. Зачем вам к нему?
Он смутно, издали, штришками какими-то слышал эту историю. Когда-то они будто были друзьями, потом нехорошо, лихорадочно разошлись, какой-то третейский был суд. Беспутная беспросветная русская жизнь задушевных друзей превратила в постыдных соперников, и вот один, может быть, поддался болезни или, напрягая все силы, молча, мучительно борется с ней. Душа его задрожала от жалости, а внутренний голос твердил горячо, что именно это искал он, что именно это необходимо ему. Он не помнил, искал ли он в самом деле, не знал, для чего это нужно ему, он ласково улыбнулся и осторожно, проникновенно сказал:
– Может быть, не всё это так, но вы же, голубчик Иван Александрович, сказали, что думали.
Иван Александрович поглядел на него озадаченно, испытующе, помолчал и задумчиво, тихо сказал:
– Да, несомненно, я сказал ему то, что именно думал.
Он подхватил оживленно:
– Вот и прекрасно! Главное, что есть убеждение, а высказывать убеждение надо открыто, на то убеждение, не в подворотне шептать.
Он уже всем телом дрожал, будто иззяб, отворачивался, глядя в сторону, на клочок голубого покойного неба, на играющую, блестевшую под солнцем листву, вспыхивал вдруг, что это может быть понято как невнимание, как осуждение, быстро поворачивался к нему, но не мог глядеть на него, снова видел голубое покойное небо и улыбки листвы и торопливо, неловко рассказывал, не зная зачем, не веря, что тут именно может чем-то помочь:
– А это, это-то, апатия ваша, она непременно пройдет, как не пройти. Вы поверьте, я ведь на себе испытал, в молодости ох как она грызла меня, до отчаяния, до кромешной тоски. Отвращение к жизни и всякая чепуха. Судьба тогда помогла, совершенно новым сделался человеком. Это я вам о каторге говорю. Не поверите. Только что было со мной решено, так сейчас же муки и кончились, ещё даже на следствии, правду сказать. Ведь когда очутился я в крепости, думал, что тут мне конец, выдержать трех дней не смогу…
Он опять повернулся, увидел, как Иван Александрович, сгорбившись, не меняясь в лице, медленно, сверху вниз, зачеркивал концом трости чужое лицо с длинным носом и прядью волос. Словно подчиняясь ему, он сдерживал скачущий голос и опять разглядывал голубое покойное ровное небо и веселый трепет листвы, медленней, рассудительней продолжал:
– Так и думал, что не смогу, и вдруг совсем успокоился. Ведь я делал что там? Ведь я писал там “Маленького героя”! Разве есть там озлобление, муки? Нет, поверьте, снились там хорошие, тихие, добрые сны, а потом чем дальше, тем было лучше.
Ему припомнилось то действительно славное время, и в душе не стало ничего тяжелого, мрачного.
Нет, он не лгал.
Он воскликнул с искренним убеждением:
– Это было большое для меня счастье, каторга и Сибирь! Говорят про ужас, про озлобление, про законность какого-то озлобления говорят! Ужаснейший вздор! Я, может быть, только там и жил здоровой, счастливой жизнь, я там себя понял, понял Христа, понял русского человека, почувствовал, что сам тоже русский, из русского народа, один, как все, из него. Все мои самые лучшие мысли, идеи приходили мне тогда в голову. Теперь они ко мне возвращаются только, да и так отчетливо, ясно, как там. Вот если бы вас, голубчик Иван Александрович, на каторгу бы, в Сибирь!
Виски Ивана Александровича были напряжены, вздулись синими венами. По лицу ходили глубокие тени. Голос был слаб, но ироничен, спокоен и чист:
– Может, прикажете прикончить кого? Я и так после ваших старушек содрогаюсь от ужаса и страшусь за рассудок. И в Сибири я был. Тоже приходила мне мысль, я и поехал, как там говорят, пошел кругом света. От какой-то восточной бухточки, от Аяна, всю её через чёрт знает что, через Якутск (не приходилось бывать?) потом вниз, до Байкала, и верхом и ползком, да ещё с геморроем.
Будто не было ничего, а так, похмурилось, погремело и пронесло стороной. От души отлегло, он рассмеялся:
– И ведь уверен, что помогло!
Иван Александрович покосился и сердито сказал:
– Разумеется, помогло, “Фрегат Палладу”, громадную книжищу, сорок с чем-то листов, намахал в одну зиму. Однако стар я теперь, слишком, я думаю, стар, чтобы снова скакать по Сибири.
Он весело, облегченно спросил:
– А поскакали бы?
Иван Александрович пробубнил, вычерчивая концом трости волнистую линию:
– Поскакал бы, всенепременно, и с геморроем.
Он так и знал и, волнуясь, очень был рад, негромко воскликнул:
– Так вот вы зачем! Теперь понимаю!
Иван Александрович, задержав трость на половине пути, насупился, пожевал губами и проворчал:
– А впрочем… если даже пойдете… у вас своего добра… идей там… поэм…
Верно, там снова нахмурилось, начинало греметь, надо было соврать, но соврать он не смог и, и стараясь себя оправдать, неизвестно в чем и за что, нерешительно вставил:
– Должен на талеры пятьдесят, если будут… придется пойти…
Иван Александрович закончил волну и повел неторопливо другую:
– Не будет у вас… не пойдете…
Он испугался пророчества, но упрямо набычась, нахмурясь, сердито глядя перед собой, безобидно, тихо сказал:
– Должны быть.
Иван Александрович сгорбился вдруг, совсем постарел и с жалобой на кого-то, на что-то стал изъяснять:
– Ведь я в себе ощущаю, осознаю обилие творчества, чувствую, как широко, совсем широко развернулся. Первая книга моя была суховата. Для искусства в ней слишком много ума, чересчур очевидна логика построения. Ныне, возможно, это прошло, но меня смущает, губит иное. Интерес к фабуле утрачен совсем. Что ни говорите, а фабула – это искусственное, даже нарочно придуманное сплетение таких-то и таких-то событий, придуманное, главное, не для пользы искусства, а главным образом для удобства читателя, чтобы взявшись читать, бедняга совсем не заснул. Ведь читатель, даже образованный, даже ученый, даже из нашей пишущей братии, бесконечно ленив, ум у него скупой, неподвижный, и сдвинуть его, такой ум, с места может только острый сюжет. Вот старушку по голове чем-нибудь, тогда он непременно любопытствовать станет, как это, чем и за что, много ли взял, ну и там с полицией как? С полицией лучше всего. А если обыкновенная жизнь, просто чувства, разговоры и мысли, сейчас растянуто для него, скучно, длинно, неизвестно даже зачем. А мне такие штуки придумывать стало противно, к тому же с полицией совсем не знаком. Ради искусственности, то есть ради сюжета, приходится жертвовать частью правдивости. Что ни толкуйте, сюжет ломает цельность характеров, стесняет, обуживает, простора не дает всяким там мелочам, деталям быта, нравов, оттенкам мыслей и чувств, размышлениям, без которых я писать не могу.
Сосредоточенно хмурясь, Иван Александрович отставил трость и похлопал себя по карману, что-то ища, продолжая ровным, окрепнувшим голосом, словно глядя в себя:
– Хочется очень просто, обыкновенно. Вот, к примеру, знаете как? А вот так: сидят Достоевский и Гончаров на европейской скамье, без цели сидят, вдруг, ни с того ни с сего, стало им поболтать. О чем? Да о том, о чем все в жизни болтают, стало быть, обо всем, что в голову ни пришло: о Сибири, о игре, о черкесах. Вот, хотите, давайте о девочках говорить, оно и простительно на старости лет.
Он вдруг сурово сказал, точно заспорил бесповоротно или зачем-то желал того испытать:
Была в моей жизни одна.
Иван Александрович подхватил, мимолетно взглянув на него, добродушно улыбаясь в пушистые, генеральского типа усы:
– Вот-вот, давайте сюда и её.
Пристально вглядываясь в это добродушное, улыбающееся лицо, весь словно куда-то спеша и дрожа, он на всякий случай, но каким-то чужим, сталью звякнувшим голосом негромко спросил:
– Не боитесь?
Иван Александрович быстрым, но изысканно-плавным движением лихо сбил шляпу назад:
– Попробуйте испугать.
Он глухо начал, не в силах смотреть на него:
– Я был тогда совсем ещё мальчик. Мы проживали в Москве, в больнице для бедных, где служил лекарем мой отец, странный, между прочим, однакож по-своему замечательный человек. В больничном саду, в котором для здоровья гуляли больные, я играл часто с девочкой. Она была дочерью кучера, хрупкий, грациозный, красивый ребенок лет девяти. Увидев цветок, пробивавшийся между камнями, она всегда обращалась ко мне: “Смотри, какой красивый, какой добрый цветочек”. Понимаете, всё для неё в этом мире только и всенепременно добро, в этом всё дело, красота и добро.
Он остановился, мимолетно подумав, что много лучше молчать, прекратить, в себе, в себе затаить, однако воспоминание, вспыхнув ярко, отчетливо, зримо, в тот же миг стало сильнее его, и отчего-то обязательно надо было его рассказать, именно в эту неправдоподобную, странную, будто решающую что-то минуту, именно этому прекрасному, но как ни странно, безмерно затянутому и, кажется, ослабевшему в борьбе человеку. И тотчас, исказившись гримасой боли и ненависти, преобразилось лицо, глаза загорелись, обжигая его, как угли. Он закончил свистящим шепотом, задыхаясь, хрипя:
– И вот какой-то пьяный мерзавец её изнасиловал. Истекая кровью, хватая воздух открытым крошечным измученным ртом, уже закатывая голубые стекленеющие глаза, она умирала, а меня послали найти поскорее отца, и я нашел его в другом флигеле и опять бежал вместе с ним, что-то ужасно крича, но было поздно, отец ничего сделать не мог, она умерла.
Иван Александрович глядел на него испуганным, страдальческим взглядом, угрюмо молчал, внезапно спросил:
– Не надо, Федор Михайлович, зачем вам помнить об этом?
Он жестко, беспощадно сказал:
– Это преследует меня как самое ужасное преступление, которое может совершить человек, как самый ужасный, самый отвратительный грех, для которого нет, не может, не должно быть никакого прощения.
Иван Александрович бессильно сказал, без сожаления опуская глаза:
– Всё вас преследуют… преступления… и этот кошмар…
Почти не слыша его, он говорил, говорил быстро, волнуясь, стараясь не сбиться:
– Изнасиловать ребенка – грех самый ужасный и страшный. Отнять жизнь – тоже ужасно, но отнять веру в красоту и счастье любви – ещё более страшное преступление, его нельзя забывать. Тогда не узнали, кто это сделал, но я ещё в те годы с ужасной ясностью его себе представлял.
Иван Александрович выдавил из себя с отвращением, брезгливо смахивая что-то невидимое с аккуратно отутюженных брюк:
– Пьяный урод…
Он воскликнул, перебивая, болезненно морщась:
– Ну нет! Скорее всего, не урод! Я думаю, даже красавец, из этих, из принцев, которым всё дано без труда, даже не без идей, пресыщенный, развращенный своей красотой, испытавший какое-то сатанинское наслаждение. Я бы даже не стал его убивать. Путь казнят себя сами. На позор их, на позор!
Иван Александрович попросил таким слабым голосом, уж точно жизни лишался, зажав трость ногами, старательно оттирая от чего-то ладони платком:
– Не пишите о нем.
Он ответил неприязненно, зло:
– Теперь не смогу.
Иван Александрович смотрел куда-то в пространство широко раскрытыми, растерянными глазами и вяло тянул:
– Этак вы сожжете себя…
Он отмахнулся:
– Это – пускай!
Они сидели, молчали, не видя друг друга. Ему вдруг представилась какая-то высокая, светлая келья, с плавно закругленными сводами, с каменным полом и каменным потолком, какой-то святой старичок в длинных седых волосах, страдавший ногами, и это красавец и принц на коленях, и страшная исповедь о маленькой девочке с развороченным чревом, с отнятой верой в любовь. Это нужно было писать, но, может быть, он этого никогда не напишет.
Он вспомнил, что надо спешить.
Он огляделся.
Солнце перевалило за полдень. Полоса слепящего света приближалась к ногам. Становилось жарко, неподвижный воздух переливался и млел. Дверь рулетки сверкала всё чаще и чаще. Иван Александрович нахохлился, оперся руками на трость и нерешительно протянул:
– Вот и поговорили… Иван Александрович и Федор Михайлович… да-с…
Он спохватился:
– Простите меня!
Иван Александрович снова был флегматичен и вял и говорил неторопливо, размеренно, словно бы себе самому:
– За что же прощать, в вас вот страсти кипят и шипят, а я бегом бегу от этой чумы. Огонь, может быть, и хорош, но после огня пепел один, да-с, пепел. Он напомнил, не удержавшись, кривя иронически губы:
– Вы же хотели естественно, просто, как в жизни.
Иван Александрович согласился:
– Ну, конечно, страсти тоже бывают, как без страстей, и огонь, и пожар, согласитесь однако ж, что редко бывают, и в вашей жизни такая девочка тоже одна, и мне вы рассказывали о ней из какого-то, может быть, озорства, а обычно, опять согласитесь, бывает именно естественно, просто. Вот, в моем последнем романе, я всё даю и даю описания. Знаю, что охлаждаю ими читателя, если он, разумеется, явится у меня, знаю, что не все мне поверят, что жизнь обыкновенна, проста, но мне дороже, мне самому нужней сохранить то, что видел, узнал, почуял живого и верного в природе одного человека или в природе целого общества. Только что из того? В Мариенбад я в самом деле ездил работать и с любовью и с наслаждением поработал. Получилась большая, хорошая сцена с Опёнкиным…
Он вдруг очнулся от своих размышлений:
– Это откуда, какой?!
Иван Александрович медленно произнес:
– Ну, мой Опёнкин вам не известен… даже лучше для вас…
Ему припомнилось, тоже вдруг, что и тут была, была своя тайная страсть:
– Ах да…
Иван Александрович не смотрел на него:
– Так вот, подобные сцены я мог бы нанизывать одну за другой, хоть сотню, хоть две, и стал бы нанизывать, продолжать, но, как на грех, вдруг подумал, что мне делать с этим Опёнкиным. Какой-то сюжет у меня все-таки есть, так вот, как же его вставить в этот несносный, тесный сюжет. А там как раз подошла одна сцена, в неё нужно вашего жару, огня, таланта изобретательности, как вот у вас, и во мне весь жар охладел от раздумий. Ну, вот и прибыл сюда… огня, жару достать…
Он посоветовал раздраженно, жалея, что живое и верное в природе человека и общества, открытое этим глубоким, но слишком уж, чересчур осторожным мыслителем, теперь ускользнет от него:
– А вы проиграйте без жалости всё, до последнего гульдена, даже сюртук жилет.
Иван Александрович улыбнулся снисходительной, мягкой улыбкой:
– Может, по-вашему, и штаны проиграть?
Платье жены он уже проиграл, и полусерьезно, полушутя, слегка издеваясь над собой и над ним, подхватил:
– И штаны проиграйте! Главное, придумать и решиться на какой-нибудь внезапный, очень, очень отчаянный шаг, который перевернул бы всю вашу жизнь, не заморозьте себя. Сделать так, чтобы кругом всё, всё, решительно всё было другое, всё новое, чтобы потом-то, потом-то, после переворота бороться, работать пришлось во всю прыть. Тогда и внутри бывает всё ново, тогда познаёшь радость жизни, тогда становится как следует жизнь. Ведь жизнь, согласитесь, преотличная, преотличная вещь!
Он загорелся, глядя с надеждой на это словно подтаявшее, словно приобретавшее свое истинное выражение полное, совсем не старческое лицо:
– Нет, все-таки иногда бывает жить широко, во всю грудь, во всю силу души, во всю силу ума! В каждой малости, в каждом предмете, в каждой вещице, в каждом слове, в каждой даже, представьте, газетной строке столько может быть счастья, открытия, новизны! Это я там, в остроге, научился по-настоящему всё видеть и по-настоящему наслаждаться, а вернись теперь снова туда, я бы вдвойне наслаждался!
Лицо Ивана Александровича окончательно застыло по-прежнему, и голос вяло тянул, едва приоткрывая насмешку:
– Ведь вот вы меня убедили, всё до последней нитки спущу, обновлюсь в наготе, прямо до младенцев дообновляюсь, соску спрошу, хорошо!
Сунул руку в карман сюртука, достал кошелек, внушительно поиграл им и, сунув обратно, вынул изящный японский соломенный портсигар:
– Вот только покурим сперва.
Смешавшись от неожиданности, он пробормотал с упреком и завистью:
– Сигары-с?
Иван Александрович театральным движением с готовностью протянул:
– Да-с, угощайтесь.
Они взяли по толстой светлой сигаре.
Иван Александрович неторопливо подал огня.
Они закурили и вместе, не сговорившись, пустили в прозрачный, неподвижный, прогретый воздух две синеватые струйки, почти растворившиеся в ярком полуденном свете.
Одна была тонкой и длинной, другая врывалась прерывистой и густой.
Он пренебрежительно повертел сигару в руке:
– Нет, Иван Александрович, и курите вы тоже не то-с.
Иван Александрович поклонился с комической миной:
– Простите, Федор Михайлович, раскошелился на гавану, денежки на проигрыш приберег.
Он улыбнулся ядовито и тонко:
– Что гавана? Гавана вздор! Переводить понапрасну табак. Вы вот моих покурите.
– От ваших глаза, чай, на лоб полезут, не то в каторгу попадешь.
– С непривычки могут и на лоб полезть.
– Жуков небось?
– И жуков, и махорки в самую пору, букет-с.
– Я бы попробовал, да вот до Ваганькова далеко.
– Ну, за это будьте спокойны-с, аккуратно доставим-с, не потревожа костей, курите себе на здоровье.
– Ах, если доставите, можно попробовать, что ж…
Он сунул гавану в карман и извлек мягкий кожаный портсигар.
Иван Александрович с шутливым вниманием выбрал толстую самодельную папиросу, картинно раскурил её от сигары, задохнулся, закашлялся, отшвырнул далеко на красный песок и едва прохрипел:
– Яду у вас нет?
Внутренне засмеясь, он отозвался, зловеще шутя:
– Не держим-с, вот если бы знать.
– И то… этими папиросками лошадь можно убить.
– Не пробовал-с, лошадей-с не нажил пока.
– Нет, в самом деле, серьезно…
– Серьезно – работать без них не могу.
– То-то от ваших книг волосы дыбом встают.
– Только-то и всего? Придется больше курить.
– Уже начали?
– Что?
– Ну, эту первую папиросу.
– Никак не начну, табачок слабоват.
– В Сибири не бывали давно?
– Денег не найду на табак.
– Авансов, стало быть, не дают?
– В долг живу – не дают.
– А вы попросите, а я вам что-нибудь накурю.
Увлекаясь всё больше, уходя с головой в этот странный, непоседливый разговор, он отвечал теперь быстро, без перерывов, едва поспевая за трепетом мысли, точно боялся перепутать или забыть:
– Не у кого нынче просить. Бибиков выпросил статью о Белинском и выдал в зачет двести рублей серебром. Я хотел сильно в несколько дней сделать эту работу, беспрестанно думал о ней и даже много писал, однако ж Виссарион Григорьевич никак не дается. Удивительно, понять не могу, отчего не дается. Узнал я его, кажется, хорошо, было время – чуть на него не молился, в каторге он душу мне укреплял, стоило припомнить голос, черту, пару слов. А пока возился, деньги проел, выпросил другой аванс у Каткова, под новый роман и тоже проел.
– Не о принце роман?
– Нет, пока не о нем и даже не знаю о чем. Надо придумать, засесть за него, чтобы выбиться из крайней нужды, а не умею делать два дела разом, потому что ежели писать две вещи разом, обе пропали. А тут другая беда: о Белинском просто привести его собственные слова, и более ничего, ничего, да по нашей непечатности совершенно нельзя и нельзя. А у меня жена на руках, молодая, без платья почти.
– И вы прямо сюда?
– Куда же ещё?
– А я диву даюсь, увидя вас у адовых врат. Думаю: он-то как на развратной стезе, на европейском-то перепутье, куда русский образованный человек за цивилизацией ездит, не в рулетку играть? На рулетку-то, согласитесь, ползет одна сволочь. Нам-то, старикам, уж нипочем искушения пошлостью, соблазном дурную копейку схватить, а он-то, думаю, как, ведь он всё на Запад плюется, гниль, повествует, и грязь!
– Рулеточный город.
– Хотите играть?
Он с усмешкой вздохнул:
– Надо играть, Иван Александрович, надо, того гляди, пойду без штанов, а ради Христа тут, небось, никто не подаст.
– Вам, значит, без штанов нельзя, рекомендуете мне-с.
– Я всю жизнь почти без штанов.
Иван Александрович пожевал губами и негромко спросил:
– И надеетесь очень?
– На что?
– На выигрыш, разумеется, на что же ещё?
Он поморщился, боясь сглазить, но кривить не умел:
– Да как вам сказать…
– Да уж скажите, что за секрет.
– Вот видите ли…
Иван Александрович вдруг рассердился:
– А вы не тяните, не украду и черкесу не передам-с.
– Я присмотрелся тут к игрокам…
– И непременно прорветесь.
Он заспешил, с готовностью кивнув головой:
– Вот именно, именно трудно, Страхов на что холодный философ, и тот бы, наверно, прорвался.
– Не знаю, как Страхов, а Некрасов не прорвался бы ни за что. Некрасов, надо вам знать стихами своими не кормится, он нужную карту ждать может сколько угодно, до трех суток, приятели говорят.
Он воззрился, морща лоб, пытаясь сообразить:
– Нет, нет, дело не только в том…
– Как же не в том?
– Ну, конечно, дело не только в том, чтобы ждать, а, главное, в том, чтобы себя побороть, чтобы знать, может ли человек и до какой черты, если может, с собой совладать. Есть во всем этом идея…
Иван Александрович оглядел его с явной насмешкой:
– Выходит, ради идеи вы только и приоделись? А я-то думал, что ради Европы!
– Без оглядки бежать бы от вашей Европы.
Иван Александрович развеселился совсем, но заговорил размеренно, даже бубниво:
– Давно гляжу: русский за границей все-таки странное существо. О патриотах молчу: патриоты готовы оплевать даже европейскую чистоплотность, потому что, видите ли, говорят, больно глупо транжирить бесценное время жизни, необходимое позарез для благоустройства святейшего мира их всеславянской души, которая на самом деле так любит застыть в полнейшем безделье, в запое тоже, это бывает. Как говорится, Бог им судья. Но европейцы наши, то есть русские европейцы, тоже скучают и куксятся здесь до смешного. Глядишь, в родных-то пенатах для него только и света в окне, что Европа, демократия, цивилизация, культура, а попадет он в эту Европу, воззрится туда да сюда, будто нехотя, будто сердито, и поскорее домой, браня на чем свет стоит и эту демократию, и эту цивилизацию, и эту культуру. Истинная это загадка. Сколько лет наблюдаю, а разгадать не могу.
Он вернулся к своим размышлениям и задумчиво, медленно стал говорить:
– Одна главная причина во всем. В душе у русского человека есть идеал, вернее, может быть, жажда, потребность верить во что-то и обожать, а вокруг ничего близкого идеалу, не во что верить, нечего обожать. Во всем разложение, все врозь, не остается связей между людьми. Человек может сгнить и пропасть, как собака, и хоть бы тут были братья единоутробные, не только своим не поделятся, что было бы истинным чудом, но даже и то, что по праву было следовало погибающему у них на глазах, постараются отобрать всеми силами, даже и то, что свято. Жить от этого каждому скверно, и рождаются в человеке два чувства: гордыня безмерная и безмерное самопрезрение. Дома мы себя презираем и тянемся душой поверить в Европу, а в Европе нас разбирает гордыня, всё в неё не по нас, вот и плюем на неё из презрения к ней.
Иван Александрович благодушно прикрыл глаза:
– Помню, Белинский ещё…
Он стремительно повернулся всем телом, толкнув Гончарова, воскликнул:
– Белинский!? И вы!?
Иван Александрович затянулся несколько раз, с сожалением осмотрел окурок сигары, аккуратно отправил его прямо в урну, походившую на римскую вазу, вытер усы белоснежным платком, задумчиво склонил голову набок и озадаченно проворчал:
– В самом деле, статья ведь у вас…
Федор Михайлович точно забыл, о чем они проболтали почти битый час. Он точно сейчас подошел, погруженный в былое, смущенный его неподатливой тайной, раздраженный, что небольшая статья, на которую жалко трех дней, ему не давалась, и только присел, чтобы выпытать Гончарова, нетерпеливо и жадно послушать его, впитав в себя каждое слово, и тотчас воротиться к столу, где ждала упрямая рукопись. Он приготовился слушать. Медлительность Гончарова его раздражала. Ему не терпелось растормошить его сотней вопросов, поторопить, подхлестнуть, с жаром напомнив прошедшие годы, которые прожили вместе, хоть и прожили врозь, но он успел напомнить себе, что этот жар и эти вопросы способны вконец запугать и без того встревоженного, снова затаившегося в себе Гончарова. Ему надлежало успокоить его, сделав вид, что Белинский совсем в эту минуту не интересен ему, но он лгать не умел, да и знал, что Гончарова провести едва ли возможно. Он растерялся и неопределенно сказал:
– Не совсем как будто статья, мои личные воспоминания большей-то частью, только то, что я видел и слышал сам.
Иван Александрович будто спал и только проснулся, приоткрыл лениво глаза, но они напряженно блеснули: Пишущим интересна только работа, легко перепутать свое и чужое, вон и Шекспир, говорят, вставлял в свое чужие стихи.
Он вспомнил темные рассуждения о хитроумных черкесах, и сердце его оборвалось. Он угадывал, что Иван Александрович теперь замолчит и он нужного от него ничего не услышит. Он уверовал страстно в один этот миг, что в таком случае без его какого-то, может быть, одного, единственного, как будто случайного, но уж непременно самого верного и самого важного замечания никакой статьи не напишет. Ему надо было, необходимо, чтобы внезапно умолкший, подозрительно озиравшийся Иван Александрович немедленно стал вспоминать и рассказывать без оглядки, не опасаясь, что он, именно он, обворует его. Эта мысль, что тот, может быть, подозревает его в этой грязной способности присвоить хотя бы малую каплю чужого, до последней степени оскорбляла, бесила его, он готов был вскочить и бежать, обругав своего невольного собеседника, глубоко оскорбившего в нем человека, лицо его стало непримиримым и злым, но он не мог изругать издерганного, до болезни, может быть, кем-то и чем-то доведенного человека и не в силах был бежать от того, кто мог в его насущном деле помочь, он не мог поступиться тем, что писал.
Он сгорбился весь, сунув ладони между колен и сидел неподвижно, опустив отяжелевшую голову, сдвинув редкие, едва приметные брови, дрожа от неодолимых желаний. Он не статью должен был написать. Что статья? Он тип, он новый, никем не выведенный тип создавал, он слова, слова искал, чтобы вскинулись все, едва заслыша его, закричали в тоске: «Гнием! Мнем и гнем и гадим в материальности душу! Не хлебом единым жив человек! ” Ведь знал же, знал же какое-то слово Белинский, ведь когда раскусили его, повалили за ним, его идея всех победила и объединила сплотила тогда почти всех. А тут кругом всё вздор и раздор. Необходимо напомнить святое и чистое. Белинский-то в наше позорное время приходился, казалось ему, как нельзя более кстати. А этот, этот, прикинувшись сонным в такую минуту, сидит и молчит, дрожа над памятью о таком человеке, как над своим кошельком. Да быть такого не может! Есть ж слово, которое шевельнет и его!
Он поднял голову. В лице не стало недавнего раздражения. Глаза его были кротки и очень печальны.
Он произнес:
– Мы с вами оба знали его, может быть, это было величайшее счастье и величайшая милость для нас, что нам в нашей спутанной, неустроенной жизни повстречался Белинский. Теперь таких нет, на кого ни гляди, да и будут ли скоро такие. Вы скажите, кого уважать в наше безрассудное, в наше бесчестное время? Всё какие-то пыльные, стертые лица, без образов, без примет, без горячей, страстной идеи, способной всю нашу жизнь обновить, новым светом озарить се сердца, восстановить почти совсем уж погибшего человека. Убеждений нет никаких, то есть единственных убеждений, которых не променяешь на рубль, без которых не жить, лучше за которые умереть, чем отступиться от них. Науки, литературы, никаких нет точек упора душе, подверженной сладким и даже очень сладким соблазнам, которые видим в каждой витрине на каждом шагу. Разбрелись кто куда, не понимают, даже и не знают друг друга. Один цинизм проник всю эту массу пошлых помыслов, мелких желаний. Изверились, изврались, и как изврались, как никогда. Хлестаков, по крайней мере, врал, врал, да боялся же во время вранья, что вот его возьмут да выведут на чистую воду да выгонят вон, а современные-то Хлестаковы и этого не боятся и врут себе в полнейшем спокойствии, и вот молодежь, наша честная молодежь осталась без вождя и бросается из стороны в сторону, то мелкое самолюбие в ней, то ложное понятие о гуманности, то преступление. Остались все без корней. Ведь это болезнь, болезнь тяжелая, страшная. Что хуже, что опасней всего, так это то, что болезнь лежит в самом корне нашего общества, унижающем и озлобляющем человека откровенной несправедливостью и гнуснейшим неравенством, противном Христу. И кому указать на эту болезнь? И что противопоставить, кого? И где отыскать и силу и искренность духа? А Белинский, ведь Белинский был и светом и корнем и совестью, да! Вот забыли его, заблудились, на гроши разменяли его идеал, а без идеала-то одна возможна скотская жизнь или подлая смерть. Стали смешные, ничтожные люди. Не верит никто ни во что. Вот и Белинский…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?