Текст книги "Вторжение в Московию"
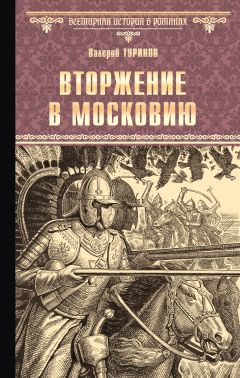
Автор книги: Валерий Туринов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава 10. Ураз-Мухаммед
Над рыхлой, ещё не устоявшейся заснеженной дорогой, над строем всадников покачиваются, играют меховые башлыки. Парок вверх улетал кудрявыми колечками от тёмно-гнедых горячих маштачков. И быстро, быстро семенят они, и лишь мелькают белые подгрудки.
Так подходил Ураз-Мухаммед, касимовский хан, подвластный Москве, её слуга, вассал, к Тушинскому лагерю с нукерами[54]54
Нукеры – воины личной гвардии хана; мулла – лицо, отправляющее богослужение у мусульман; мурза, или мирза, – сокращенное «эмир-заде», сын или ученик эмира, дворянин второго ранга (по своему словообразованию название напоминает «детей боярских» Московского государства), титул феодальной знати в татарских государствах; дуван – казначей при хане, добыча, делёж добычи и сходка для дележа.
[Закрыть]. Шли строем конники. А впереди всех был сам хан. И тут же, рядом с ним, нукеры, всегда готовые расстаться с жизнью за него. Они с ним скачут и берегут его, как вожака степные волки. А он ведёт их туда, где есть добыча, хотя опасность там тоже велика. И ханский двор был с ним тоже рядом: два мурзы, мулла, и тут же кади, дуван и длинная цепочка кибиток крытых. Сам хан сидел на скакуне турецком, наряженном сейчас для выездки на торжество. Скакун под ним, сухой и с мускулистой шеей, хвост убран по-арабски, шёл ходко, нёс голову с изяществом, поистине достойным царского. При нём, при хане, рядом с ним, на жеребце той же породы, сидел наездник юный. Он точно влит был в седло. Из люльки будто был посажен он в него. Это Келмаметка, сын хана, с желтоватой кожей азиата, слегка раскосы и черны его глаза. Ордынский меховой армяк висел на нём, просторно развевался на ветру. Он – недоросль и ещё мал для службы. Ему всего-то минуло 13 лет. Но воин чувствовался в нём уже: взгляд гордый, свысока, и руки сильные…
– Ата, гляди, гляди туда! – вдруг вскрикнул юнец, уловив раньше всех своими зоркими глазами вдали городок, конечный пункт их путешествия.
Да, там показались башни приземистого городка вольных гусар, с разбоем хорошо знакомых. Да, да, в те времена не так-то просто было отличить разбойника от рыцаря. Иной разбойник вёл себя по-рыцарски, а рыцарь грабил, как разбойник…
Вокруг всего громадного лагеря шли земляные валы, ров тоже опоясывал его. Но стены были низкие. А там, за ними, таилась неизвестность для него, для хана без орды. Хотя и знал он, когда ему Аллах указывал пожаловать сюда, чтобы начать здесь новую жизнь: четверг для мусульманина ведь день святой, особенный.
А вот и звук трубы со стен сорвался и к хану полетел. Она пронзительно запела, словно соскучилась по нему. Ударили на стенах и в барабаны и дробь там выбили какую-то. Тотчас же из ворот с полсотни всадников явились.
Навстречу ему, касимовскому хану, выехал сам князь Роман. Он был в доспехах, в боевом наряде, предстал как настоящий рыцарь перед ханом, вот этим азиатом. Остановился он с гусарами неподалёку от ворот, дождался, когда подъедет хан, и, приветствуя его, сказал несколько слов, но искренне, от сердца.
Ураз-Мухаммед был молод. В нём не растратил ещё сил степняк, горячий, пылкий. Сейчас же, немедля готов был ехать он на приём к царю Димитрию. На это князь Роман лишь усмехнулся. Он уже хорошо узнал русских дьяков, заполонивших всё вокруг царя. Те будут тонко волочить дело и долго не подпустят к царю хана, выжидая, когда тот созреет для приёма. И он отвёл хана с его ближними в стан донских казаков, где им выделили место на постой.
Но на этот раз князь Роман не угадал. Каким-то образом у дьяков всё быстро провернулось. И уже через день, в субботу, Ураз-Мухаммед был принят царём в его новых хоромах, в большой палате. Дьяки называли её «Золотой», тоскуя по Кремлю, его палатам.
Хана с мурзами, муллой и кади у крыльца хором встретил Михалка Бутурлин, спросил о здоровье и проводил до дверей государевой палаты. Там хана принял от него Салтыков и тоже справился о здоровье. Вот только после этого распахнулись двери царские. И Салтыков вошёл с ханом и его ближними в палату и объявил: «Государь и великий князь Димитрий Иванович всея Руси! Тебе, великому князю, челом бьёт хан Ураз-Мухаммед, сын Ондана, с товарищами!»
И хан, и его свита поклонились ему, царю Матюшке.
А он уже знал о хане, пожалуй, всё: от Петьки Третьякова, всезнающего дьяка Посольского приказа. И он был настроен на скучный приём… Но вот хан уже подносит ему саблю. Оправленная золотом, она была великолепна. Нежно-голубая бирюза, охватывая рукоятку, укрощала силу надменного клинка. Да, цвет неба усмирял шальные устремления. Клинок притягивал глаза, чесались руки, хотелось поиграть им прямо здесь, при всех в палате.
Матюшка благосклонно кивнул хану, когда тот подарил ему ещё и золотую петлю, да непростую: она переливалась вся драгоценными камнями… «Сколько бы за неё дали-то! А?! – расчётливая мысль прорвалась вдруг из его прошлого, полуголодного, скупого. – Марине на соболью шубку!..» И он усмехнулся, подумав, как выглядело бы это сейчас, если бы он продавал вот эту безделушку.
Приём шёл своим чередом. О нём не думал он. Его же подданные разыгрывали что-то перед троном… «Интересно, что делали бы они, если бы я исчез куда-нибудь со своего кресла?.. Так что же ты, Матюшка, представляешь собой?»
– Государь и великий князь!..
«Вот это уже ко мне! А может, к трону?.. О-о, опять он, старый хрыч! И позволяет что-то хану!»
Да, по знаку Салтыкова тот подходит к его руке, к руке Матюшки. Затем он, оказывается, подарил хану золотой нож.
И на том приём был завершён. Теперь последовало его любимое застолье. Там он, как царь, мог поговорить после долгого молчания на приёме…
Ураз-Мухаммед захмелел быстро. Его напоили, заведённым обычаем. Он расчувствовался, и его потянуло с чего-то рассказать всё о себе вот этому царю со странным взглядом, вроде бы внимательным, но очень уж холодным… Вот так же, наверное, взирает сверху и Аллах на него, на хана, когда испытывает его… Не задавался он вопросом: кто и откуда неведомый этот человек… Ещё недавно входил он на приём к первому царю Димитрию. Тот визит запомнился ему, поскольку там он был вместе со шведским принцем Густавом. Потом же того царя назвали Гришкой, Расстригой… А вот этот совсем не похож на первого. Ой как непохож! Ну да это не его, хана, дело. Вон сколько войска за него, царём признали…
Ураз-Мухаммеду было всего тридцать восемь лет. Из них двадцать два года он прослужил московскому государю. Попал же он к нему не по своей воле.
В Сибирь, на хана Кучума, он пришёл из Бухарской земли с Сеид-ханом, Сейдяком, своим приятелем. Тот вернулся на землю своего отца, хана Бек-булата, чтобы отомстить Кучуму за его смерть и смерть дяди. Кучум, побитый Ермаком, но ещё в силе, бежал от Сеид-хана, после того как ему изменил его верный Карача… Тот день, когда он попал в неволю, Ураз-Мухаммед помнит до сих пор.
– Сеид-хан – наивный хан! Поверил воеводам, пошёл в крепость, Тоболеск. Сам пошёл!.. Говорил же ему Карача, большой карача Кучума: не верь московским – обманку затевают.
– Но ты же пошёл! – с чего-то проявил сочувствие к нему Матюшка.
Ураз-Мухаммед тактично ответил, что он не трус, не мог же он бросить Сейдяка, хана, своего друга.
Воевода же Тобольска, Данило Чулков, нарочно велел, вот хитрец, подать им за столом русской водки. И Сеид-хан, за ним Карача, а потом и он, Ураз-Мухаммед, невольно поперхнулись, когда глотнули доселе невиданного ими напитка. Такого крепкого, аж дух спёрло, по ногам ударило, язык куда-то повело.
– То Бог обличает вас в неправде! – с усмешкой сказал Чулков и подал знак казакам.
Те навалились на них и скрутили. Телохранителей же, что оказались в крепости, побили, а воинов за стенами разогнали картечью из затинных пищалей.
Вот так он, Ураз-Мухаммед, и оказался в Москве. Там его принял сам государь и великий князь Фёдор Иванович. Он целовал ему крест и стал служить. Ходил он не раз и в передовом полку, и в сторожевом, всегда писался первым полковым воеводой: по чести, как наследный хан Казахской орды. И был почёт, оклад и слава… Потом наступило время Годунова. А вот и тот памятный день… Ураз-Мухаммед въехал со свитой кирманских биков и мурз в Троицкие ворота Кремля. Впереди них, красуясь на отборных скакунах, гарцевали два десятка боярских детей в белых одеждах. От ворот по обеим сторонам улицы парадно вытянулись стрелецкие сотни. Не доезжая десяти саженей до царского дворца, Ураз-Мухаммед и его ближние сошли с коней. Тут их встретили головы московских стрелецких приказов и вместе с ними поднялись по широкому каменному крыльцу. На верхнем рундуке и в сенях всюду стояли жильцы, одетые в яркие кафтаны. Здесь Ураз-Мухаммеда приветствовали стольники. Оказав ему честь, они проводили его до дверей Средней Золотой палаты. Там высокого гостя уже поджидал окольничий Иван Михайлович Бутурлин. Он спросил Ураз-Мухаммеда о здоровье и хлопнул в ладоши: тут же распахнулись двери. И Ураз-Мухаммед в сопровождении окольничего вступил в палату со свитой. Они прошли до трона и остановились в трёх саженях от него.
Борис Годунов восседал на золотом троне во всём блеске царского одеяния, усыпанного жемчугом, серебром и драгоценными камнями. На шее у него висел массивный золотой крест, в правой руке он держал скипетр с двуглавым орлом. По левую руку от трона на высокой пирамиде лежала круглая держава с крестом. Рядом с ним, по правую руку, на троне меньших размеров, сидел его сын, царевич Фёдор: упитанный, гладкий телом красивый отрок. И тут же, подле трона, точно изваяния, застыли рынды с секирами на плечах, в белоснежных одеждах. А с лавок около стен чопорно взирали на церемонию бояре и окольничие. Здесь же, впереди них, сидел патриарх Иов, престарелый и беспомощный, такой, какой был нужен Годунову… Так шепотком судачили злые языки…
Годунов встретил гостей лёгкой улыбкой, в больших, слегка прищуренных тёмных глазах сквозил живой интерес к устроенному торжеству. И он, было заметно, сдерживал себя, свои желания, стеснённый монотонным ходом ритуала.
Ураз-Мухаммед поклонился ему и царевичу большим обычаем. А Бутурлин громко объявил его: «Великий государь, царь и великий князь Борис Фёдорович, всея Руси самодержец и многих государств государь и обладатель! Великий государь, царевич князь Фёдор Борисович, всея Руси! Вам, великим государям, Ураз-Мухаммед-хан, сын Ондан-султана, с товарищами челом ударили!»
Годунов доброжелательно улыбнулся, из-под чёрных усов у него сверкнули белые зубы. И он вроде бы подмигнул ему, Ураз-Мухаммеду, мол, не робей, мы знаем дело туго, справился о его здоровье, спросил о том же его мурз и биков. Затем он перекрестился на державу и провозгласил, голосом сухим, но властным, свою милость: жалует-де он в знак особых заслуг перед Московским государством Ураз-Мухаммед-хану город Кирман, который остался без хана по смерти Мустафа-Али.
Ураз-Мухаммед низко поклонился ему, приложил к груди руку и дрожащим от волнения голосом заговорил о своей искренней верности служить ему и царевичу. Когда он закончил, Бутурлин повёл его к лавке около боярских мест. И он сквозь пелену, затягивающую взор, заметил, что его ближних усаживают подле окольничих мест. Им поднесли красный мёд в серебряных ковшиках, одарили собольими шубами. И он, под эту возню, снова оправился, взял себя в руки.
Затем Годунов пригласил его, нового подвластного ему хана, к себе на обед и скоренько, с видимым облегчением, поднялся с трона и направился с царевичем вслед за дворецким в Столовую палату. За ними потянулись гости, а следом цепочкой бояре и окольничие.
– И то было 15 рамазана в 1000 год Хиджры, по окончании года Свиньи и наступлении года Мыши, – сказал Ураз-Мухаммед и печально посмотрел на него.
И Матюшка понял по лицу хана, что тот сожалеет о судьбе великого государя Московии, который возвысил его и так рано и внезапно оставил этот мир. И его сердце снова заскребла зависть, появилось раздражение на вот этого хана, на то, как он говорит о Годунове. Но он не подал виду, что слова хана задели его.
А Ураз-Мухаммед стал рассказывать дальше… В четверг, 17-го числа месяца шавваля он покинул Москву. В Касимов, в Кирман, как называли ещё этот город, он отправился с биками и мурзами в сопровождении двухсот татарских конников, боярского сына Андрея Воейкова и толмача. Через неделю, в четверг того же месяца, он прибыл в город своего удельного ханства. В благословенный же месяц зиль-хидж 10 числа, в четверг, на восходе солнца, призывно зазвучал голос муэдзина с высокого минарета большой каменной мечети, построенной Шах-Али-ханом. И вскоре около мечети собрались все жители города, как русские, так и татары. Внутри мечети все заняли места по чести: царский посланник Воейков с толмачом Ильшаткой, бики, муллы, хафизы, мурзы и данишмеды[55]55
Толмач – переводчик (обычно посредник в беседе, разговоре); бики, беки – ордынская знать; хафиз – профессиональный чтец Корана, большей частью знавший наизусть; данишмед – учитель-богослов.
[Закрыть]. В мечеть внесли большую золотую кошму и расстелили перед ханом. Тот сел на неё, поджав под себя ноги. Четверо дюжих воинов ухватили кошму за четыре угла и высоко подняли хана. И Буляк-сеид стал торжественно провозглашать хутьбу[56]56
Хутьба – пожелание счастливого царствования хану; сеид – почётный титул мусульманина, ведущего свою родословную к Мухаммеду.
[Закрыть], распевно, на манер молитвы, выразительно поднимая и опуская голос. А Ильшатка зашептал на ухо Воейкову, переводя слова проповеди о благословении и пожелании многих лет царствования хану.
– Да будет милостив Аллах к Ураз-Мухаммед-хану и его царству! – закончил сеид.
И под сводами мечети гулко разнеслось: «Да будет Аллах с тобой! Да будет славен Ураз-Мухаммед-хан!»
Воины пронесли его через мечеть, под громкие крики прославления. Со всех сторон на кошму летели пригоршнями монеты, осыпали серебряным дождём нового хана Кирмана. И его сердце дрогнуло и затрепетало впервые после того памятного пленения в Сибири.
Несколько дней в городе повсюду горели огромные костры. На них жарили баранов, лошадей и коров, забитых несметным числом. Рекой лилась водка, мёд и милости хана на приближённых, жителей города и узников тюрьмы.
Прошёл год. В первых числах марта Ураз-Мухаммед явился по вызову Годунова в Москву. Там находилось великое посольство Посполитой и намечалась постановка важного договора о мире. Как обычно, боярские дети с почётом проводили его до царского терема. У дверей Грановитой палаты его снова встретил и объявил Иван Бутурлин. В палате же, в торжественной тишине сидели бояре, окольничие и думные дворяне. На этот раз его посадили вдали от трона, рядом с астраханским царевичем Араслан-Алием, сыном султана Кайбулы. И к нему тут же подсел и поздоровался Мухаммед-кули.
Его, Мухаммед-кули, а по-простому Маметкула, он не видел, почитай, уже более двух лет, не менее. С того времени, как они ходили с войском под Серпухов сразу по воцарении Годунова. Маметкул шёл тогда первым воеводой в передовом полку, он же был первым в сторожевом… Маметкул постарел, волосы у него осыпало сединой. И он стал похож на своего двоюродного брата – Кучум-хана, каким смутно запомнил его, ещё с малых лет, Ураз-Мухаммед. С возрастом и сединой у Маметкула исчезла и былая воинственность. А раньше, в молодости, предерзок был, жесток сердцем. Не единожды разорял строгановские поселения на Каме. Ещё за добрый десяток лет до прихода туда Ермака. Немало доставил он хлопот и казакам отважного атамана. После поражения и бегства от Кашлыка он долго выслеживал казаков, дожидался удобного момента. Как рысь, бесшумно ходил он с немногими воинами вокруг их ночных стоянок. И его час настал. В декабре, на Абалак-озере, вырезал он ночью дружину казаков, когда те промышляли рыбу подлёдным ловом. Ермак, мстя за них, погромил его, захватил в плен, но не казнил: отойдя сердцем, он отправил его в Москву. Там же Маметкул бил челом царю Фёдору, только что вступившему на престол после смерти отца, Ивана Грозного, и целовал ему крест в верной службе…
Ураз-Мухаммед окинул его сочувствующим взглядом и справился о его здоровье.
– Да какое уж тут здоровье-то! – отмахнулся Маметкул. – В мои-то годы! Слушай-ка лучше государя!
В этот момент в палату вошёл Михаил Салтыков и объявил литовского посла Льва Сапегу с его многочисленной свитой.
Церемония подписания договора затянулась надолго. Сначала его по-русски зачитал думный дьяк Афанасий Власьев, затем по-польски писарь Голияш Пельгржимовский. Потом грамоту скрепили большой государевой печатью и вручили послу. И Борис Годунов, продолжая приём, пригласил всех в Столовую палату. И там, за государевым столом, все подняли чаши за великого московского князя и короля Польши Сигизмунда III: чтобы быть им в мире и любви на добрых два десятка лет.
На отпуске Годунов щедро одарил послов соболями и золочёными кубками. А Сапега поднёс ему памятные вещицы. Не обошёл хитрый посол вниманием и татарских царевичей, рассчитывая, что они при случае сыграют свою роль: посеют раздор в Московии, когда будет надо…
Уже под вечер только Ураз-Мухаммед и Маметкул вышли из дворца и сели на коней.
– Поехали ко мне! – пригласил он Маметкула к себе, на подворье хана Кирмана.
Да, давно, очень давно не сиживали они вместе, не пили вино и мёд, не вспоминали прошлое, былую силу и крепость Сибирского ханства, странно легко завоёванного казачьим атаманом…
Хан остановился. И Матюшка воспользовался этой паузой и подал знак виночерпию. И тот налил всем вина. Выпили. Хан же, растревоженный воспоминаниями, глубоко вздохнул и повёл опять свой рассказ.
Прошло полтора года. В середине сентября 1602 года в Касимов заявился царский сокольничий Гаврила Пушкин.
– Государь велит тебе, касимовскому хану, пожаловать ко двору, – без лишних слов перешёл он к делу. – По случаю приезда датского принца Ганса. За того он прочит выдать свою дочь Ксению… И быть бы тебе там, как подобает его холопу!
Сокольничий заносчиво глянул на него и чему-то ухмыльнулся: «Хе-хе!»
Он же опустил глаза, чтобы не видеть его издевательской ухмылки, и покорно приложил к груди руку: «Как государь укажет!..»
В день представления великому князю принца улицы города запрудили толпы зевак. Парадно выстроились дворянские и стрелецкие сотни.
К Годунову, в Среднюю Золотую палату, Ураз-Мухаммеда ввёл и объявил теперь окольничий Пётр Басманов. Едва тот успел усадить его на скамеечку в стороне от боярских мест, как тут же в палату торжественно вступил герцог в сопровождении Салтыкова. Герцог, ещё совсем юный, ему не было и двадцати, тщился выглядеть взрослее, серьёзнее и строже. Он был высок ростом, белокур, со светлыми глазами, тонким длинным носом и небольшими, едва пробивающимися усиками. Он передал от короля Христиерна грамоту Годунову, поклоны и пожелания ему многих лет царствования…
Когда же дворецкий пригласил всех к столу, то Годунов взял герцога под руку, по-свойски, как зятя, вроде бы дело уже решённое, и прошёл с ним в Грановитую. За ними прошли гости и бояре.
В центре палаты, около четырёхгранного столба, который поддерживал тяжёлые ниспадающие своды, на столах рядами громоздилась друг на друге во множестве серебряная и позолоченная посуда, кубки и братины.
Годунов обвёл герцога вокруг этого столба, показал свои сокровища.
Принц был восхищён!
А Годунов, польщённый его похвалой, снисходительно улыбнулся. Да, молодой человек, определённо, нравился ему.
– Великий князь Борис Фёдорович изволит позже явить, вашей светлости иные драгоценности и каменья, – перевёл толмач его слова принцу.
За обедом Борис Годунов был как никогда весел, говорил много и ласково с принцем. Рассеивая его в новой, необычной для него обстановке, он называл его вторым сыном, шутил и смеялся. Он знал, что сейчас герцога пристально разглядывают Мария и Ксения через тайное окошечко, закрытое решёткой. И они потом уже признались ему, что подметили многие привлекательные черты у принца…
А рядом с ним, с великим князем, как всегда, был его дворецкий, троюродный брат Степан Годунов, следил за блюдами. Тут же стоял и по желанию наливал ему вино стольник Пётр Урусов, крещёный ногайский княжич. За столом же принца сидел Алексашка Плещеев и тоже следил за блюдами, что подавали дворовые.
Стоя подле государя, Урусов изредка бросал взгляды в глубину огромной палаты, как будто отыскивал кого-то по столам. И всякий раз его глаза натыкались на Ураз-Мухаммеда. И хан видел, единственный в палате, закрытое для всех лицо ногайца, первого стольника великого князя: холодное, как у Хизра[57]57
По мусульманскому народному поверью, Хизр, пророк, достиг источника жизни, нашёл источник живой воды, выпив из которого он стал бессмертен. Он ходит по миру в виде старца; дом, в котором он побывает, человек, с которым он встретится, становятся счастливыми.
[Закрыть] под личиной старца, достигшего источника жизни и счастья…
Хан замолчал, весь выложился, устал.
Матюшка тоже устал от него. И, не церемонясь, вскоре он выпроводил из хором всех гостей.
Уже было поздно, на дворе была ночь. С чего-то разогнало всю мороку. Мерцали небеса бесчисленными звёздами, словно подмигивали ему, хану Кирмана, тихонько что-то говорили с ним по-своему.
Хан был доволен приёмом, ласками царя. Он был хмельной, он ехал на коне по Тушинскому лагерю, он чувствовал себя удачливым и хитрым… Да, да, он умный, ловкий хан!.. Он только что ушёл от Шуйского, принёс свою покорность вот этому самозваному царю. Но никому ещё он не поведал задумки тайные свои. Да, он бросил свою ханскую вотчину, Касимов городок, вот только что. Не стал он ждать, когда к нему заявится Фёдор Шереметев, который воевал по Волге черемису и мордву и говорил всем, что он, хан Ураз-Мухаммед, изменил царю Василию… И вот сейчас, после приёма у нового царя, он возвращался к себе в стан и улыбался, загадочно, лукаво. О-о, он хитрый хан, он обведёт вокруг пальца и вот этого царя, похожего на мужика… И он замурлыкал что-то себе под нос, из прошлого, из детства, оттуда, из знойной Бухары…
Тогай, его ближний мурза, тревожно зашевелился в седле, сопровождая рядом хана: не тот хан стал, что-то сделал с ним царь. Уж не испортил ли? Глаз больно дурной у странного царя. Не видал мурза ещё таких. Шайтан, одно слово – шайтан! Там шайтан Федька Шереметев, тут шайтан тоже, везде шайтан!.. Куда податься бедному татарину?
«А Федька Шереметев шибко плохой воевода, – опять зашевелились у хана мысли. – Шибко!.. По Волге идёт, снизу идёт, из степей хана Иштерека… Осторохань не захотела его, пугала, стреляла. Он и пошёл вверх по Волге, долго, тихо шёл, всё воевал, всю мордву побил, с воинскими людьми шёл, с казанскими татарами, с черемисой, и чуваша с ним. Как тут быть?.. В Чебоксарах он побил много воровских. А те-то уже крест целовали вот этому царю… Затем и в Нижний пришёл… Из Арзамаса к нему, к хану в Касимов, прибежал сразу же человек от мурзы Беребердея, кричит: дескать, Шереметев и до тебя дойдёт, по Оке дойдёт, на судах дойдёт, судовой ратью идёт! Побьёт тебя! Уходи!.. Куда уходи? Жена куда, дети куда?! Ай-ай-ай! Как нехорошо!.. Потом он думал, ночь думал: ханынь велела ехать в Калугу. Ханынь, правоверная мусульманка, закона Корана не переступала, покорная мужу была, ругалась, однако собралась, поехала, с нукерами поехала… Сам сюда пришёл, с Келмаметка, к новому царю пришёл, поклонился… Хитрый, очень хитрый он, хан Кирмана!»…
В эту ночь, в ночь под новый, 1609 год по христианскому летоисчислению, а по нему тогда жил один только Тушинский городок на всей бескрайней Руси, касимовский хан был навеселе после застолья у самого государя. И он улыбался, уткнув нос в шубу. Сверкали чёрные глаза, чернее ночи они были. Но на душе его было светло и ясно, ясней, чем в бирюзовых ножнах старой сабли, подаренной им царю вот только что. Он, хан Кирмана, теперь сам волен выбирать себе хозяина, свою судьбу, судьбу своего ханства. Так он решил, так будет, так наказала ему вера отцов. И он заговорил об этом со старым мурзой Тогаем. А мудрый Тогай ехал рядом с ним и молча слушал его и ничему уже не удивлялся, посмотрев вот только что на странного царя.
* * *
В редкие свободные минуты вечерами Димитрий обычно наслаждался обществом царицы. Ему стало даже нравиться в ней что-то. Потом он догадался… «А-а!.. Робость женского ума!» И вспомнил он ту панночку, тот дьявольский соблазн, из-за чего всё началось. И тут, задумавшись, он вдруг увидел прямую связь. Не будь того соблазна, подумал он, то не попал бы он в тюрьму, и не было бы Меховецкого, не появился бы и князь Адам, и не было бы всего остального. Он не был бы царём! Как просто всё получилось!
Он даже повеселел, открыв такой странный оборот своего возвышения, и тут же велел дворецкому подать вина.
– Она, как бес в юбчонке, честь отняла, а царством наградила! – поднял он кубок с вином за тот соблазн, за панночку, под тупым взглядом шута, не понимающего, о чём же говорит царь.
«Соблазн, соблазн! А всякий ли?»… Тут его мысль растеклась по сторонам слишком широко, и на этом он остановился. Но он увидел в ней, в царице, в Марине, ту же капризную панночку, хотя самомнением куда более высоким… «Так чем же наградит тогда она меня?..»
Он почесал затылок от восхищения и посмотрел на князя Семёна, на то, как тот уставился на него, как и Петька, и, видимо, полагает, что он пьёт без причины.
«Интересно, а считать она умеет? Вот дать бы ей ту книжицу… Да нет же! Достаточно и одного Пахомки! Она нужна мне тут, живой и глупой!»
И с этой весёлой мыслью, оставив шута у себя в комнате, он пошёл к Марине, чтобы посетить её в очередной раз. Разговор у них сначала зашёл о положении тут, в большом лагере. Затем он перекинулся и на другое, когда Марина вспомнила о своём послании в Рим, к папе.
– Значит, что-то обещать папе?.. Да хоть самому чёрту клятву дам! – воскликнул он. – Папа так папа! Ха-ха!..
«Фу-у, какой грубиян!» – отозвалось неприятно у Марины в сердце.
– Его веру, католичество, на Руси насадить? Не так ли?
Духовник Марины, ксёндз Антоний, кивнул согласно головой.
А он, изобразив на лице добродушие, улыбнулся ему. Но это вышло неудачно, так как Марина подозрительно посмотрела на него. Он же улыбался и улыбался, чтобы поверили в искренность его слов, а сам трепетал от желания наказать вот этого иезуита, лживого, но и смышлёного к тому же… Тот был всегда при ней на их встречах, как будто она загораживалась им от него.
«Этот – не Пахомка! Тот если сворует, то будет каяться и землю целовать! В церковь побежит – свечку поставит своему святому!.. А этот – ни гу-гу! Припрёшь к стенке разоблачением, – вспомнил он недавний случай с соболями, исчезнувшими у кого-то из ближних царицы, – так вывернется, сукин иезуитский сын! Ещё тебя же обвинит во всех земных грехах!»
И он нарочно, чтобы позлить её, похлопал ксендза по плечу:
– А ты, батюшка, отвезёшь её письмо папе!
– Ваше величество, вы позволяете себе слишком много по отношению к моим духовным отцам! – повысила голос Марина и встала с кресла, в котором она обычно сидела в его присутствии, показывая тем свою независимость.
Как же в эту минуту она была рассержена! И злость была ей к лицу. А он смотрел на неё в такие вот злые минуты и почему-то сравнивал всё с той же Фроськой. Да, царица, полячка, но как женщина… Тут даже у него язык обычно останавливался… А ту, его Фроську, дьяки, тоже слишком уж смышлёные, как вот этот ксёндз, отправили куда-то подальше от лагеря, в голодную и разорённую смутой страну. И он иногда сожалел, что он царь. Он не был в восторге от царицы. Она проигрывала во всём Фроське. Он видел все её изъяны и ничего не находил в ней такого, из-за чего бы сердце дрогнуло иной раз само собой… Холодна, костлява, к тому же не терпела, не сносила его выходки… Да, перед ним была царица, и с ней он, по воле свыше, должен был хоть как-то уживаться. И вот в такие минуты он порой оттачивал всё ту же мысль: «У первого по женской части испорченным был вкус!..» И ещё его удивляли в ней две крайности: она была то равнодушна и холодна, а то злилась вдруг, как кошка, и хвост трубой…
– Ваша светлость, я написала послание папе, – продолжила она уже по-русски, и весьма сносно, уступая в этом его просьбам. Да, он говорил ей уже не раз, что она московская царица, а его ближние предпочитают слышать свой язык из её уст. Язык московитов она освоила быстро, учить его она начала ещё до приезда в Москву. К тому же он, язык московитов, оказался схожим с польским. А вот её духовник, учёный муж, никак не мог осилить его. – И прошу передать его в Кракове папскому нунцию, уважаемому падре Симонетти. Эти хлопоты возьмёт на себя моя мать.
Она посмотрела на него, скривила тонкие губы в усмешке и обратилась к ксендзу: «Падре, так и передайте папе, если вас допустят к его руке! Его величество готов и дьяволу себя продать, чтобы заручиться его поддержкой!»
Шутить, и зло шутить, с издевкой и двусмысленно, она умела и уже показала не раз ему это.
* * *
На Крещение морозы, везде сугробы: и в лагере, за стенами его, поля перемело, в лесу по пояс снега.
Вот в этот день пан Юрий уезжал из Тушинского лагеря.
Марина была нездоровой и с отцом простилась в палате. Затем она всё-таки решила выйти на крыльцо хором.
– Достаточно ему было бы и этого, – тихонько заворчала Казановская.
Она всё ещё не забыла тот осенний торг, когда её ласточку, любимицу, делили, словно какую-то вульгарную девицу. Хотя он и царь, как все считают, но это же не её муж!.. А как она, малютка, расстраивалась, когда её и его, этого чёртова царя, как называла она мысленно нового супруга Марины, тайком обвенчал ксёндз… «О-о, господи, и не где-нибудь в костёле, у прелата, пышно, принародно, а в шатре, по-воровски!.. Matka bozka, какое сотворили с ней бесстыдство!..»
Она надела на Марину шапку с меховой опушкой и накинула поверх царского платья соболью шубку, подарок царя к свадьбе. И, взяв с Юлией Марину под руки, они вышли из горницы как три подружки.
У хоромного крыльца Димитрий уже ждал Марину. Она спустилась с крыльца вниз и встала рядом с ним.
Пан Юрий тоже был уже здесь. Он поклонился ей, вытер ладошкой сухие глаза и, шмыгнув носом, хотел было сказать ей что-то, но понял по её лицу, что это будет сейчас неуместно. Он тоже волновался, но всего лишь из-за того, что опять что-нибудь помешает ему покинуть эту страну, где на его долю выпали такие испытания. О-о, он не устанет рассказывать о них до самой своей смерти: дома, в кругу семьи, друзей, и, может быть, придётся поведать королю, при случае, разумеется, когда допустят его к нему.
Он поклонился, прощаясь, и Димитрию.
Матюшка же, шагнув к нему, обнял его по-дружески и неумело прижал к себе. На большее он не отважился. От пана Юрия пахнуло хлебным квасом и эфирным маслом. Им смазал он бороду вот только что, рано утром.
– Буду рад видеть тебя ещё раз, но уже в кремлёвских палатах! Желаю доброго пути! – обнимая, похлопал он его по спине, невысокого ростом, но полного и круглого, хотя добротная соболья шуба, подаренная им ему, болталась свободно на его плечах, была как будто на вырост.
Пан Юрий, несмотря на расставание с дочерью, был рад отъезду. Наконец-то, наконец! Как они устали друг от друга!..
Здесь стояли уже в строю и гусары. Но не они поведут обоз пана Юрия к границе Посполитой, а две сотни донцов с Бурбой. Те держались поодаль от гусар, уже готовые к дальнему переходу по зимним и безлюдным, разорённым смутой волостям.
Сам же Заруцкий сейчас был в свите царя. И он, переглянувшись с Бурбой, подмигнул ему, мол, не подведи меня в этом деле. А тот всё понял, как понимал всегда его без слов.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































