Текст книги "Полюби меня, солдатик…"
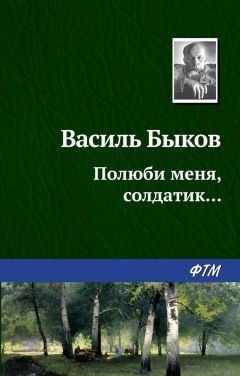
Автор книги: Василий Быков
Жанр: Повести, Малая форма
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Нам же и здесь было не скучно. Несколько американцев, находясь уже в хорошем подпитии, очутились перед моей машиной и беспардонно наперебой горланили, обнимаясь с Мухой. Оказывается, эти понимали по-польски, как и Муха, когда-то прибывший в полк из польской армии. В их разговоре то и дело звучало: «Бардзо проше», «Пан капрал», «Германско быдло!» Увидев меня, Муха радостно произнес:
– Товарищ лейтенант, вот чудо! Земляки! Их родители из Познани. Ромом угощают, хотите?
Один из его земляков – расхристанный, белобровый верзила – уже совал мне огромную бутылку, в которой что-то плескалось. Муха принялся подзадоривать: «Ну, за победу, лейтенант!» И я выпил – без особой, правда, охоты – несколько глотков теплого вонючего рома. После меня не спеша, со вкусом, отпил из бутылки сержант Медведев. Потом откуда-то появилась алюминиевая фляга, которая также пошла по рукам. Муха раздавал где-то добытые ломкие куски шоколада – на закуску. Мы снова выпили, и возле меня очутился здоровенный белозубый негр, стал бесцеремонно ощупывать на груди мою «красную звездочку».
– Презент, сэр официр? Йес, презент? Йес?
Я не понимал, что значит «презент». Не хочет ли он получить в подарок мой орден? Было похоже на то. В обмен он скинул с руки металлический браслет массивных часов и совал мне. «Как от него отделаться?» – подумал я. Другие, однако, и не пытались отделываться, на луговине шел массовый обмен сувенирами – часами, звездочками с пилоток, ремнями и даже пистолетами. Смотрю, мой тихоня Кононок в кузове уже прицеливается куда-то из новенькой американской винтовки, – выменял, что ли? Не навоевался парень. Рядом сидит на борту и блаженно ухмыляется расхристанный до пупа американец.
– Ну, еще выпьем за победу, лейтенант? – несколько развязно обратился ко мне Медведев.
– Давай!
Действительно, ведь победа. Самая большая победа в самой большой войне. Давай, Медведь, выпьем. За тех, кто уже никогда не выпьет…
И я выпил – пожалуй, впервые со своим подчиненным, командиром орудия. Вообще-то у нас не было принято пить с подчиненными. Если и пили, то обычно равные с равными: взводные – со взводными, комбаты – с комбатами. Но тут такое событие – конец войны. А мы с Медведевым больше четырех месяцев каждый день и каждую ночь вместе. В одном окопчике и возле одного орудия. А вот из одной фляги выпивать не приходилось.
– Все-таки могли в одной яме лежать, – сказал Медведев, держа в поднятой руке флягу и вроде не решаясь отпить.
– Под Шимонторнией?
– Под Шимонторнией, да. Там я уже не надеялся…
Там я не надеялся тоже. Во время весеннего прорыва немецких танков наше орудие отрезали от остальных, мы сутки просидели в кукурузе, не имея шансов из нее выбраться. Впереди на высоте были немцы, сзади на дороге – немецкие танки, наш «Студебеккер» утром сгорел на переправе, и мы приуныли. Однако Медведев нашелся: как стемнеет, надо кого-то послать в пехоту, чтобы дали человек пять, попытаемся выкатить пушку. Так и сделали. Послали Степанова, который в то время еще не был наводчиком, тот пролез между немецкими танками и привел четырех пехотинцев. Под утро в туманце кое-как выбрались с орудием из кукурузы и вышли к своим. Никого не потеряв. Хотя и намучились, не дай бог!
К нашей веселой компании присоединился и Степанов – сильный, не очень молодой младший сержант с орденом Славы на замызганной, без карманов гимнастерке – за тот его мартовский подвиг. Слез с машины Кононок. На этой ярмарке веселья, похоже, он единственный выглядел малорадостным – даже привычная усмешка сошла с его застенчивого лица. И я его понимал: кончилась война, а у парня – ни одной медальки. Комбат сказал: не заслужил. Провоевал всю зиму, как и все, страдал под огнем, но вот – не заслужил. А все потому, что молод и скромен. Хотя чего горевать – остался жив, не это ли наилучшая из солдатских наград?
Вокруг все гудело, копошилось и пело. Солдаты нашей и других батарей перемешались с американскими, которых уже принимали как братьев – с ними обнимались и пили. Всех охватило праздничное чувство победы. Где-то вдали горланили «Катюшу», а неподалеку зазвучала новая песня, которую начал красивый баритон батарейного запевалы:
Полюби меня, солдатик,
Буду верною женой,
А забудешь – только вместе
С родимой стороной…
– Лешка, брательник, я тебя люблю…
– Сержант, давай поцелуемся. Все-таки падла ты, хоть и герой!
– Лейтенант, не обижайся, если что, – говорил мне Медведев.
Его, похоже, не брал алкоголь, выглядел он трезвым и тихим голосом говорил мне:
– Замирятся, приезжай в гости. Вместе с семьей. Или один. Я же возле Тёлецкого озера живу…
Это я знал. За зиму и весну вдоволь наслушался о его озере, полном рыбных чудес и неземной красоты. Но сержант и сейчас не мог сдержаться, чтобы не напомнить об этом.
– Это не озеро – чудо. Первое место занимает по красоте.
– Может, и приеду, – сказал я неуверенно.
– А чего? Молодой, жениться пора. А у меня, гляди, и невеста готовая. Тоська моя как раз на подходе.
Я знал и о его Тоське. Медведев был вдвое старше меня, имел взрослую дочь и сына-пулеметчика, погибшего под Сталинградом. Осталась дочь, которую он и старался достойно устроить в жизни. Но вряд ли я годился в женихи к алтайским невестам.
Сзади между мной и Медведевым протиснулся санинструктор Петрушин – в надетой звездочкой назад пилотке, с раскрасневшимся лицом – видно, этот уже напробовался не только американского рома.
– Чур, Медведь, не просватай дочь – мне обещал.
Медведев лишь поморщился, хотя бесцеремонность санинструктора выводила его из себя.
– Слишком многого хочешь! – негромко бросил он и протянул мне флягу. – Выпьем, лейтенант…
Кажется, я выпил еще с Медведевым, а потом и с застенчивым Кононком и в конце концов с Петрушиным. Я уже не серчал на санинструктора, тем более что и он не серчал на меня, сам в том мне признался в божественную минуту откровенности. Похоже, потом мы даже обнимались с ним, и он все похвалялся, как его обожают офицеры, – сам начальник санслужбы здоровается с ним за руку. Уже совсем пьяным взглядом я заметил впереди покачивающуюся тень майора-пропагандиста – вроде рядом с комбатом или еще с кем, кого я уже не узнавал. Медленно, но верно я отключался, привалившись к крылу «Студебеккера». Какое-то время еще различал многоголосый говор вокруг, песни и смех. Слышал, как некоторые плакали пьяными слезами, – наверно, было отчего. Пока разворошенное воинство не сморил пьяный сон.
Как я уснул, не заметил, но проснулся вдруг на рассвете. Машинально нащупал возле головы огромное колесо «Студебеккера» и, ухватившись за него, сел.
На всей луговине стояли вразброс наши «Студебеккеры», никто их так и не выровнял, – как вчера поставили, так и остались. Между ними, под станинами пушек, на истоптанной молодой траве, в кузовах и раскрытых кабинах лежали, спали, храпели солдаты – советские вместе с американскими – кто где и кто как. Рядом со мной распластался вчерашний белозубый негр, который выпрашивал у меня орден. Привалясь к его ногам, лежал кто-то из наших, под ним, вдавленный в землю, валялся старый карабин. Кобура у американца была расстегнута и пуста, наверно, кому-то уже подарил свой «кольт». Или обменял на этот вот ржавый карабин. И я с усилием поднялся на ноги. Болела голова, непривычная тяжесть ощущалась во всем теле. Однако новое намерение уже завладело мной. Примерно я помнил, с какой стороны мы приехали сюда, и неуверенным шагом побрел в том направлении. Обошел «Студебеккеры» своей батареи, нигде не увидел комбата, подумал, что так, может, и лучше. Возле одной машины наткнулся на знакомые сапоги санинструктора Петрушина, который, свесив ноги из раскрытой кабины, сладко спал на мягком сиденье. Наверно, перебрал, недобро подумал я, хотя сам был не в лучшем состоянии.
Сонным переулком, сплошь заставленным переправочными амфибиями, вышел на главную дорогу. В этот рассветный час всюду было тихо и безлюдно, словно наступил конец света. Все спали – в машинах, во дворах и в домах тоже. Отдыхали, отсыпались – после великой страды войны.
Мой сон отлетел без остатка, и я побрел по дороге. То и дело оглядывался в ожидании какой-либо попутки, хотя на дороге пока не появилось ни одной машины. Тем временем совсем рассвело, голубое ясное небо было без единого облачка. Зачинался первый день мира, день Великой Победы. По дороге навстречу появился какой-то автомобиль с двумя офицерами в кабине. За ним через продолжительное время показались еще два приземистых цивильных автомобиля с кузовами, полными освобожденного европейского люда. Этих было слыхать издали, они горланили свои песни, наверно, ехали домой. Я все шагал по дороге, пока городок не остался далеко позади. Дорога ровно бежала вдоль берега довольно широкой реки. На той ее стороне, видно, тоже пролегало шоссе, движение там было оживленнее, чем на этой. Автомобили сновали в обоих направлениях, и я понял, что там американцы. Река стала границей между двумя зонами, как между двумя мирами.
Но что было делать мне? Постепенно я стал приходить в себя после вчерашнего, все яснее понимал авантюрность моего замысла. Так, пешком я не дойду, мы далеко отъехали от нашего последнего рубежа. А если и повезет наконец с машиной, едва ли успею вернуться в срок. Все-таки, как ни крути, я находился в самовольной отлучке, в полку скоро обнаружат мое отсутствие.
Но и возвращаться было нелепо – столько прошел… Наверное, в самом деле, подумал я, если нет другого выхода, на выручку приходит случай. Может, не всегда вовремя, бывает, с немалым опозданием, когда от него мало пользы. Нашего комбата Рукавицына за бои на Днестре представили к званию Героя. Очень хотел комбат получить Золотую Звезду, да не суждено было – погиб под Секешфехерваром. Только похоронили, пришел указ. Но кому он тогда был нужен? Разве для отчетности о количестве награжденных в полку. Невесело размышляя на эту тему, я оглянулся и увидел машину, которая, начав сбавлять ход, вдруг затормозила на обочине. Это был мощный пятитонный «ЗИС», из кабины которого выглянул веселый шофер в новой, необмятой пилотке.
– Что, лейтенант? В тылы? Садись, прокачу!
Через задний борт я взобрался в кузов, почти весь занятый каким-то старосветским шкафом или буфетом с позолоченными арабесками на застекленных дверцах; возле кабины торчали еще какие-то ящики. Места для пассажира тут, в общем, не было, лишь сзади возле самого борта осталась узкая щель, в которую протиснулись мои ноги. Держаться также было не за что, и я неловко оперся руками на полированный бок шкафа.
– Во, будешь держать, чтоб не сдвинулся. А то стукнется, кому отвечать?
Оказывается, и в день победы не все пили-спали, подумал я. Некоторые занимались делом. Но спасибо, что взялся подвезти – все же лучше, чем топать пешком.
«ЗИС» не быстро катился по хорошей дороге, весенний ветер приятно овевал вспотевшее от ходьбы лицо. Мое желание вот-вот должно было осуществиться, и я почти был доволен. «Полюби меня, солдатик, буду верною женой», – звучало в моей душе, и я уже знал, что люблю ее. И в то же время какое-то неясное беспокойство тревожными токами проникало в мои чувства и все хотелось – скорее! Я боялся опоздать.
– Победа, лейтенант! Гляди-ка, дожили, однако! – донеслось по ветру из кабины, до половины загруженной какими-то свертками.
Пошли машины – легковые, штабные, грузовики. Эти также устремились к победе, на встречу с союзниками. В окнах трофейного автобуса промелькнули веселые девичьи лица и донеслась музыка – там играла гармошка. Наверно, какой-то ансамбль песни и танца, догадался я, – из тех, что вдохновляли нас на победу. Опоздали, однако, на великое свидание, надо было вчера. Но вчера, по всей видимости, они были далеко.
Вчерашних немецких колонн сегодня не было видно, не было даже групп или одиночек, наверно, за ночь всех организованно отправили куда следует. В самом деле, не распускать же их по домам. В знакомом, безлюдном вчера городке вовсю шло оживленное празднество, настоящий уличный фестиваль со множеством людей, и, как я понял, не только австрийцев. Сюда собрались, кажется, со всех окрестностей, из других городков, недалеких горных селений. На площади возле ратуши развевались на ветру разноцветные флаги – французский триколор, английский – в крестообразные полосы и еще незнакомые. Говорливо митинговали иностранцы-рабочие, согнанные Гитлером со всей Европы для работы на военных заводах. Сегодня они свободны и могут отправляться по домам – каждый в своем направлении и под своим флагом. Мне также надо было домой, но, видно, моя очередь еще не настала. Опять же, меня ждала она.
Немного отъехав от людной площади, «ЗИС» круто свернул на широкое подворье и остановился. Веселый шофер соскочил на брусчатку.
– Приехали. Тебе куда, лейтенант?
– Мне дальше.
Я озабоченно огляделся по сторонам. Во дворе стояли два «Студебеккера» – пустой и чем-то наполовину загруженный. Но куда они едут? И когда? Спросить было не у кого. Я обошел их с другой стороны и увидел прислоненный к стене велосипед. Желтая, из свежего дерева дверь была закрыта, никто оттуда не выходил. Осторожно взяв велосипед, я развернул его колесом к улице. Никто меня не остановил, не окликнул, и я покатил по асфальту.
Сперва мчался сколько было сил, бешено крутил педали. Потом слегка замедлил темп. Все же за мной, похоже, не гнались, можно было и потише. Встречные автомобили в основном держались своей стороны и мне не мешали. Лишь однажды на повороте едва разминулся с «Доджем», в котором пятеро офицеров с бутылкой встречали победу. Вокруг расстилался живописный ландшафт – горная долина, лесистые склоны гор; кое-где на опушках видны были белые и серые постройки с широкими крышами; улицы придорожных поселений нередко украшали пестрые фасады в средневековом стиле фахверка. Вдали из-за снежных вершин внезапно выкатилось солнце и, как вчера, слепящими лучами ударило в лицо. Солнце с востока. Там была моя родина – без гор и красивых построек, со своей милой для меня, скромной зеленой прелестью. Я жаждал вернуться туда. Конечно, с нею.
Однажды возникнув, мое намерение крепло с каждой минутой. Как его осуществить, было не очень понятно, лишь чувствовал: откладывать нельзя. Да и зачем откладывать? Война ведь окончилась. Враг разбит, и победа за нами. Мне было уже за двадцать, и я встретил свою любовь. Наверно, поздновато для первой любви, но так уж получилось. Прежде не было времени, не подворачивался случай. Как-то в госпитале под Знаменкой приглянулась сестричка Нюра из физкабинета. Раненые разрабатывали у нее недолеченные руки-ноги, крутили «велосипед», сжимали какие-то пружинные рогули. Я посидел с ней на дежурстве, потолковали о том о сем, и она мне показалась очень милой и ласковой. Она и в самом деле была ласковой, но, на беду, не со мной одним. Однажды дала рапиру, чтобы пофехтовать с нею. Фехтовальщик из меня получился неважный, она легко и не раз уколола меня. Но именно с этого фехтования я готов был полюбить ее. Пока не увидел, как она фехтует с раненным в голову капитаном-летчиком. Наверно, капитан оказался ловчее меня во всех отношениях и, уезжая из госпиталя, забрал с собой Нюру. В авиаполк. Я же остался долечивать простреленную на днепровском плацдарме руку. Нюра была спортивная девушка, наверно, в этом все дело.
Я проехал еще один городок в долине – цепочка белых и серых каменных домиков по обе стороны чистенькой, вымощенной брусчаткой улицы. Как и везде, в этот день на балконах и в окнах ветер полоскал белые полотнища; людей, однако, было немного. Во дворах и кое-где на обочинах стояли наши армейские автомобили, возле лениво прохаживались немолодые офицеры – на новом месте устраивались службы тыла. Меня никто не остановил ни разу, не поинтересовался, куда и откуда еду. Что значит – конец войне! Когда она продолжалась – тут, за границей, или на своей земле, – за два-три километра от фронта невозможно было показаться – всюду заслоны, шлагбаумы, контроль и проверка. Даже раненому следовало иметь документ – карточку передового района. Кровавая рана еще ничего не значила. А нынче… Хотя все понятно – война ведь закончилась.
Вот и последний наш фронтовой городок – разбитой окраиной он неожиданно возник из-за поворота. Я переехал линию немецких окопов, потом своих. Знакомая улица, как и вчера, была завалена строительным мусором, уже основательно размельченным на асфальте колесами автомашин; по-прежнему воняло гарью недавних пожарищ. Этому не повезло в самом конце войны, как все же повезло тем, что лежали от него на запад. Судьбы городов напоминают судьбы людей в войну – никто не волен избежать уготованной ему участи. Жаль было этих красивых, благоустроенных городков, не одно столетие пестованных их жителями. Странно, когда шла война, такого чувства не возникало. Что означало – конец войне.
Я приближался к памятному полуразрушенному дому на повороте. Очень хотелось надеяться, что счастье не обманет меня… Вот наконец за речкой – знакомый кубик коттеджа. Сердце мое радостно забилось в груди, и в то же время что-то тревожно толкнуло изнутри. Калитка почему-то оказалась распахнутой. Всегда она была заперта, и я перелезал через нее. Бросив наземь велосипед, я подбежал ко входу. Но двери… Что это? Почему разломан их низ и огненной подпалиной чернеет стена? Еще не понимая, что случилось, я толкнул ногой разломанные половинки дверей и ступил в знакомый полумрак вестибюля.
И сразу увидел ее.
Ее маленькое тело неподвижно распласталось на каменных плитках посередине, там, где вчера стоял столик. Изо всей одежды на ней осталась лишь разодранная на груди кофточка; короткие русые волосы веером разметались вокруг головы, по остренькому подбородку стекла и запеклась тоненькая струйка сукровицы. Широко раскрытые глаза удивленно уставились в темень высокого потолка.
Не ощущая себя, я опустился рядом на корточки, непонимающе уставясь в ее застывшее личико, не зная, что делать – тихо заплакать или возопить от нестерпимого горя. Очень хотелось вопить – горько и безысходно, на весь белый свет. Но что толку с того, кто здесь мог услышать меня, понять страшную несправедливость этой смерти?
Когда немного отлегло, встал и впервые огляделся вокруг. В вестибюле царил погром. Дверцы шкафа были раскрыты, на полу в беспорядке валялись книги, рулоны каких-то бумаг. Легкие стульчики были разбросаны по всему вестибюлю; красивого столика не было видно. Два кожаных кресла, стоявшие возле стены, были сдвинуты со своих мест, из порезанных сидений торчали спирали пружин. Медленно отходя от внезапной прострации, я заглянул в раскрытую дверь кухни, где также все было разбросано, посуда разбита, мебель опрокинута. В следующем, более просторном помещении, наверно, размещалась столовая с длинным столом посредине и темными картинами на стенах. Огромная, украшенная золотой лепкой рама лежала на столе, картина из нее была небрежно вырезана. Из-за стола на паркете высовывались длинные ноги хозяина в черных, с лампасами брюках. Доктор Шарф был застрелен в голову, лужица крови растеклась от него до следующей двери. Слегка приоткрыв эту дверь, я почувствовал за ней препятствие; сквозь щель, однако, увидел на полу седенькую голову фрау Сабины, которая тоже была мертва.
Несколько минут я ходил среди этого дикого разгрома, машинально перебирая глазами разбросанные, истоптанные вещи, одежду, опрокинутую мебель, и не понимал ничего. Я был растерян и ошеломлен. Кто это сделал? За что? Что это – месть или ограбление? Или, может, политика? Снова вышел в вестибюль. Безразличная ко всему Франя тихонько лежала на прежнем месте. И я подумал: вот как окончилась ее юная жизнь! И когда? В самом конце войны, в радостный день победы. Когда у меня родилась надежда выжить, ей суждено было умереть.
Нестерпимо горько было видеть это неподвижное мертвое тело, наблюдать этот бедлам там, где еще недавно были чистота и порядок. За войну я немало насмотрелся на убитых, на развороченные взрывами тела – своих и немцев. Но там были мужчины, солдаты. Тут же лежало юное создание, моя несостоявшаяся любовь. Я ровненько сложил вдоль тела маленькие руки, сомкнул обнаженные, окровавленные ноги. Нелюди и гады! Гады и нелюди! Кто бы они ни были – свои или немцы. Коммунисты или фашисты. Да разверзнется земля и поглотит их! Однако напрасны мои проклятия, ничего уже изменить нельзя. Я поднял лежавшую рядом измятую скатерть и аккуратно накрыл ею Франю.
Но что было делать дальше, как пережить все это? Как плохо, что я оказался один, без солдат моего взвода. Оставалось одно – выйти на дорогу и обратиться к проезжающим мимо офицерам. Но кто из них поймет меня? На долгие объяснения у меня не было сил. Да и кому было дело до этой трагедии в богатом коттедже, произошедшей со старыми австрийцами и их юной служанкой?
По-видимому, надо было ехать в полк, но я не мог оставить в таком состоянии Франю и ее несчастных хозяев. Все-таки следовало что-то предпринять для них – последнее на этой земле.
Не представляя конкретно зачем, я побрел в город. Не по той разрушенной улице, по которой приехал сюда, – пошел переулками над речкой. Поврежденных обстрелом домов тут попадалось меньше, некоторые стояли с закрытыми ставнями и выглядели брошенными. Кое-где в цветниках под окнами пестрели первые весенние цветы, распускались гроздья сирени. За одним из таких расцветающих кустов возле входа копошился немолодой австриец в зеленой шляпе. Он подметал замусоренный взрывами двор и удивленно замер с большущей метлой в руках.
– Послушайте, там, в коттедже, убитые.
– Нике ферштейн, – повертел головой австриец.
– Ну, убитые, понимаете? Морд!
– Морд?
– Ну, морд. Там, в коттедже…
– Найн, найн! – энергично завертел головой человек. – Их цивиль, нейтраль мэнш. Найн…
Я молча направился дальше. Черт бы его взял, этого сторонника нейтралитета. То ли он не понял меня, то ли не захотел понять? Я перешел на другую сторону коротенького переулка. Как раз на углу за невысокой кирпичной оградкой разговаривали две женщины, и я окликнул их с улицы. Сперва к ограде подошла та, что была постарше, – грузная фрау в синем несвежем переднике. Потом к ней осторожно приблизилась та, что была помоложе, – худая и костлявая, в мужской одежде и брюках.
– Прошу прощения, фрау. Там – морд, понимаете? Ферштейн? Доктор Шарф унд фрау.
– Доктор Шарф! – ужаснулись женщины. – Морд?
– Ну. Убиты. И девушка, фроляйн.
Они негромко переговорили между собой, а я в который раз за войну пожалел, что когда-то без должного внимания относился к немецкому языку. Языку врагов.
Усердствовал по другим школьным предметам, а в том, который больше всего понадобился на войне, преуспел не слишком. Теперь стоял и молчал.
– Гер официр, кирхэ! Кирхэ, ферштейн? – обе враз стали показывать за угол соседнего дома.
Кажется, я их понял – надобно в кирху, позеленевший шпиль которой торчал вдали между уцелевших крыш. Еще не веря, что мне помогут, я побрел туда по переулкам. И в самом деле, спустя полчаса вышел к каменной ограде-стене. Поодаль высились старые, в узловатых сучьях деревья, и за неширокой аркой стал виден вход в кирху. Была она не очень большая, старая и какая-то очень мрачная с виду. С непреодоленной робостью я вошел вовнутрь, полумрак и прохлада тотчас объяли меня. В конце прохода между скамьями горело несколько свечей и слышалось тихое, вполголоса, пение. Ступив из-за колонны еще несколько шагов, увидел группку людей, стоявших возле открытых гробов, за ними с молитвенником в руках покачивался в молитве священник. Я догадался, что тут отпевали покойников, цивильных или военных, не было видно. Наверно, заметив постороннего, откуда-то сбоку появился человек в черном и вопросительно остановился передо мной.
– Святой отец, – дрогнувшим голосом сказал я. – Там морд! Доктор Шарф…
– Доктор Шарф? – переспросил священник, как мне показалось, чересчур спокойно. – Морд?
– Морд, – сказал я. – И девушка, фроляйн.
– Фроляйн? Драй морд?
– Драй морд.
Привычным движением двух пальцев священник обозначил крест на груди и что-то объяснил мне, хотя я и не понял что. Немного погодя догадался, что он предложил подождать. Я вышел из угнетающего полумрака кирхи и в который раз пытался понять – кто? Кто их убил – хозяев и девушку? Или они – случайные жертвы преступления, или налицо определенный преступный замысел? Может, виною всему привлекательный с виду коттедж? В недобрый час, наверно, получили его в наследство несчастные Шарфы. Хотя, подумав, нетрудно было догадаться, кто мог это сделать. Подобное случалось и не только на австрийской земле. В прошлом году на формировке под Луцком перед строем полка расстреляли двоих из транспортной роты. Они, вволю повеселившись, изнасиловали на хуторе женщину, убили ее сына-подростка. Правда, те не грабили, по-видимому, там нечего было грабить. Тут же появилась такая возможность и нашлись люди, готовые воспользоваться ею. Тем более в логове врага, где все позволено.
Бедная Франя! Спасалась от войны в Европе, но именно в Европе война и настигла ее. И убила. Но почему именно ее? Я же имел больше оснований для гибели, а вот жив.
В кирху прошли еще две женщины в черных шляпках с вуалями, удивленно поглядели на меня, как на существо, мало уместное в Божьем храме. Я и сам ощущал собственную тут неуместность, но я ждал. На какую-то обходительность, конечно, рассчитывать не приходилось. Хотя здесь не знали конкретно, кто учинил разбой в особняке доктора Шарфа, но, пожалуй, тоже догадывались. А может, и подозревали. Потому я терпеливо ждал возле кирхи. Когда уже почувствовал, что ожидание мое затянулось, откуда-то из переулка к арке подъехала фура. Два битюга, едва переставляя толстые ноги, покорно остановились напротив. С плоской платформы-фуры соскочил человек со свежевыбритым лицом, в синем берете на голове. Увидев меня, что-то замычал, замахал руками, и я догадался, что это – немой.
Из кирхи вышел священник, который уже разговаривал со мной.
– Он привозит вэрсторбэнэ[1]1
Покойники.
[Закрыть] кирхе бегрэбен[2]2
Хоронить.
[Закрыть], – сказал он.
На этот раз я понял его и вышел из-под арки. Немой, понукая лошадей, встряхнул ременными вожжами, и мы двинулись вдоль ограды. Я шел впереди, фура все время отставала. Наверно, я поспешал, а неповоротливые битюги не могли быстрее.
Все-таки мы добрели-доехали до злосчастного коттеджа. Тут все было по-прежнему, похоже, никто сюда не входил. Остановившись перед Франей, я приподнял скатерку. Увидев мертвое тело девушки, немец сдавленно вскрикнул, потом заговорил-замычал что-то, замахал руками, выражая тем жалость и возмущение. Я жалость и возмущение, как мог, подавлял в своей душе, обнаруживать их уже не имел силы. Вдвоем мы бережно положили убитую на скатерть и, слегка завернув ее, понесли на фуру. Тут уж я не мог сдержать слез, заплакал, не стесняясь немого. В который раз я проклинал все на свете, и себя в том числе. Зачем было оставлять ее здесь, надо было взять с собой. Но – неудобно было, постеснялся ребят, комбата, смершевца. Теперь вот не стесняюсь. Никого. Да что толку… После Франи таким же способом, на той же скатерти перенесли в фуру длинное тело доктора Шарфа и его фрау. На широкой фуре места хватило для всех. Немой прикрыл скатертью убитых, и мы двинулись тем же путем к кирхе. Немой с вожжами шел по одну сторону фуры, я по другую. Нашу печальную процессию провожали взглядами люди, малочисленные жители городка. Я же не смотрел никуда. Брел будто слепой, не замечая ни улицы, ни людей. Померкла для меня и недавно еще радостная победа. Кажется, я выпал из времени и перестал ощущать себя. Меня обманули. Люди, судьба или война. А быть может, победа, которую теперь праздновали без меня возле реки. Моим же уделом стал другой праздник. Черный праздник беды.
Мы подъехали к кирхе, когда оттуда выносили тех, кого уже отпели. Пришлось немного подождать, пока к фуре подойдут люди. Почти молча, без заметной печали они постояли перед телами убитых, о чем-то поговорили, повздыхали, несколько раз перекрестились. Я стоял рядом и ждал, что они обратятся ко мне. Возможно, с упреком или возмущением. Но меня они словно не замечали. Будто меня тут и не было. И я подумал: неужто они стольких похоронили, что их уже ничего больше не занимает? Хотя бы – кто и почему убил? Впрочем, что бы я им ответил? Что я знал? Несколько мужчин перенесли убитых в кирху, но я туда не пошел. Я отошел в сторонку и остановился в тени деревьев.
За кирхой вдоль каменной ограды расположилось небольшое старое кладбище. Аккуратно посыпанные щебнем дорожки, ровные ряды могил, старые надгробия со стертыми, едва заметными готическими надписями, невысокие лютеранские кресты из черного и серого камня. В дальнем конце кладбища, где не было деревьев, теперь хоронили. Раскопанная земля, несколько женщин в черных одеждах. Не там ли похоронят и Франю с ее хозяевами? Я хотел пойти посмотреть на то место, но не решился отлучиться от кирхи.
Я не знал, что происходило в кирхе, куда меня не звали и я не шел. Я все не мог совладать с собой. Временами готов был зарыдать, но не получалось. Что-то сдавило горло и не отпускало. И я ходил по дорожке взад-вперед. Люди, входящие в кирху или выходящие из нее, недоуменно поглядывали на меня. Но никто ни о чем не спросил, будто для них все это слишком буднично и привычно. И то, что хоронят, и то, что возле кирхи стоит советский офицер. А может, в том их равнодушии ко мне было определенное отношение? Вежливое презрение? Мне бы не хотелось так думать, но если и было именно так, то, по всей видимости, вполне заслуженно.
Впрочем, их отношение не очень меня занимало. Я думал только о Фране. Вспомнил ночной разговор с ней, ее невеселый рассказ о себе. А также слова, сказанные несчастным доктором Шарфом. Тогда я не возражал ему. Я думал, что, кроме всего прочего, война все-таки великая школа, и я кое-что понял на войне. Даже и в ее последние дни. Прежде всего, что ничего не следует бояться. На войне тебе ничего не сделают, кроме как убьют или ранят. И то и другое чересчур просто, почти банально. Кажется, однако, только после войны твою жизнь могут превратить в пекло. Когда не захочется и жить.
Может, спустя час или два меня позвали, и я понял, что настает самое важное. Сунув в карман снятую с головы пилотку, вошел в полумрак кирхи. Там уже ждали меня два священника. Худенькая белолицая монашка в черном платке выступала в роли переводчицы.
– Hex пан муви, як змерли тэ люди, – обратилась она ко мне почему-то по-польски.
Священники внимательно смотрели на меня.
– Я не видел, – хрипловато ответил я. – Когда я приехал, они уже были мертвые. Их убили.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































