Текст книги "От Баркова до Мандельштама"
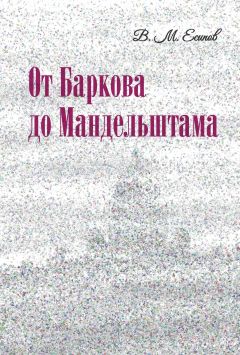
Автор книги: Виктор Есипов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
«Это наши проносятся тени…»
(Тема Мандельштама в творчестве Ахматовой 1940–1960 годов)
О дружбе, взаимовлиянии, поэтических перекличках двух выдающихся русских поэтов ХХ века написано немало. История их отношений запечатлена в «Листках из дневника» Анны Ахматовой, немало сведений об этом содержится в книгах воспоминаний Н. Я. Мандельштам, в воспоминаниях других современников.
Однако комментаторы и исследователи творчества Ахматовой 1940–1960 годов связывают с Мандельштамом лишь стихотворение «Я над ними склонюсь, как над чашей…», строку из которого мы выбрали для заглавия, и два места в «Поэме без героя».
Вот, пожалуй, и все. Причем и в том, и в другом случае поступить иначе они просто не могли: стихотворение имеет официальное посвящение Мандельштаму, а в поэме приводятся дата его смерти и его собственные слова из разговора с Ахматовой в 1934 году.
Несравненно большее внимание уделяют литературоведы Исайе Берлину, Николаю Пунину, Артуру Лурье, Алексею Козловскому, которых они в результате собственных (не всегда доказательных) интерпретаций объявляют героями целого ряда ее стихотворений и даже лирических циклов.
Получается несколько странная ситуация: ближайшему другу, союзнику и единомышленнику во всех литературно-общественных и житейских обстоятельствах, которого как поэта она ставила выше всех в своем поколении, в ее собственном творчестве уделено почему-то (в сравнении с другими ее друзьями и знакомыми) довольно скромное место.
Нам представляется, что дело здесь не в Ахматовой, а в интерпретаторах ее произведений: и в «Поэме без героя», и в ее поздней лирике с ним связано гораздо больше текстов и мотивов, чем принято считать. Именно это мы и постараемся показать в настоящих заметках.
1
В первой редакции «Поэмы без героя» количество отсылок к Мандельштаму едва ли не чрезмерно и, во всяком случае, они более значимы, чем в последующих редакциях, если учесть несравненно меньший объем этого варианта поэмы. Так, единственное здесь Посвящение завершается датой – 26 декабря 1940 года[227]227
Эта дата с незначительной корректировкой (27 декабря 1940) сохранится и в последующих редакциях поэмы.
[Закрыть]. Дата эта обозначает вторую годовщину со дня гибели поэта в концентрационном сталинском лагере, вернее, ее канун, предшествующий ей вечер. Ведь в справке, выданной Бауманским загсом Москвы брату поэта в июне 1940 года (за полгода до того, как к Ахматовой «пришла» поэма), значилось, что Мандельштам умер 27 декабря 1938 года[228]228
Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М.: Книга, 1989. С. 356.
[Закрыть]. С той же датой косвенно связан второй эпиграф ко всей поэме (из стихотворения 1917 года «Тот голос с тишиной великой споря…»):
Ведь «последняя зима перед войной» и есть зима (декабрь) 1940 года.
Конечно, более обоснованным представляется видеть в этом эпиграфе указание на другую предвоенную зиму – зиму 1913 года, ведь его наступление, новогодние торжества в честь его прихода и составляют действие первой части поэмы. Но и обращенность к зиме 1940 года тоже неотменима, недаром в прозаическом тексте, предваряющем последующие редакции, будет объявлено: «Я посвящаю поэму памяти первых ее слушателей – моих друзей и сограждан, погибших в Ленинграде во время осады. Их голоса я слышу и вспоминаю их отзывы теперь…»[230]230
Ахматова А. Указ. соч. С. 91.
[Закрыть] Таким образом, в эпиграфе сквозь зиму 1940 года видится зима 1913-го или наоборот…
В самом тексте Посвящения ряд деталей («на твоем пишу черновике», снежинка на моей руке», «ресницы Антиноя») также может быть связан с Мандельштамом, что и сделала в свое время Н. Я. Мандельштам: «В “Листках из дневника” А. А. (Анна Ахматова. – В. Е.) поминает ресницы О. М. (Осипа Мандельштама. – В. Е.). Их замечали все – они были невероятной длины <…> Они бросались в глаза. И сам О. М. ощущал их как какой-то добавочный орган: “Колют ресницы… ”, “Как будто я повис на собственных ресницах…” И про мои, удивляясь, очевидно, что они не такие, как у него: “Слабых, чующих ресниц…” А. А. считала, что если в стихах упомянуты ресницы, то это обязательно к О. М. <…> “таких ресниц ни у кого не было – если про ресницы, то это Ося…” И тогда я спросила про посвящение, уже не в первый раз: такой разговор уже когда-то был в Ташкенте, и А. А. сказала, что это, конечно, О. М.: “На чьем черновике я могла бы писать?” Наконец, снежинка. Я думала, что снежинка есть где-нибудь в стихах, и спрашивала об этом А. А.: “Она успокоила меня, что Ося сам знает”…»[231]231
Мандельштам Н. Я. Об Ахматовой. М.: Новое издательство, 2007. С. 167–168.
[Закрыть]
На последнюю фразу стоит обратить внимание: настоящее время глагола («знает») указывает на то, что Ахматова, и спустя несколько лет после гибели Мандельштама, продолжала говорить о нем как о живом…
Далее, первая главка первой части заканчивается словами Мандельштама, слышанными ею в феврале 1934 года, когда они вместе шли по Пречистенке – в этом Ахматова призналась лишь в 1963 году в «Листках из дневника»[232]232
Ахматова А. Сочинения.: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1990. С. 211.
[Закрыть]. Без ее признания читатели никогда не узнали бы, что это сказано Мандельштамом: ведь других свидетелей его откровения просто не было. Поэтому резонно предположить: одной из побудительных причин создания «Листков…» явилась необходимость дать еще одно, очень важное авторское пояснение к поэме.
Приведем текст этого завершающего первую главку фрагмента, отделенный в оригинале от остального ее текста тремя звездочками: Крик: «Героя на авансцену!»
Не волнуйтесь, дылде на смену
Непременно выйдет сейчас…
Что ж вы все убегаете вместе,
Словно каждый нашел по невесте,
Оставляя с глазу на глаз
Меня в сумраке с этой рамой,
Из которой глядит тот самый
До сих пор неоплаканный час.
Это все наплывает не сразу.
Как одну музыкальную фразу,
Слышу несколько сбивчивых слов.
После… лестницы плоской ступени,
Вспышка газа и в отдаленьи
Ясный голос: «Я к смерти готов»[233]233
Ахматова А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. С. 45.
[Закрыть].
Вчитаемся в текст: после «крика» персонажи разбегаются, оставляя автора «с глазу на глаз…» с «еще не оплаканным часом» какой– то невосполнимой потери, а затем звучит трагическое откровение Мандельштама. То есть завершающий стих (его подлинные слова) является логическим разрешением вызова первого стиха: «Героя на авансцену!», – и, значит, героем, отсутствующим в поэме Ахматовой, является Осип Мандельштам, а «до сих пор неоплаканный час» – дата его гибели.
Наконец, под завершающим первую часть поэмы Послесловием стоит та же дата, что и в начале поэмы, – 26 декабря 1940 года – дата его гибели, а в тексте Послесловия звучат такие стихи:
Какая «тема» может вырваться на волю, мы можем только догадываться: слом эпох, исторический катаклизм, гибель России?..
Ужасающе наглядным свидетельством всего этого была для Ахматовой, судя по дате под Послесловием, насильственная смерть ее ближайшего друга.
Таким образом, первая редакция поэмы связана с Мандельштамом очень тесно, можно даже сказать, что ее сквозным мотивом явилось невосполнимое для Ахматовой отсутствие Мандельштама в ее жизни.
2
Последующие редакции поэмы претерпели значительные изменения. Ввиду существенного увеличения объема всех ее частей, некоторой перестановки связанных с Мандельштамом фрагментов текста и других авторских приемов, о которых речь пойдет ниже, удельный вес упоминаний о нем сильно снижается. Тема Мандельштама, если позволительно здесь так выразиться, как бы уходит в тень. Рассмотрим подробнее, как это происходит.
Во-первых, снимается эпиграф из «Белой стаи» и дата смерти поэта под Послесловием, на которые мы обратили выше пристальное внимание. Столь очевидная в первой редакции связь с Мандельштамом авторского опасения в Послесловии «Ну, а вдруг как вырвется тема…» теперь исчезает.
Во-вторых, Посвящение, ставшее теперь Первым Посвящением, адресуется Всеволоду Князеву, что вызвало в свое время немалое недоумение вдовы поэта:
«Каким же образом на “Первом посвящении” стоит “Вс. К.”? Неужели в годовщину смерти О. М., дату которой она так подчеркивала, она вспомнила о другой смерти? Зачем ей тогда понадобилась эта дата? Может, она испугалась ассоциации с О. М. – узнают и откажутся печатать? Ей всегда казалось – и при жизни О. М., и после его смерти, – будто все на нас смотрят, если мы вместе: “опять вместе и в том же составе… ” Быть вместе ведь по тем временам – это почти государственное преступление <…> Этот самый страх мог заставить ее закамуфлировать “Первое посвящение”, но ручаться за это нельзя. Ей случалось переадресовывать стихи и посвящения, – и это тоже может служить объяснением»[235]235
Мандельштам Н. Я. Об Ахматовой. С. 168–169.
[Закрыть].
Недоумение Н. Я. Мандельштам совершенно очевидно.
Уместно привести здесь свидетельство В. М. Жирмунского, составителя, комментатора первого научного издания и давнего друга Ахматовой: «“Я на твоем пишу черновике” и “Темные ресницы Антиноя” не могут относиться к Князеву». Ахматова говорила Жирмунскому: «Антиной – не Князев»[236]236
Ахматова А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. С. 575.
[Закрыть]. Неслучайно, наверное, в последней редакции поэмы (1965) посвящение Князеву все-таки снято.
Так или иначе, Ахматова использовала здесь тот же прием, что и с «последней зимой перед войной» (эпиграф) в первой редакции, и, можно сказать, даже усовершенствовала его. Сквозь смерть Князева, выведенную теперь на передний план, просвечивает подспудно смерть Мандельштама, ведь дату его смерти под Первым Посвящением она сохранила!
То же и во фрагменте со знаменательной фразой Мандельштама «Я к смерти готов», первую редакцию которого мы уже цитировали. Для сравнения приведем окончательный текст этого места, выделив добавленные в окончательной редакции строки:
Крик:
«Героя на авансцену!»
Не волнуйтесь, дылде на смену
Непременно выйдет сейчас
И споет о священной мести…
Что ж вы все убегаете вместе,
Словно каждый нашел по невесте,
Оставляя с глазу на глаз
Меня в сумраке с черной рамой,
Из которой глядит тот самый,
Ставший наигорчайшей драмой
И еще не оплаканный час?
Это все наплывает не сразу.
Как одну музыкальную фразу
Слышу шепот: «Прощай! пора!»
Я оставлю тебя живою,
Но ты будешь моей вдовою,
Ты – Голубка, солнце, сестра!
На площадке две слитые тени…
После – лестницы плоской ступени,
Вопль: «Не надо!» – и в отдаленьи
Чистый голос:
«Я к смерти готов»[237]237
Ахматова А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. С. 176.
[Закрыть].
(Курсив Ахматовой. – В. Е.)
Теперь пространство между «криком» («Героя на авнсцену!») и этой фразой увеличено, включенные в конце пять строк сюжетно связаны с драматическим романом Всеволода Князева, то есть никакого отношения к Мандельштаму не имеют. Фрагмент перестал быть цельным, что подчеркнуто введением во второй его части авторского курсива. Как и в Первом Посвящении, смерть Мандельштама подспудно просвечивает сквозь выступившую на передний план смерть Князева.
Вот это и вызвало, как мы уже упоминали, отрицательную реакцию вдовы поэта:
«Ахматова, видимо, решила под конец слить Князева и Мандельштама, пропустив обоих через литературную мясорубку, вот и вышло, что она пишет на черновике Князева, а у гусарского корнета, может, и не было черновиков. Право на черновики надо еще заработать <…> Еще печальнее, если Ахматова пыталась сделать из Князева и Мандельштама нечто вроде двойников: два лика одного лица, один рано ушел, другой остался до конца. Эти два человека слиться не могут, и на слова «Я к смерти готов» тоже надо заработать право. Моя обида, что ради литературной игры Ахматова злоупотребляла словами Мандельштама и датой его смерти»[238]238
Мандельштам Н. Я. Вторая книга. С. 356.
[Закрыть].
Действительно, в более поздних редакциях, в отличие от первоначального варианта поэмы, Ахматова почему-то увела Мандельштама в тень Князева, спрятала его за Князевым, а его смерть спрятала за смертью Князева. Н. Я. Мандельштам назвала это «ложной уклончивостью» и пояснила: «Шкатулка с тройным дном имеет смысл, если в ней действительно можно что-нибудь спрятать, но во время обыска или после смерти все три дощечки вынимаются в один миг: что же там лежит?»[239]239
Мандельштам Н. Я. Вторая книга. С. 356.
[Закрыть]
Тут можно возразить, что не всегда «после смерти» автора «дощечки вынимаются в один миг». Напомним, например, четырехсотлетнюю тайну Шекспира, которой столь живо интересовалась Ахматова. В нашем же случае после смерти автора поэмы так и остается невыясненным: зачем потребовалось увести Мандельштама в тень Князева? Тем самым на Мандельштама и его смерть легла печать авторской тайны. И на вопрос Н. Я. Мандельштам («что же там лежит?») можно ответить: тайна. Тайна, связанная с Мандельштамом. Однако в чем суть этой тайны, мы не знаем.
В-третьих, написано и введено в текст поэмы Второе Посвящение, адресованное героине ее первой части Ольге Судейкиной, «Коломбине десятых годов», – парное с Первым Посвящением, адресованным Всеволоду Князеву.
В-четвертых, в окончательной редакции поэмы (1965) присутствует еще одно посвящение «Третье и Последнее», никому формально не адресованное, но безоговорочно относимое всеми пишущими о поэме к Исайе Берлину. О том же должна свидетельствовать дата под ним: 5 января 1956 года. Это десятая годовщина прощального визита Берлина в Фонтанный дом к Ахматовой в его первый приезд в Россию. Тут, правда, не все так безоговорочно, как представляется большинству комментаторов (5 января 1946 года – не канун православного Крещенья, о котором идет речь в тексте посвящения, а канун Рождества; «Чакона Баха» ассоциируется никак не с Берлиным, а с Артуром Лурье, который играл ее для Ахматовой в давние годы; «первая ветвь сирени» зимой в послеблокадном Ленинграде совершенно невероятна), – мы остановимся на этом подробнее в следующей главе.
В-пятых, в первой части появляется так называемое лирическое отступление, вводящее тему «гостя из будущего», которое, по справедливому замечанию той же Н. Я. Мандельштам, не содержит никакой тайны:
«“Гость из будущего” в поэме – совсем не таинственное создание, как говорят любители тройного дна. Это, во-первых, будущий читатель, во-вторых, вполне конкретный человек, чей приход в “Фонтанный дом” был одним из поводов к постановлению об Ахматовой и Зощенко»[240]240
Мандельштам Н. Я. Вторая книга. С. 360.
[Закрыть].
Таким образом, поэма в биографическом плане оказывается связанной, кроме Мандельштама, с еще одним лицом – Исайей Берлиным. Причем присутствие последнего совершенно явно и потому отмечается всеми комментаторами.
Но почему-то ни одним из комментаторов не отмечено, что и в тексте окончательной редакции поэмы есть место, позволяющее предполагать, что статус Мандельштама в поэме не изменился по сравнению с первым вариантом. Сделано это очень неявно – так, чтобы внимательный читатель мог только предполагать, но ничего не мог утверждать окончательно. Указанное место – начальные четыре стиха первой части, отсутствовавшие в первой редакции, – четыре стиха, с которых, собственно, и начинается поэма:
А что им предшествует? Поэтическое вступление («Из года сорокового…), три посвящения, на которых мы уже останавливались, и также отсутствовавшее в первой редакции прозаическое вступление «Вместо предисловия», которое начинается (как и Первое Посвящение!) с даты смерти Мандельштама: «Первый раз она (поэма. – В. Е.) пришла ко мне в Фонтанный Дом в ночь на 27 декабря 1940 года»[242]242
Там же. С. 165.
[Закрыть]. Это «пришла», относящееся к поэме в прозаическом вступлении, рифмуется по смыслу с «тобой, ко мне не пришедшим», в первых строках первой части.
Ведь дата «прихода поэмы», то есть дата смерти Мандельштама – 27 декабря 1940 года – это и есть канун Нового сорок первого года! Кто же, кроме Мандельштама, может быть «не пришедшим» в ту новогоднюю ночь, то есть в самое начало поэмы, если она «пришла» к автору в годовщину его смерти! То есть он, как и в первой редакции, герой, отсутствующий в поэме, а «Поэма без героя» – это поэма без Мандельштама, погибшего в сталинском лагере.
Однако никаких прямых подтверждений нашему суждению в дальнейшем тексте поэмы нет, и сама Ахматова никогда и никому не говорила, что «отсутствующий» герой в поэме – Мандельштам. Но если это не так, то как же могла она в течение 19 лет не замечать возможности подобной трактовки: и зачин первой части, и «Вместо предисловия» появились уже в редакции 1946 года, последняя редакция датирована 1965-м!
В результате и здесь угадываемые нами имя и смерть Мандельштама несут на себе определенную печать: они как будто бы являются предметом авторской тайны.
Есть таинственные неясности и в ее лирических стихах, связанные с памятью о Мандельштаме.
3
Таким, безусловно, является стихотворение 1957 года из цикла «Венок мертвым», имеющее посвящение «О. Мандельштаму»:
Я над ними склонюсь, как над чашей,
В них заветных заметок не счесть —
Окровавленной юности нашей
Это черная нежная весть.
Тем же воздухом, так же над бездной
Я дышала когда-то в ночи,
В той ночи и пустой, и железной,
Где напрасно зови и кричи.
О, как пряно дыханье гвоздики,
Мне когда-то приснившейся там, —
Это кружатся Эвридики,
Бык Европу везет по волнам.
Это наши проносятся тени
Над Невой, над Невой, над Невой,
Это плещет Нева о ступени,
Это пропуск в бессмертие твой.
Это ключики от квартиры,
О которой теперь ни гугу…
Это голос таинственной лиры,
На загробном гостящей лугу.
Выделенные строки, вернее первая из них, – отсылка к стихотворению Осипа Мандельштама 1931 года «Еще далеко мне до патриарха…», еще не известного читающей публике к моменту создания ахматовского стихотворения (впервые будет опубликовано в Нью– Йорке в 1961 году):
Когда подумаешь, чем связан с миром,
То сам себе не веришь: ерунда!
Полночный ключик от чужой квартиры…
Эта перекличка давно отмечается комментаторами. Но отмечается так, будто никакой биографической подосновы за выделенными строками, за самими «ключиками» («ключиком») от какой-то квартиры скрыто быть не может, будто они представляют собой лишь результат поэтического вымысла двух авторов. Даже если представить, что уважаемые комментаторы абсолютно правы, нельзя не видеть, что отсылка Ахматовой провоцировала будущего читателя (когда стихотворение Мандельштама будет наконец опубликовано на родине) искать здесь какую-то жизненную подоплеку. Для нее, столь тщательно редактировавшей все, что выходило из-под пера, такая неосмотрительность едва ли вероятна. К тому же в ее стихотворении есть и некоторая подробность о квартире, отсутствующая у Мандельштама: о ней «теперь ни гугу». То есть это квартира, чем-то памятная, но посторонние ничего о ней не знают и не узнают. Если бы речь шла просто о каком-то временном пристанище Мандельштама, ахматовское пояснение не имело бы никакого смысла: сколько таких пристанищ у него было! А вот об этой квартире «теперь ни гугу!». Да и разговорное это «ни гугу» употребляется обычно, когда имеется что-то не подлежащее разглашению. Какой-то конкретный, но не ясный для нас, смысл содержит и мандельштамовский эпитет к «ключику»: «полночный»… Таким образом, и в стихотворении, как в поэме, подается в качестве тайны нечто (событие, обстоятельство?) связанное с Мандельштамом. Да и само стихотворение несомненно связано с поэмой: в нем даны зримые детали того же 1913-го, последнего, «не календарного», по ахматовской формуле, года ХIХ века, в котором, еще не сознавая того, что находятся «над бездной», они дышали с Мандельштамом одним воздухом.
Детали действительно зримые: «кружатся Эвридики» – это постановка Всеволодом Мейерхольдом в Мариинском театре оперы Глюка «Орфей» с хороводом Эвридик (1911), «Бык Европу везет по волнам» – это картина Валентина Серова «Похищение Европы» (1910), «плещет Нева о ступени» – по-видимому, на набережной у Академии Художеств… В этом ряду и «ключики» представляются такими же зримыми. Любопытно, что среди различных вариантов стихотворения существовал и такой: «Первая и пятая строфы как отдельное стихотворение под загл. “Пожелтелые листы”, с посвящением О. М.»[243]243
Ахматова А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2, книга 1. С. 578.
[Закрыть].
В чем тут дело, почему «ключики» поданы столь таинственно, мы не знаем. Все, что нам положено знать об отношениях с Мандельштамом, сама Ахматова сообщила в «Листках из дневника».
4
Циклы «Сinque» и «Шиповник цветет» большинство комментаторов столь же безоговорочно, как посвящение «Третье и последнее» в «Поэме без героя» относит к Исайе Берлину, основываясь лишь на биографических сведениях: он дважды посетил Ахматову в конце 1945 – начале 1946 годов, а затем еще раз приезжал в Россию десять лет спустя. При этом анализ текстов, как правило, не производится, видимо, он представляется излишним. Все обоснование – в авторских датах под стихотворениями: в первом цикле четыре из пяти совпадают со временем пребывания Берлина в Ленинграде и в Москве, во втором значительная их часть – со временем второго его приезда в Россию. Во втором цикле, правда, есть еще тема «невстречи», которую интерпретируют исключительно как реальный, имевший место в действительности отказ Ахматовой от встречи с «иностранным господином».
В своей давней работе (1995), не лишенной, к сожалению (из-за отсутствия в те годы необходимой информации), ряда ошибочных утверждений, мы указывали на то, что попытка связать эти циклы именно с Берлиным (и ни с кем другим!) неоправданно упрощает их контекст и приводит к удручающе прямолинейной трактовке этих замечательных стихотворений[244]244
Есипов В. М. «Как времена Веспасиана…» // Есипов В. М. Пушкин в зеркале мифов. М.: Языки славянской культуры, 2006. С. 492–493.
[Закрыть].
На то же обращал внимание И. Гурвич в своем анализе лирики Ахматовой: «Скорее всего, мы имеем дело с условно-обобщенной фигурой, вобравшей в себя черты ряда реальных личностей»[245]245
Гурвич И. Любовная лирика Ахматовой (Целостность и эволюция) // Вопросы литературы. М., 1997. С. 35.
[Закрыть]. Одной из этих «реальных личностей» в цикле «Сinque» может быть Осип Мандельштам как «отсутствующий» в поэме герой. Ведь цикл связан с поэмой несколькими нитями.
Во-первых, следующими строками из стихотворения 4:
Или вышедший вдруг из рамы
Новогодний страшный портрет…
Во-вторых, это строки из стихотворения 5:
И какое незримое зарево
Нас до света сводило с ума?
В них повторен мотив эпиграфа к первой редакции «Поэмы без героя» – строки из оперы Моцарта «Дон Жуан» (либретто Л. Да Понте):
Отметим также перекличку начальных строк стихотворения 5 («Не дышали мы сонными маками / И своей мы не знаем вины») с другим авторским признанием, из приведенного выше стихотворения, посвященного Мандельштаму:
О, как пряно дыханье гвоздики,
Мне когда-то приснившейся там…
В-третьих, как и поэма, цикл обращен, по-нашему убеждению[247]247
См.: Есипов В. М. «Как времена Веспасиана…» С. 493–497.
[Закрыть], к ушедшему (а не к живому) другу. На это указывают, например, следующие строки из стихотворения 1:
Но живого и наяву,
Слышишь ты, как тебя зову.
На то же указывает и эпиграф ко всему циклу из стихотворения Бодлера «Мученица»:
В нем, конечно, не сопоставление себя с бодлеровской мученицей, обезглавленной любовником в порыве безудержной страсти, – такая экзальтация страдания (дамская экзальтация!) совершенно Ахматовой не свойственна. В нем – мотив смерти одного из любящих. Правда, ситуация «Мученицы» зеркально переиначена: мертв друг, жива «мученица». Прием этот весьма характерен для Ахматовой с ее первых поэтических шагов. Так в стихотворении «Сероглазый король» (1911), несомненно связанном с блоковским «Потемнели, поблекли залы…» (1903), произведена та же замена пола: вместо умирающей королевы у Блока – умерший король; вместо возлюбленного королевы, который «плакал, сжимая кольцо», – ахматовская героиня, оплакивающая смерть «сероглазого короля». В связи с этим сошлемся на указание А. Наймана, что этот прием характерен для всего творчества Ахматовой[249]249
Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М.: АСТ: Зебра Е, 2008. С. 84–85.
[Закрыть].
Обоснованность наших рассуждения о мотиве смерти в «Сinque» подтверждается эпиграфом к циклу «Шиповник цветет», где вновь неявно присутствует тот же мотив: строка эпиграфа взята на этот раз из поэмы Китса «Изабелла, или Горшок с базиликом».
В горшке с базиликом, напомним, героиня поэмы прятала голову своего злодейски убиенного возлюбленного, чтобы всегда быть рядом с нею. Кроме того, в стихотворении «Сон» («Был вещим этот сон или не вещим…»), входящем в цикл «Шиповник цветет», первоначально вместо названия стояла столь значимая в «Поэме без героя» дата: «27 декабря 1940»[250]250
Ахматова А. Сочинения.: В 2 т. Т. 1. С. 441.
[Закрыть], то есть вторая годовщина смерти Мандельштама.
Отмеченная устойчивость мотива смерти (убийства) в эпиграфах к двум циклам, конечно, не может быть случайной. Но комментаторы закрывают на это глаза…
Таким образом, учитывая безусловную связь цикла «Сinque» с поэмой, мы приходим к заключению, что и в нем в той или иной степени присутствует тема Мандельштама, наиболее отчетливо различимая, на наш взгляд, в стихотворении 5:
Не дышали мы сонными маками,
И своей мы не знаем вины.
Под какими же звездными знаками
Мы на горе себе рождены?
И какое кромешное варево
Поднесла нам январская тьма?
И какое незримое зарево
Нас до света сводило с ума?
Переклички этого стихотворения с поэмой (с ее первоначальным эпиграфом) и с имеющим ту же тональность стихотворением, посвященным Мандельштаму («Окровавленной юности нашей / Это черная нежная ветвь»), совершенно очевидна. Отметим еще, что первоначальным эпиграфом к циклу «Сinque» была строка из стихотворения Мандельштама «Мастерица виноватых взоров…». То есть, возможно, замышлялась та же игра с читателем, что и в поэме: цикл должен был открываться напоминанием о Мандельштаме! Впоследствии эпиграф был изменен, но в нем появился мотив смерти.
И вновь мы вынуждены признать, что и с циклом «Сinque» имеем ту же ситуацию, что была рассмотрена выше в связи с «Поэмой без героя» и со стихотворением, посвященным Мандельштаму: в них угадывается некая тайна, постигнуть которую нам не дано.
5
Что же касается авторских датировок под стихотворениями цикла «Сinque», то, не вдаваясь в пространные рассуждения, заметим: они нередко имеют у Ахматовой самостоятельное значение, никак не связанное с поэтическим текстом, под которым они поставлены. Приведем для примера дату «25 августа 1941» под поэтическим «Вступлением» к «Поэме без героя», где 25 августа – день гибели Гумилева – к самому поэтическому тексту вряд ли имеет непосредственное отношение. Под одной из редакций текста «Решки» стоит дата «5 января 1941»[251]251
Ахматова А. Сочинения.: В 2 т. Т. 1. С. 303.
[Закрыть], которая совпадает с датой под посвящением «Третьим и Последним» – 5 января 1956, обозначающей, очевидно, десятую годовщину посещения Берлиным Фонтанного Дома в 1946 году. Значит, и до знакомства с Берлиным день 5 января был для Ахматовой чем-то памятен, хотя непосредственного отношения к тексту «Решки», скорее всего, не имел. И наконец, еще один пример: под стихотворением «Слушая пение» стоит дата «19 декабря 1961 (Никола Зимний)»[252]252
Ахматова А. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1976. С. 305.
[Закрыть], день рождения Н. Н. Пунина. Стихотворение, быть может, действительно написано 19 декабря, и, записывая его, Ахматова помнила, что это день рождения Пунина, но стихи не о Пунине и вряд ли имеют к нему непосредственное отношение. Это совсем не та ситуация, что с датой смерти Мандельштама в «Поэме без героя», где она имеет функциональное значение, которое мы попытались обосновать.
Таким же образом, дата под стихотворением 1 цикла «Сinque» – «26 ноября 1945» – по-видимому, просто обозначающая день первого посещения Ахматовой Исайей Берлиным, по нашему представлению, никак не связана с его текстом, тем более что известен авторский перечень стихотворений, в котором оно датируется 27 октября 1945 года[253]253
Ахматова А. Сочинения.: В 2 т. Т. 2. С. 440.
[Закрыть], то есть на месяц раньше знакомства с Берлиным. Во всяком случае, «вспоминаю я речь твою» и «тебе от речи моей» подразумевает, конечно, поэтическую перекличку, а не ночную, пусть и очень продолжительную, беседу с гостем, сидящим напротив. Также «ни теперь, ни потом, ни тогда» предполагает длительную временную дистанцию в отношениях, а не одну ночь общения…
То же относится и к остальным датировкам стихотворений «Сinque»: их совпадение со временем пребывания Берлина в России не может служить достаточным доказательством того, что они обращены к нему. Это становится совершенно очевидным даже при самом беглом анализе поэтических текстов или, если выразиться проще, при внимательном и вдумчивом прочтении стихотворений.
Например, в стихотворении 4, строки которого мы уже цитировали, есть такая отсылка:
Что тебе на память оставить,
Тень мою? На что тебе тень?
Посвященье сожженной драмы,
От которой и пепла нет…
«Сожженная драма» – это, конечно, драма «Пролог, или Сон во сне», сожженная в 1944 году в Фонтанном Доме. В восстановленных по памяти или в написанных заново набросках стихотворной части драмы обратим внимание на следующие фрагменты.
Говорит она:
Никого нет в мире бесприютней,
И бездомнее, наверно, нет.
Для тебя я словно голос лютни
Сквозь загробный призрачный рассвет…
Говорит он:
Будь ты трижды ангелов прелестней,
Будь родной сестрой заречных ив,
Я убью тебя своею песней,
Кровь твою на землю не пролив…[254]254
Ахматова А. Стихотворения и поэмы. С. 334–335.
[Закрыть]
«Лютня» и «Загробный призрачный рассвет» – перекликаются с заключительной строфой стихотворения, посвященного Мандельштаму («Это голос таинственной лиры, на загробном гостящей лугу»). Это та же тема смерти, что отмечена нами в цикле «Сinque»: друг (возлюбленный) находится в загробном мире. А его обещание: «Я убью тебя своею песней», – свидетельствует о том, что он поэт. Не с ним ли связано на самом деле стихотворение 4? Во всяком случае, для такой его трактовки имеется гораздо больше оснований, чем для принятой сегодня большинством комментаторов.
В тех же набросках к «Прологу» находим еще кое-что о «нем»:
Говорит он:
Оттого, что я делил с тобою
Первозданный мрак,
Чьей бы ты ни сделалась женою,
Продолжался (я теперь не скрою)
Наш преступный брак.
Мы его скрывали друг от друга,
От себя, от Бога, от конца,
Помня место дантовского круга,
Словно лавр победного венца[255]255
Ахматова А. Стихотворения и поэмы. С. 336.
[Закрыть].
«Мы его скрывали друг от друга» означает, если здесь позволительны биографические параллели, что «он» – это не Гумилев, не Шилейко, не Пунин, ведь имеется в виду брак, не реализованный в житейском плане, воображаемый, виртуальный. Но и не Берлин («Чьей бы ты ни сделалась женою»), потому что после знакомства с ним ничьей женой она больше не становилась. Быть может, это как раз та самая «условно-обобщенная фигура», о которой вел речь И. Гурвич в упомянутой статье. А может быть, это реальный человек, поэт Осип Мандельштам?
Приведем здесь одно любопытное место из воспоминаний его вдовы.
«Меня в тайне всегда волнует один вопрос, и я однажды поделилась своей тревогой с А. А. Это про встречу – будем ли мы там вместе с О. М.?.. Но она тут же поставила меня на место: там никаких мужей и жен не будет – об этом сказано совершенно ясно (Мф 22: 30; Мк 12:25; Лк 20:35)… Вот этого я и боялась – она постарается “там” отнять у меня О. М., потому что “там” не действует мое единственное земное преимущество»[256]256
Мандельштам Н. Об Ахматовой. С. 175.
[Закрыть].
6
К «нему» же, казалось бы, можно отнести стихотворение «Через 23 года»:
Я гашу те заветные свечи,
Мой окончен волшебный вечер, —
Палачи, самозванцы, предтечи
И, увы, прокурорские речи,
Всё уходит – мне снишься ты.
Доплясавший свое пред ковчегом,
За дождем, за ветром, за снегом
Тень твоя над бессмертным брегом,
Голос твой из недр темноты.
И по имени! Как неустанно
Вслух зовешь меня снова… «Анна!»
Говоришь мне, как прежде, – «Ты».
13 мая 1963Комарово
Ведь если из даты, стоящей под стихами, вычесть 23 года, получим 1940-й, когда поэма впервые «пришла» к автору. О том же и первые четыре стиха – напоминание о поэме, из которых два первых соответствуют первым стихам собственно поэмы:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































